
- •Глава 1
- •Глава 2
- •Глава 3 Эпическая и лирическая поэзия
- •Лирическая поэзия и песни
- •Глава 4 Прикладные знания и язык Прикладные знания
- •Глава 5 Изоинформация, музыка и танцы
- •Глава 6 Хранение информации
- •Время хранения
- •Глава 7 Собирание и фиксирование информации
- •Глава 8 Хранители информации
- •Глава 9 Передача информации в вербальной форме
- •Глава 10
- •Визуальная информация
- •Звуковая информация и музыка
Глава 3 Эпическая и лирическая поэзия
Эпическая поэзия
Информация
в эпической поэзии существенно отличается
от других форм информации в бесписьменном
обществе. Это
связано с особенностями этого поэтического
жанра. Эпос
не всегда точен в передаче и трактовке
исторических фактов.
Это объясняется тем, что он исходит из
общественных
интересов и запросов того времени, когда
происходит его
исполнение. Это соображение особенно
весомое для эпохи,
когда данное эпическое произведение
еще не было зафиксировано
в письменной форме. С другой стороны,
даже в настоящее время, когда письменность
во всем мире существует
давно и уже началась техногенная эпоха,
не только поэзия
и литература в целом, но также научные
исследования,
несущие в себе историческую информацию,
бывают заражены
вирусом злободневности. В таких
произведениях информация о прошлом
может быть окрашена и даже искажена
в угоду интересам как авторов, так и
общества в целом или
его отдельных секторов.
Особенностью эпических поэм разных народов (нередко разделенных в географическом и хронологическом плане) является близость их стиля и композиции. Это может объясняться тем, что они создавались, сохранялись и исполнялись в обществе, которое не знало письма (19, с. 175). С другой стороны, эпические произведения не были сакральными или мифологическими. Они должны были доставлять удовольствие слушателям на протяжении многих веков. В бесписьменную эпоху, в отличие от сакральных и мифологических произведений, в них допускались изменения. Каждый поэт стремился выступить не только как исполнитель, но и как создатель нового: если не нового содержания, то новой трактовки известных фактов. Поэтому стилистика и трактовка информации в эпических произведениях колебались вместе с колебаниями в настроениях того общества, в которых эти произведения исполнялись.
Для эпических произведений, создаваемых на протяжении векоЕ! многими поколениями поэтов-исполнителей, были характерны большие объемы. Мерой для них обычно являются «Илиада» и «Одиссея». Однако эпосы других народов могут значительно превышать греческий опыт. Так, например, «Махабхарата» в восемь раз превышает «Илиаду» и «Одиссею» вместе взятых (примерно 85 тыс. шлок) (7, с. 26). Объем «Рамаяны» составляет около 24 тыс. шлок (19, с. 7).
Киргизский народный эпос «Манас», пропетый сказителем Саякбаем Каралаевым, содержит более 400 тыс. строк, а вариант Сагымбая Орозбакова — 250 тыс. строк (19, с. 26; 47, с. 420). «Алпамыш» узбекского сказителя Фазиля Юлдашева состоит из 14 тыс. строк. В 1934 г. М. Парри записал в Сербии от мусульманского певца Авдо Медедовича поэму в 120 тыс. строк (19, с. 26).
Для сохранения информации эпоса в сравнительно неизмененном состоянии большое значение имеет факт и время его письменной фиксации, которая является верхней границей бесписьменного состояния эпического произведения. С этим вопросом связана также проблема авторства и оригинального текста. Особенность эпоса в том, что в процессе его создания и исполнения существовало много авторов и оригиналов; практически столько авторов и оригиналов, сколько было исполнений. Эта концепция является основным выводом исследований эпической поэзии, проведенных в Сербии и Черногории М. Парри и А.Б. Лордом (85). Когда эпос фиксируется в письменной форме от какого-либо исполнителя — это один из оригиналов одного из авторов. В принципе произведение может продолжать свое развитие в устной форме, но письменный текст приобретает независимость от устного. Он собственно и становится основным объектом исследований, в том числе с точки зрения точности исторического содержания.
Исследования
М. Парри и А.Б. Лорда как бы воспроизвели
на живом материале то, что могло
происходить при записи
гомеровских поэм. «Илиада» и «Одиссея»
были записаны
в IX—VIII
вв., но певец, от которого они были
записаны,
опирался
на многовековую традицию исполнения
эпоса, который
относится к кругу исторических
повествований о походе ахейских войск
на Троянское царство после 1240 г. до
н. э. (30, с. 169). А. Б. Лорд рассматривает
возможные этапы
записи гомеровских поэм. По его мнению,
Гомер продиктовал
свой вариант поэм квалифицированному
писцу, но
это не была инициатива поэта. Сам Гомер
не нуждался в записи
и не считал ее необходимой для сохранения
текста. Поэмы
существовали много веков до Гомера, и
у певца устной
традиции, каким был Гомер, не было
сомнений, что они
будут сохраняться и далее в той же
бесписьменной форме.
Другое дело, что они могли бы исчезнуть,
если бы запись не
была осуществлена. Но что мог знать и
даже предполагать
об этом певец в VIII
в. до н. э. (85, с. 148—152)?
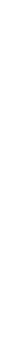
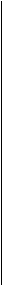
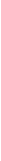
Аналогично описан процесс записи «Калевали». Это произошло благодаря тому, что собиратель народных песен — рун Элиас Лённрот в 1828— 1834 гг. совершил ряд путешествий, в том числе по территории российской Карелии. В 1834 г. в округе Вуоккиниеми Архангельской губернии он познакомился с восьмидесятилетним старцем Архипой Перттуненом, «патриархом певцов рун», который спел для него много песен и рассказал, как его дед вместе со своим другом пели руны у костра все ночи напролет. По мере записи перед собирателем проступали общие черты и темы песен, словно он бродил между драгоценными обломками разбившегося когда-то единого целого. И вот уже творческая фантазия собирателя, живое воображение сына народа, стала складывать и связывать эти обломки, составлять из них единую эпопею (34, с. 7—8). Запись киргизского эпоса «Манас» в двух вариантах произошла уже в XX в. (47, с. 420,424).
Историческая основа информации, которая содержится в эпосе, не вызывает принципиальных сомнений у исследователей. Изучение эпической поэзии разных народов показало, что она включает значительно преломленную, но определенную и по-своему достоверную историческую информацию. В эпосе нашли отражение «великие деяния
предков», эпоха героев и наибольшей народной славы (19, с. 162, 164). В центре внимания оказалось то, что представляло интерес для людей и племен древности: военные экспедиции предводителей с их дружинами, захват и дележ добычи, героическая смерть в поединке с неприятелем, слава подвигов при жизни и после смерти. Это жизнь народов в той стадии общественного строя, который иногда именуют военной демократией (24, с. 398; 47, с. 431).
В настоящее время историзм гомеровского эпоса уже не вызывает сомнений (см., например, работы Ю.В. Андреева) (2). Еще Л. Морган высказал мнение, что им можно пользоваться как путеводителем по древнему обществу (49, с. 22). А.И. Зайцев отмечает, что гомеровские поэмы сохранили как обломок праиндоевропейского примитивного героического эпоса словосочетание «неувядающая слава», характерное также для гимнов «Ригведы». В середине II тысячелетия до н. э. в греческую эпическую традицию вошло и сохранилось описание большого, «подобного башне» щита, закрывавшего воина с головы до ног. К раннемикенской эпохе восходит и упоминаемый в «Илиаде» кожаный шлем, украшенный кабаньими клыками. В послемикенскую эпоху таких щитов и шлемов не было в употреблении, и Гомер мог получить эту информацию только из поэтической традиции (24, с. 397). То же можно сказать о различных перечнях, или каталогах, людей, явлений и предметов: список дочерей Нерея, обширный каталог кораблей, войск и вождей ахейцев, перечисление троянских вождей и их союзников (19, с. 113).
Определенное историческое содержание «Махабхара- ты» и «Рамаяны» также признается в современной науке. В частности, историчность некоторых героев «Махабхара- ты» подтверждается упоминанием о них в ведийских самхи- тах и брахманах. В ведийской литературе упоминаются так же те племена, чьи распри составили содержание эпоса (19, с 158). Как отмечает Г. М. Бонгард-Левин, «было бы непра вильно говорить о достоверности описанных в эпосе конк ретных событий, но некоторые стороны социальной жизни, общий дух эпохи удается восстановить с достаточной степенью надежности». «Рамаяна» беднее историческими данными, но в ней также имеются сведения о государственном строе, общественных отношениях и повседневной жизни разных слоев населения (7, с. 26—27).
Для киргизского народа, который не имел письменности до 30-х гг. XX в., «Манас» был своего рода устной летописью и энциклопедическим собранием всех киргизских мифов, преданий и сказок, структурированных вокруг одного героя и его времени (47, с. 7—9). «От тех, кто жил прежде, осталось это слово», — вот первое прозаическое введение к эпическому тексту.
В «Манасе» сохраняется географическая информация об огромной территории, на которой разворачивается действие эпоса: от пустыни Гоби до Тибета, от Урала до Черного моря и т. д. В нем имеются разнообразные сведения о жизни народа его мировоззрении, обычаях и традициях. Из «Манаса» можно узнать, что киргизы поклонялись воде, горам, различным явлениям природы, небу, огню, солнцу, белому цвету, душам умерших и т.д. В обществе особо ценилось знание. Так, в эпосе дается высокая оценка одного из героев — Бакая, близкого по отцу родственника Манаса, — за его знание народных традиций. Это дает ему право быть арбитром в спорах и тяжбах не только между отдельными лицами, но также между родами и племенами (47, с. 432, 434).
«Калевала» также сохранила историческую информацию об эпохе родового строя вплоть до момента записи. Вот как сказано об этом в самом эпосе:
«Старый верный Вяйнямёйнен1 Проводил покойно время В чащах Вяйнелы2 зеленых, На полянах Калевалы1, Распевал свои он песни, Песни мудрости великой.
День за днем все пел он песни
И ночами распевал их,
Пел дела времен минувших,
Пел вещей происхожденье,
Что теперь ни малым детям,
Ни героям непонятно» (35, с. 52—53).
Важной информационной особенностью эпоса является смешение исторических пластов. Исследователь древнеиндийского эпоса П.А. Гринцер дает следующую характеристику этого явления:
«История, на которой основан эпос в целом, не тождественна конкретным историческим событиям. При этом и сохранностью архаических черт своего содержания, и более поздними аллюзиями, эпос прежде всего обязан устной традиции, которая, как и он, не принадлежит одному времени, но является достоянием многих сменяющих друг друга поколений. Каждый эпический певец следовал за своими предшественниками, а через них — за их предшественниками и т. д., но вольно или невольно он как-то откликался и на события своего времени, а этот новый его опыт, в свою очередь, переходил в наследство его преемникам. Именно поэтому индийская древность проступает в эпосе в столь причудливом конгломерате и смешении фактов. Поэтому также не только исторические реалии, но и буквально каждый компонент содержания и формы древнеиндийского эпоса в генезисе своем многослойны и многообразны...
На любом этапе бытования поэм эпический певец был вправе ввести в них новые эпизоды или использовать новые представления. Однако, с одной стороны, эти эпизоды адаптированы в соответствии с уже установившимися нормами эпического творчества, а с другой, по мере проникновения в эпос новых идей и концепций не могла не меняться — но меняться исподволь и постепенно — и окраска древнейших частей и разделов. Поэтому устный памятник, каким был так долго индийский эпос, несмотря на свою многослой-ность, всегда оставался целостным» (19, с. 171, 174).
В
качестве примеров такого слияния
различных фактов в
один можно привести также «Песнь о
Роланде» и сербские песни о битве на
Косовом поле. В «Песне о Роланде»
соединились
воспоминания о нескольких более ранних
и более
поздних поражениях французского войска
в той же местности,
а в песнях о битве на Косовом поле — не
только о
сражении 1389 г., но также о ряде других,
в том числе о битве
1457 г., когда Сербия окончательно потеряла
независимость
(15, с. 54).
Таким образом, устное эпическое произведение могло меняться даже в течение жизни одного певца, от исполнения к исполнению. Поэтому отношение к эпосу как к источнику исторической информации должно быть осторожным. Эта позиция еще больше усиливается в связи с тем, что поэтическое произведение также рассчитано на эстетическое удовольствие, которое оно доставляет слушателям. Это уже не летопись и не сакральный текст, а художественное произведение со своими правилами использования и представления информации.
