
- •Глава 1
- •Глава 2
- •Глава 3 Эпическая и лирическая поэзия
- •Лирическая поэзия и песни
- •Глава 4 Прикладные знания и язык Прикладные знания
- •Глава 5 Изоинформация, музыка и танцы
- •Глава 6 Хранение информации
- •Время хранения
- •Глава 7 Собирание и фиксирование информации
- •Глава 8 Хранители информации
- •Глава 9 Передача информации в вербальной форме
- •Глава 10
- •Визуальная информация
- •Звуковая информация и музыка
В начале XXI в. стало ясно, что информационная деятельность — инфосфера человечества — стала определяющим фактором глобального развития (28, с. 11). До этого она существовала в значительной мере в тени и признавалась скорее как фон, а не как движущая сила эволюции. В новейшее время положение кардинально изменилось в русле всеобщей информатизации, и информационная деятельность встала в один ряд с другими важнейшими составными частями общественной жизни — религией, политикой, экономикой, наукой и искусством. В результате неизбежно должен был возникнуть интерес к ее истории, к вопросу о том, каким образом и в течение какого времени информационная деятельность стала такой, какой она является сейчас.
Цивилизационное поле информационной деятельности постоянно увеличивалось. Ничто не пропадало, хотя могло уходить на задний план. Переход от одной системы к дру-гой не отрицал предшествующую, но вбирал в себя ее основные достижения. Поэтому для понимания современной цивилизации, состояния ее информационной деятельности важно осознать, что общие черты с ней были и у того состояния общества, которое не называется цивилизацией (103, с. 2). В настоящее время принято считать, что цивилизация началась с изобретения письменности, а предшествующий период — с того времени, когда человечество отделилось от остальной части живой природы.
В свою очередь, после появления письма в зависимости от состояния инфосферы цивилизация вновь и вновь подразделялась на этапы развития, важнейшие из которых были следствием изобретения печатного станка и компью- тера. В границах этих основных этапов, отличных по времени для разных стран и народов, достижения в инфосфере способствовали последовательной эволюции цивилизации. А если это так, то определение состояния информационной деятельности может служить одним из индикаторов степени развития цивилизации, страны и народа на определенных этапах их эволюции.
Задача настоящего исследования — установление пространственных и временных границ этих этапов и фиксирование явлений информационной деятельности, которые привели к их возникновению и дальнейшему развитию. С этой точки зрения исследование является не столько историческим, сколько эволюционным. История предполагает освещение во времени по возможности всех, в том числе повторяющихся по содержанию, фактов со всей возможной полнотой. Для эволюционного исследования важно установить возникновение нового явления и путь его развития вплоть до настоящего времени. Если же это явление не сохранилось в какой-либо форме, то сам факт и время его исчезновения необходимо отметить как индикатор состояния информационной деятельности и цивилизации в целом. Таким образом, временной исторический элемент, безусловно, присутствует, но он является вспомогательным, а не определяющим. Эволюция является своего рода моделью, на основании которой может быть создана история со всей совокупностью и детализацией ее фактов. «Эволюция» — это программа «Истории», которая должна наполнить ее фактографическим материалом.
Современные науки подтверждают оправданность эволюционного подхода. Так, А.А. Велик в своей работе «Культурология: антропологические теории культур» отмечает, что культурология возникла в том числе благодаря утверждению эволюционного мировоззрения в результате появления космогонической гипотезы И. Канта (1755) и П. Лапласа (1796) в астрономии, эволюционного подхода Ч. Хайеля (1830—1833) в геологии и др. Особое значение имело применение принципа развития в биологии Ж. Ламарком (1809)
и К. Бэром (1829— 1837) и построение общеорганической теории эволюции Ч. Дарвиным и А. Уоллесом (50-е гг. XIX в.) (3, с. 24).
Э. Эванс-Причард в «Истории антропологической мысли» отметил, что «частью вклада Конта1 в социальные исследования было осознание непреложного факта: если мы хотим понять общественные явления, мы должны признать, что последние всегда находятся в движении и могут изучаться только с такой точки зрения. Прошлое находится в настоящем, а настоящее — в будущем. Как однажды перефразировал Конта Леви-Брюль2: „Человек обретает знание о себе самом, когда он ставит себя назад на путь эволюции человечества"» (72, с. 67).
В.П. Алексеев и А.И. Першиц в «Истории первобытного общества» обращают внимание на то, что «множество явлений человеческой жизни, в том числе и современной жизни, возникло или стало возникать в седой древности первобытного общества. Некоторые из них: жилище и одежда, земледелие и скотоводство ... полезные знания, искусство и религиозные верования. Чтобы правильно разобраться в эволюции ряда элементов материальной культуры, социальных норм и идеологических представлений, часто приходится обращаться к их истокам. В этом познавательное значение первобытной истории» (1, с. 4).
Характерной чертой первобытного общества является почти полное отсутствие письменности. Это имеет особое значение для изучения информационной деятельности. Ее история в бесписьменный период является в значительной мере реконструкцией на основании данных археологии, антропологии и этнографии. Тем не менее многие элементы и некоторые памятники бесписьменной информационной деятельности сохранились до нашего времени, и они будут рассмотрены в ходе исследования.
Интерес к истории, как к общей, так и к отраслевой, отличался в разные времена, у разных народов и в разных отраслях знания. Современный человек представляет себе историю в основном в письменной или за последнее время в сетевой форме. Однако важной является и устная история, так как она частично формирует мышление живущих людей (79, с. 278). Упор на современность — это уход в прагматизм в отличие от цивилизованного историзма. Для примитивного, в том числе первобытного, человека все, что было ранее, продолжает существовать при его жизни. Напротив, цивилизованный человек признает эволюцию с ее последовательными изменениями и историческими периодами. Поэтому изучение эволюции информационной деятельности — это исторический цивилизационный подход к формулировке современного мировоззрения в инфосфере. Индикатором этого интереса является проведение международной конференции «Эволюция инфосферы» в Российской академии наук в середине 90-х гг. (28, с. 3).
Для настоящего исследования эволюционный подход принят также потому, что источники и литература по информационной деятельности во всех ее проявлениях, во все времена, во всех странах, у всех народов и на всех языках просто необозримы. Для их охвата и анализа необходимы коллективные усилия, возможно даже в виде деятельности национальных и международных обществ. В то же время движение к этому идеальному состоянию целесообразно начать. Эволюционное исследование является кратким предварительным подведением итогов и созданием своего рода программы будущих работ. На его основе можно будет планировать и осуществлять исследования по истории информационной деятельности в целом и по частям (периоды, страны, народы, языки, отрасли).
Инфосфера возникла в результате перехода человечества из биосферы в ноосферу (сферу разума1). Термин «ноосфера» был введен в 20-х гг. XX в. для обозначения сферы
взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная человеческая деятельность стала определяющим фактором (28, с. 11). Однако разум не мог существовать без информации и обмена ею. Информация пронизывала все. Она являлась носителем намерений и действий, служила средством передачи сообщений от одного субъекта другому, от субъекта общности, от общности субъекту и от одного поколения другому. Поэтому одновременно с мышлением возникли язык и речь. Это был важнейший скачок в формировании человека современного вида (homo sapiens4) (I, с. 85-88; 70, с. 235).
Общение при помощи речи является вербальным (словесным). Кроме того информация может выражаться при помощи звуков, образов и пространства. Наиболее известными из этих средств информации являются звуковые сигналы и музыка; телодвижения и танцы; различные изображения, визуальные сигналы, мнемонические приемы и в конечном счете все виды изоискусства; различные пространственные сооружения и архитектура. Как часть живой природы человек сохраняет также ряд других невербальных средств выражения информации: эмоционально-жестовая информация; обонятельная информация (запахи), тактильная информация (прикосновения к телу) и визуальная информация (фиксация внимания на внешне воспринимаемых формах) (3, с. 206).
Членораздельная
речь характерна только для человека,
но
другие, невербальные способы выражения
информации в
определенной степени встречаются также
в мире растений и
животных. Так, например, на основании
многочисленных опытов
известно, что растения и животные
реагируют на музыку.
Среди растений это особенно кукуруза,
тыква, петуния и др.: изменение величины
листьев и корней, наклон стебля,
вес биомассы и т. д. Причем растения
по-разному реагируют
на различные виды музыки. Из животных
активно
реагируют на музыку (издаванием звуков,
теледвижениями)
собаки, волки, тюлени, слоны и многие
другие. На это обратил внимание еще Ч.
Дарвин. На основании своих наблюдений
он пришел к выводу о том, что «предки
человека, по-видимому,
издавали музыкальные тона до того, как
они приобрели
способность к членораздельной речи »5
(36, с. 89— 90).
Это подтверждается также тем, что у
детей способность издавать
музыкальные звуки предшествует
членораздельной
речи (26, с. 12).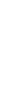
С другой стороны, нарушение процесса коммуникации и обмена информацией как у человека, так и в мире животных, ведет к нарушению жизненных устоев, к враждебности и агрессивности (4, с. 84; 3, с. 210).
В настоящем исследовании объектом изучения является та информация, которую человеку нужно знать и помнить. Поэтому информация находится в прямой связи со знанием. Разница между знанием и информацией заключается в том, что они характеризуют человеческое познание с разных сторон: знание — с гносеологической, информация — в основном с коммуникативной. Информация — это знание, которое существует не только для данного человека, но и для других людей (60, с. 31). Соответственно увеличение объема знаний ведет к увеличению информационной деятельности, т. е. между знанием и информационной деятельностью имеется определенная зависимость. Одно является индикатором для оценки состояния другого.
Информационная деятельность — это деятельность людей по операциям с информацией. До начала операций информация должна быть создана, т. е., как было показано выше, знание предшествует информационной деятельности. После получения информации потребителями она может быть использована. Операции с информацией могут осуществляться между ее созданием и использованием, а
для этого необходимы два основных процесса — сохранение и передача информации. Оба процесса сложные по своей структуре. Сохранение информации предполагает ее собирание, обработку и хранение для будущей передачи. Примером может послужить библиотека с ее основными технологическими процессами: комплектованием, каталогизацией и хранением. Передача информации может быть в одном направлении — от адресанта адресату, а может быть в форме поиска, когда сначала передается запрос в хранилище информации и затем из него поступает ответ.
Сохранение информации — это организация памяти, в которой находятся сведения, необходимые для человека или общества. Первоначально память была устной. По мере развития, особенно после изобретения письменности, информацию стали фиксировать в виде документов (надписи, договоры, хозяйственные документы, книги и т. д.), а затем в виде собраний документов (архивы и библиотеки). Необходимость веще более надежной фиксации документов и их собраний для долговременного хранения и последующей передачи возможным потребителям привела к возникновению вспомогательного аппарата в книгах и других документах, каталогов в архивах и библиотеках и в конечном счете библиографии. Таким образом, кроме первичной информации возникла вторичная. У вторичной информации обнаружились дополнительные преимущества. Она не только фиксировала первичную информацию. Оказалось, что потребитель сначала мог работать только со вторичной информацией, а затем с ее помощью направлять запрос в хранение для получения первичной информации. Кроме того, в ходе эволюции информационной деятельности стало очевидным, что все эти операции могут осуществляться независимо от формы ее фиксации (устная или бесписьменная, рукописная, полиграфическая и электронная).
Формы фиксации информации были результатом четырех информационных революций, орудиями которых были язык (речь), письменность, печатный станок и компьютер. Возникновение этих орудий было подобно взрыву, за которым следовала постепенная реализация результата. Вот как писал об этом процессе эволюции Ю.М. Лотман: «Постепенные процессы обладают мощной силой прогресса. В этом смысле интересно соотношение научных открытий и технических реализаций. Величайшие научные идеи, в определенном смысле сходные искусству: происхождение их подобно взрыву. Техническая реализация новых идей развивается по законам постоянной динамики» (42, с. 18).
В зависимости от способа фиксации информации в эволюции информационной деятельности можно установить четыре основных этапа: устный бесписьменный, рукописный, полиграфический и электронный (или техногенный). Для этих этапов можно установить только нижние границы, т. е. время взрыва или начала развития. Бесписьменный этап возник около двух миллионов лет назад. Его началом было само появление человека. Сейчас признано, что древнейшие люди жили в Африке. Костные останки зинджант-ропа (ок. 1 750 000 лет) были найдены в ущелье Олдовай, расположенном в Танзании примерно на полпути между озером Виктория и Килиманджаро (44, с. 28, 30). В дальнейшем люди распространились по всей планете. Развитые разговорные языки возникли около 100 тыс. лет назад (77, с. 130). Рукописный этап связан с появлением письменности, древнейшие памятники которой возникли около 5000 лет назад в древнем Египте. Начало полиграфического периода определяется появлением печатного станка около 500 лет назад и техногенного (электронного) — изобретением компьютера около 50 лет назад. Таким образом, нижние границы этапов эволюции информационной деятельности достаточно условно определяются следующими годами: 2 000 000/100 000 - 5000 - 500 - 50 Верхних границ эти этапы не имеют, или, точнее, их верхней границей является современность, так как информационные достижения всех этапов сохраняют свое значение до настоящего времени.
Соответственно, исследование разделено на четыре хронологические части: бесписьменное общество, рукописная информация, полиграфическая информация и техно генная информация. Настоящая книга посвящена эволю ции информационной деятельности в бесписьменном об ществе.
Глава 1
Информационная деятельность в бесписьменном обществе
Объектом исследования является бесписьменное общество. Оно включает в себя первобытное общество, начало которого простирается приблизительно на два миллиона лет в прошлое, а также все народы и племена, которые в течение разного времени оставались или до сих пор остаются бесписьменными. Необходимо еще раз подчеркнуть, что верхняя граница первобытного общества находится в пределах последних 5000 лет с отличиями для отдельных континентов, стран и народов. Наиболее продвинутые общества перешли эту границу около 5000 лет назад, в то время как отставшие в своем развитии оставались первобытными, или примитивными, как их сейчас иногда принято называть, вплоть до настоящего времени1 (1, с. 12). Исследование является анализом информационной деятельности не только в том первобытном обществе, которое сменили древние государства. Объектами изучения были все бесписьменные культуры, даже если они бытуют как острова в современном мире.
В антропологии, начиная с XVIII в., изучение современных примитивных народов рассматривалось как метод получения сведений о первобытном обществе и бесписьмен-
ной
культуре. Этот метод, необходимый для
проведения исторической
реконструкции ранних фаз развития
человечества,
Э. Эванс-Причард называл гипотетической
историей. В
соответствии с ним, каждая фаза истории
современного общества
могла бы быть изучением наблюдения за
народами,
до сих пор живущими на различных стадиях
исторического
процесса (72, с. 41—42).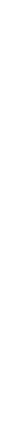

Такой анализ может быть оправдан определенным сходством в культуре разных народов, живших в разное время. Одинаковые общественные структуры возникали во многих странах и у многих народов на всех континентах. Это объясняется биологическим сходством всех людей как вида, одинаковым мышлением, реакциями и стремлением организовать свою жизнь. Результаты исследований и наблюдений отражались в трудах не только по археологии и истории, но также по антропологии и этнографии народов Африки, Океании, Америки и практически всех остальных континентов и стран мира в разные эпохи (см., например: 49, с. 329; 94, с. 1182; 99, с. VII—VIII; 103, с. 2).
Сходство как следствие передачи информации объяснялось также диффузией культур в результате передвижения народов и идей. Это касается даже традиционно замкнутых обществ. Так, например, расписная керамика и навыки выращивания зерновых культур в бассейне Хуанхэ в VI—Vтысячелетиях до н. э. (культура Яншао), несмотря на возражения, по-прежнему свидетельствуют о том, что культура Яншао получила информацию об этих достижениях от более ранних западных культур Евразии. То же относится и к эпохе Шан-Инь2. Шанцы были монголоидами, которые также имели определенную традицию миграции. Когда были обнаружены шанские колесницы, запряженные лошадьми и подобные индоевропейским, возникали обоснованные предположения о том, что индоевропейские племена, которые мигрировали в сторону Средней Азии в середине II тысячелетия до н. э., могли сыграть определенную роль в процессе генезиса китайской цивилизации. Ведь ни лошадей, ни колесниц дошанский Китай не знал (14, с. 182-183, 237-238).
Допускается также предположение о взаимовлияниях Америки, Полинезии, Меланезии, Индонезии и юго-восточной Азии (89, с. 23). Не говоря уже о том, что Америка была заселена протомонголоидами через Аляску к концу последнего ледникового периода около 15—12 тыс. лет назад (16, с. 83-84; 89, с. 24).
Даже до сравнительно недавнего времени в мире оставались совершенно неизвестные архаичные бесписьменные общества. Их сохранность объяснялась тем, что об их существовании ничего не было известно остальному миру. Так, если для населения Марианских островов (Микронезия) доевропейский традиционный период закончился в 1521 г., когда там появился Магеллан, то для полумиллиона жителей высокогорья Новой Гвинеи это состояние продлилось до 20—30-х гг. XX в., когда они были обнаружены в ходе переписи населения (94, с. 27).
В настоящее время известно более 600 традиционных обществ. Сведения о них включены в компьютерный банк данных «Ареальная картотека человеческих отношений» (Human relations Area Files) и в «Этнографический атлас» Дж. Мердока. Наиболее широко известны первобытные племена Южной .Америки, Африки и Австралии. Так, в бразильской сельве 1/5 племен индейцев не имеют постоянных контактов с неиндейским населением, ведет первобытное хозяйство и сохраняет первобытную культуру. В 60-х гг. XX в. на о. Минданао (Филиппины) в отдаленных горных лесах было открыто племя тасадай, которое пользовалось каменными и бамбуковыми орудиями. Объектами изучения были бушмены и пигмеи в Африке, аборигены в Австралии и другие племена, сохранившие архаические традиции. В Бразилии для первобытных племен были созданы заповедные национальные парки Шингу и Яноама (1, с. 299; 3, с 15; 11, с. 32, 61; 81, с. 521 и др.). Все эти племена наряду с другими традициями сохраняли методы информационной деятельности в соответствии с их материальной и социальной культурой на бесписьменном уровне.
Появление речи как средства коммуникации, имело кардинальное значение для эволюции человека (83, с. 96). В дальнейшем устное слово обычно предшествовало записи. В качестве примеров можно привести такие известные памятники, как Лунь юй и Талмуд (51, с. 1; 71, с. 1, 10—11, 24—26). Слово рассматривалось как творческая космическая сила: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Бытие 1:3). История выражается в слове. Ее невозможно передать без слов. Слова — это закрепленный опыт, закрепленное знание (38, с. 21).
В древней Индии речь считали самостоятельной силой, которая хранит нечто таинственное и могущественное. Шрути (услышанное) было результатом божественного откровения в противоположность смрити (заполненность). Шрути и смрити соответствовали веды и предания, которые включали более поздние этикоправовые предписания и ритуальные тексты (7, с. 17, 83).
В «Ригведе» Божественная Речь персонифицируется в виде богини Вач (vac—f. «слово», «речь»). Ей посвящен гимн X. 125, в котором она провозглашается космогоническим принципом (ср. Бытие 1.3) (22, с. 480). В «Ригведе» есть еще два гимна, имеющих отношение к Речи. Они посвящены Сарасвати и Брихаспати. В гимне 1.3 Сарасвати воспевается как богиня священной речи и молитвы и как речная богиня:
10 Чистая Сарасвати, Награждающая наградами,
Да возжелает.жертвы нашей, мыслью добывающая богатство!
11 Побуждающая к богатым дарам, Настроенная на благодеяния, Сарасвати приняла жертву.
12 Великий поток освещает Сарасвати (своим) знаменем. Она господствует надо всеми молитвами (1.3, 10—12).
Гимн Х.71, посвященный содружеству певцов-риши, открывается обращением к Брихаспати, богу — покровителю молитвы, жрецу и певцу:
«О Брихаспати, первое начало речи (возникло). Когда они пришли в действие, давая имена (вещам). Что было у них лучшего, незапятнанного, Что было скрыто в них, стало проявленным с
помощью любви» (X. 71,1).
Письменность увеличила значение речи как основного информационного канала. Информационная деятельность выделилась в отдельную сферу жизни, «в самостоятельную систему кодов, отличную от действенного контекста» (55, с. 11). Общества, которые пользовались в своей информационной деятельности письменностью, приобретали определенные преимущества над бесписьменными и стали вытеснять их с цивилизационного поля. Несмотря на это, из 4000—5000 ныне существующих языков более 2000 продолжают оставаться бесписьменными (81, с. 228). Это является одним из индикаторов степени развития общества.
Письмо
дополняет речь как средство коммуникации.
Оно
возникает тогда, когда устное общение
становится недостаточным, когда
возникает необходимость в надежном
закреплении
информации и передаче ее на большие
расстояния
(31, с. 74). Это в значительной мере связано
с переходом
от общинно-родового строя к современным
формам цивилизации
(город, государство) (70, с. 262). Именно
государства
особенно нуждались в письме как средстве
упорядочения
и закрепления информации в системах
управления,
хозяйственного учета, статистики, культа
и права (31, с.
103—104). Государства функционировали как
информационно-коммуникативные
системы (48, с. 7). Поэтому нередко даты
возникновения государств и письменности
совпадали.
Это
отмечено многими специалистами для
различных континентов,
стран и эпох (1, с. 284—286; 14, с. 85; 25, с. 14; 37,
с. 156 и др.).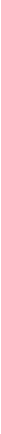
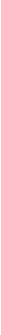
Эпохи перехода от первобытного общества к цивилизованному достаточно хорошо известны. Это конец IV тысячелетия до н. э. для Египта и Месопотамии, середина Ш тысячелетия — для Индии, II тысячелетие — для бассейна Эгейского моря, Малой Азии, Финикии, Южной Аравии и Китая, I тысячелетие до н. э. — для Старого света, Центральной и Южной Америки (1,с. 290; 81, с. 10; см. также гистограмму в 104, т. 2, с. 21).
Связь между возникновением государства и письменностью нашла выражение в XX в. на Кавказе и в Средней Азии. В досоветский период большинство языков Кавказа были бесписьменными. Исключение составляли армяне, грузины и осетины (11, с. 259; 41, с. 307). После образования государств многие народы получили также письменность. То же происходило и в Средней Азии. До 30-х гг. XX в. киргизский народ не имел письменной культуры (47, с. 7).
Если письменность побеждала, то время этой победы является верхней временной границей настоящего исследования. Если же, несмотря на общую победу письменности, те или иные формы устной информационной деятельности продолжают существовать, то связанные с этим явления подлежат рассмотрению. Они были характерны для бесписьменного состояния общества, но сохраняют свою информационную ценность до сих пор.
Параллели в датировке эпох, когда возникли государство и письменность, не всегда возможны. Государства могли оставаться бесписьменными, а иногда они погибали, и вместе с ними исчезала их письменность. В результате на той же территории вновь возникало бесписьменное общество, которое иногда продолжало свое существование в течение длительного времени.
К бесписьменным государствам относится империя инков в Южной Америке (начало ок. 1200 г. н. э.), которая была последним этапом доевропейского развития Андско-
го региона (83, с. 35; 89, с. 111, 280). Образцы какой-либо письменности инков не сохранились, хотя имеются сведения, что на полотнах, вставленных в золотые рамы, существовали записи преданий и религиозных мифов. Их могли уничтожить испанцы (11, с. 189). Кипу были мнемонической системой, а не письменностью, и вопрос о них будет рассмотрен в дальнейшем.
Как же произошло, что развитое государство обошлось без письменности на протяжении нескольких веков? Возможно ответ на этот вопрос даст Ю.М. Лотман, который отмечает два фактора, делающие письменность излишней для государственных нужд:
Стабильность внешних и внутренних условий.
Упор на сохранение, а не на умножение числа текстов (43, с. 5, 11).
Далее он разъясняет свои выводы.
1. «Для того, чтобы письменность сделалась необходимой, требуются нестабильность исторических условий, динамизм и непредсказуемость обстоятельств и потребность в постоянных семиотических переводах, возникающая при частых и длительных контактах с иноэтнической средой. В этом отношении пространство между Балканами и Северной Африкой, Ближний и Средний Восток, побережье Черного и Средиземного морей, с одной стороны, и горные плоскогорья Перу, долины в междугорье Анд, и узкая полоса перуанского побережья представляют полярно противоположные исторические бассейны. В первом случае — котел постоянного смешения этносов, непрерывного перемещения, столкновения разных культурно-семиотических структур, во втором — вековая изоляция, предельная ограниченность торгово-военных контактов с внешними культурами, идеальные условия для непрерывности культурной традиции (разрушение изоляции, как правило, сопровождается полным исчезновением той или иной древнеперуанской цивилизации). Победа письменной цивилизации в одном случае и бесписьменной — в другом представляется естественной» (43, с. 11).
Наиболее древними были словесно-слоговые системы письма, основной перечень которых (по монографии И. Фридриха) приводится ниже3:
древнеегипетское письмо (не позже III тысячелетия дон. э.);
шумерское письмо (не позже первой половины III ты сячелетия до н. э.) и происходившие из него клинописные системы;
протоиндийское письмо Хараппы и Мохенджо-Даро (видимо, с первой половины III тысячелетия до н. э.);
критское (минойское) письмо (с конца III до конца II тысячелетия до н. э.) и линейные письменности А и Б (со знаками детерминативами, но без идеограмм);
лувийское (хеттское) иероглифическое письмо (II и I тысячелетия до н. э.);
китайская иероглифика (со И тысячелетия до н. э. до настоящего времени) и развившиеся из нее письменности Дальнего Востока;
письмо майя (с I тысячелетия до н. э.) в Центральной Америке;
словесно-слоговые письменности ваи и менде в Афри ке и другие, изобретенные недавно. К этой группе относят ся африканские системы ваи (Либерия), менде (Сьерра-Ле оне) и бамум (Камерун) (69, с. 26—27, 199—204).
Для правильного понимания роли письменности в древности и ее постепенной эволюции как средства информационной деятельности необходимо отметить, что первоначально письменность играла ограниченную роль в основном в торговле, управлении и т. п. Она использовалась для составления всякого рода деловых документов, в том числе учетных, писем, расписок, грамот и т. д. В литературных целях она стала применяться значительно позднее (30, с. 171; 74, с. 37-38 и др.).
В Китае письменность первоначально использовалась для гаданий. Гадальные кости были нужны для связи с предками, от воли и поддержки которых, по мнению шанцев, зависело их нормапьное существование. Шанцы записывали на специально обработанных бараньих лопатках и панцирях черепах суть дела и проводили обряд гадания. В результате до нашего времени дошли полторы сотни тысяч надписей, которые являются важнейшим документальным источником эпохи Шан-Инь(14,с. 188). До этого основным источником о пяти легендарных «императорах», династиях Ся и Шан-Инь являлись «Исторические записки» Сыма Цяня4 (гл. 1—3 «Основных записей») (65, с. 133—178; 68, с. 221—222, 369—370).
Письмо майя в протоклассический период (до 300 г. н. э.) использовалось в основном в календарных целях. Это назначение, наряду с другими, сохранилось и в классический период (300-900 гг. н. э.) (99, с. 28-30).
Чисто звуковая система письма была создана финикийцами и другими западно-семитскими народами. Это письмо было консонантно-звуковым и на Востоке имело четыре ветви (еврейская, сирийская, иранская и арабская) (31, с. 271—330). Греки заимствовали и приспособили к греческому языку финикийский алфавит около 800 г. до н. э. Это была первая вокализованно-звуковая система, в которой для гласных звуков были введены особые буквы. В течение VIII в., как об этом свидетельствуют надписи, новый алфавит распространяется по всему греческому миру. На этом закончились четыре «темных» века, в течение которых пос-лемикенские греки обходились без письменности (24, с. 399; 31, с. 274-351).
В Индии бесписьменные традиции сохранялись значительно дольше. Можно лишь предполагать, что письменность уже существовала в VI—V вв. до н. э. Однако от времени после хараппской цивилизации до III в. до н. э. не
дошло
ни одного датированного письменного
памятника (8,
с. 377). Древнейшие надписи на скалах и
колоннах датируются
серединой III
в. до н. э. Это было время царя Ашоки
(268—231
гг. до н. э.), когда состоялся третий
буддийский собор
(7, с. 29; 14, с. 167—168; 86, с. 14—15). Основные
материалы
для письма (носители информации) были
хрупкими
(березовая кора, пальмовые листья).
Поэтому в Индии рукописи
до XIV
в. до н. э. — редки (86, с. 17—18).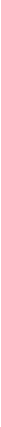
Типичные явления, характерные для первоначального внедрения письменности, имели место также в истории древней Японии. Письменность была экспортирована в Японию из Кореи и Китая. Однако история протояпонско-го общества показывает, что оно могло достигнуть достаточно высокого уровня развития и без сколько-нибудь широкого применения письменности. Потребность в ней резко увеличилась только тогда, когда с середины VII в. японская правящая элита взяла курс на построение государственности по китайскому образцу. Поскольку в Китае управление осуществлялось с помощью детально разработанных правил по оформлению государственной документации, государство Ямато также восприняло письменность как одно из условий существования «цивилизованного» и сильного государства.
Документация велась на деревянных табличках — мок-кан. В настоящее время обнаружено более 200 000 таких табличек. Надписи на моккан можно разделить на три типа: товарные бирки, сообщения и учебные тексты. На товарных бирках указывался вид продукции, ее количество, отправитель и получатель. Эти бирки прикреплялись к грузу, который отправлялся в вышестоящие инстанции в качестве налога. Подавляющее большинство сообщений на моккан имеют административный характер и связано с передвижением грузов и людей. Лишь позднее письменность стали использовать для закрепления истории государства в виде законодательных сводов и исторических летописей.
Два мифологическо-летописных свода «Кодзики» и «Нихон секи» («Анналы Японии») демонстрируют посте пенный переход от устной к письменной информационной традиции. «Нихон секи», составление которого было закончено в 720 г., с самого начала создавался как письменный текст. Во время составления предшествующего свода «Кодзики» устная форма передачи историко-генеалогической информации сосуществовала с письменной. В «Кодзики» письменность еще выступает не только как инструмент порождения нового текста, но и как средство фиксации текстов, которые сложились ранее в устной традиции. В конце VIII в. письменная традиция победила полностью, и на смену мифилогическо-летописным сводам пришла погодная хроника. В хронике «Секу нихонти» («Продолжение анналов Японии», 797 г.) на место ярких («художественных») описаний характеров и поступков пришло сухое изложение хрониста (48, с. 104-122, 171).
Бесписьменные традиции информационной деятельности продолжали существовать длительное время, в том числе и после появления письменности. Ярким примером является Индия, в которой литература и наука существовали в устной форме на протяжении столетий. Устная форма информации считалась более надежным и авторитетным источником, чем письменная (74, с. 38). В течение длительного времени во всем мире устная информация сохранялась и передавалась из поколения в поколение в обычаях и ритуалах, в мифах и эпических произведениях, во всех формах фольклора, в навыках профессиональной деятельности и в лексике многочисленных языков.
Особые формы выражения информации представляли собой изобразительные материалы, музыка и танцы. Изо-формы информации могли быть предметными, пластическими, пространственными, знаковыми, рисуночными и пиктографическими. Они могли перерастать в различные виды искусства и протописьменности. В результате изоин-формация стала одним из важнейших источников сведений о бесписьменном обществе (11, с. 28; 30, с. 81).
Музыка и танцы также были важными информационными формами практически у всех народов и во все времена.
В
этнографии они рассматриваются как
разновидности фольклора
(11,
с. 28). Мадленский рисунок и
верхнепалеолитические музыкальные
инструменты свидетельствуют о том,
что музыка и танцы были известны человеку
с древнейшей
эпохи (1,
с. 186). При этом даже в современном мире
племена,
которые находятся на сходном примитивном
уровне
социально-экономического развития,
имеют одинаковое мелодическое
мышление, хотя они проживают в разных
концах планеты. В качестве примера
приводятся ведда (Цейлон)
и огнеземельцы (Огненная Земля — южная
оконечность
Южной Америки) (20, с. 12—14). Важно также,
что музыка
и танец продолжают иметь повсеместное
распространение
в современном мире. При этом за музыкальным
искусством
признается коммуникативная функция, а
одной из
основных отличительных особенностей
музыкального произведения
является его письменная фиксация (36, с.
91, 95).
Таким образом, в музыке, как и в случае
языка, время введения и, главное, победы
письменности является верхней
границей бесписьменного общества.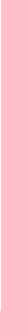
Каковы современные источники сведений о бесписьменном обществе? Это, прежде всего, данные антропологии, археологии и этнологии. Они являются основными для изучения и реконструкции первобытного общества (1, с. 3—4). Письменные источники, т. е. источники, которые были созданы после возникновения письменности, — более поздние. Для изучения того первобытного общества, которое сменили древние цивилизации, они имеют второстепенное значение (1, с. 35—37), но для исследования бесписьменной информационной деятельности, которая сохранилась даже после победы письменности на подавляющей части территории земного шара, письменные источники имеют безусловную ценность. К этой категории источников относятся, например, труды древних историков, записки путешественников, капитанов, купцов, миссионеров и др. (11, с. 26—27).
Значение археологии самоочевидно. Антропологи также собрали большой материал, который не основан на письмен-
ных источниках, (73, с. 9). В том числе, для исторической реконструкции первоначального человеческого общества в антропологии были использованы сведения о стадных взаимоотношениях у обезьян (70, с. 226). А.А. Велик отмечает, что антропология может быть любой: социальной, психологической, экологической и т. д. (4, с. 141). Если это верно, то она вполне может быть также информационной. Все зависит от объекта и методов исследования. Естественно, что в информационной антропологии объектом изучения должна быть информационная деятельность.
Особое значение для исследования бесписьменной информационной деятельности имеют данные этнологии. Для истории первобытного общества эти данные важны, но они играют скорее вспомогательную, иллюстративную роль (1, с. 23). Напротив, для понимания бесписьменной культуры этнографическое изучение отсталых обществ дает значительный фактографический материал (34, с. 61, 63,66). Это относится к достижениям этнологии в XIX и XX вв. (73, с. 36—37). Поэтому можно поставить вопрос о целесообразности антропологического и этнографического прослеживания эволюции информационной деятельности, особенно на ее бесписьменном этапе. В самом предварительном порядке эта задача была поставлена перед настоящим исследованием.
Одним из следствий великих географических открытий было осознание того, что культурные элементы во всем мире повторяются (98, с. 2). Эволюция всех народов достаточно единообразна. Поэтому для понимания современного состояния можно изучать народы, которые находятся на предшествующих фазах развития. Их современная история — это наша предшествующая история (49, с. 13—14, 349). Этнология дополняет сведения археологии данными о пигмеях, бушменах и других живых реликтах современного мира (44, с. 35). Кроме письменных и археологических материалов она использует результаты современных полевых исследований (56, с. 23). Для изучения информационной деятельности в современных бесписьменных обществах имеют особое значение непосредственные наблюдения за поведением, устные
расспросы
и т. п., поскольку прибегать к помощи
архивов или к
анкетированию невозможно (44, с. 10).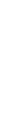
В.П. Алексеев и А.И. Першиц в «Истории первобытного общества» отмечают, что недостатком этнологической науки является отсутствие в этнологических данных точно фиксируемой хронологической глубины, той хронологической ретроспективы, с помощью которой любая процедура реконструкции могла бы быть ограничена определенными хронологическими рамками (1, с. 55). Это относится к тому первобытному обществу, которое сменили древние цивилизации. Для бесписьменного общества, история которого простирается до настоящего времени, важно установить сам факт возникновения того или иного явления информационной деятельности. В этом плане данные этнологии могут принести несомненную пользу.
Дальнейшее исследование информационной деятельности в бесписьменном обществе будет состоять из трех частей: виды информации в бесписьменном обществе, ее сохранение и передача.
ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ
