
Средние века. Выпуск 71 (3-4)
.pdf
Ненависть как социальный институт... |
115 |
О насилии как действии сегодня написано много, но, как заметила Барбара Розенвейн, “очень мало внимания уделялось истории гнева или, если пойти дальше, большинства эмоций, за исключением любви”12. Ненависти, может быть, в этом смысле повезло больше, так как часть литературы по феодальным распрям и мести включала в свой анализ эмоции такого рода13. Клод Говар и Роберт Бартлетт уже начали набрасывать портрет ненависти в средневековом обществе, и их работа подтверждает универсальность ее распространения14. Пришло время свести этот материал в одну общую картину истории ненависти как социального института.
При этом мы исходим из предположения, что ненависть и гнев – нормальные и даже желательные черты человеческого сознания в обществе, на что указывают психологи, когнитивисты, когнитивные антропологи и историки эмоций15. Некоторые эволюционные психологи говорят, что чувства ненависти и гнева развились у предков homo sapiens неслучайно, они были необходимы для формирования групп, через наказание отказывающих в сотрудничестве одиночек16. Как пишет Роберт Райт, “чувства враждебности, обиды, праведного негодования… возможно, имеют глубокие корни в древних конфликтах внутри групп людей и пралюдей. И особенно – в конфликтах за статус в рамках объединений самцов”17. Как ни отвратительна ненависть, исследование Райта показывает, что она, как и все прочие эмоции, исполняла важные политические и социальные функции в первобытных общинах. Так как эмоции можно частично скрыть, то их было легко
12Anger’s Past. P. 1 (Introduction).
13Например, см.: Miller W.I. Bloodtaking and Peacemaking: Feud, Law and Society in Saga Iceland. Chicago, 1990. P. 181.
14Gauvard Cl. “De grace especial”: Crime, état et société en France а la fin du moyen âge. P., 1991. 2 vols.; Bartlett R. “Mortal enmities”.
15Это быстро растущая область. См. следующие работы: Emotion and Social Change: Toward a New Psychohistory / Ed. C.Z. Stearns, P.N. Stearns. N.Y., 1988; Rom H., Parrott G.W. The Emotions: Social, Cultural and Biological Dimensions. L., 1996; D’Andrade R. The Development of Cognitive Anthropology. Cambridge, 1995.
16Хороший обзор социально-психологической литературы по эмоциям представлен в: Pinker S. How the Mind Works. N.Y., 1997; также полезны примечания в: Men and Violence: Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America / Ed. P. Spierenberg. Columbus, 1998.
17Wright R. The Moral Animal: Evolutionary Psychology and Everyday Life. N.Y., 1994. P. 285.

116 |
Дэниэл Лорд Смэйл |
“набросить”, как одежду, и на их основе выработать своеобразный социополитический код или язык.
Функции ненависти в человеческом обществе легко определимы. Институт ненависти был тесно связан с такими важными для обществ позднего Средневековья и раннего Нового времени вопросами, как честь и репутация18. Как и демонстративное потребление, богатые дары, красивая одежда или экстравагантное приданое, публичное проявление ненависти указывало на масштаб влияния и доступных материальных ресурсов, а также на готовность защищать свое личное или психологическое пространство. Социальная ненависть была нужна для проверки и демонстрации способности набирать в свои ряды родичей, друзей
инахлебников. Яростные феодальные распри, вендетты и грабительские рейды в средневековой Европе требовали ресурсов, которые имелись только у аристократов, богатых членов патрициата или свободных фермеров Исландии. Многие практиковали более простые формы социальной ненависти, доступные и рядовым работникам, таким, как Понс Гасин и Жоан Боргон. Там, где не все могли позволить себе следовать моде в архитектуре или одежде, а публичные службы и образование только начали становиться источником культурного капитала, социальная ненависть стала относительно недорогим и эгалитарным источником чести.
Ненависть также была языком социальной структуры. Как замечает Бартлетт, “ненависть была институтом, по крайней мере, в том же смысле, что и вассально-ленные отношения, т.е. это была общепринятая форма отношений, которую охраняли ритуал, ожидания и санкции”. Джон Босси показывает Италию
иГерманию раннего Нового времени, в которых inimizia и Feindschaft являлись “структурным фактом социального и правового существования”. Говар, работавшая с письмами о помиловании северофранцузского позднего Средневековья, убедительно доказала, что ненависть рассматривалась как естественная антитеза кровной близости или дружбе19. Кроме того, в позднесредневековых городах, таких, как Марсель, сложные сети ненависти структурировали профессиональные и соседские группы, усиливая эту кровную близость и дружбу.
18Men and Violence. P. 2–3, passim; Greenshields M. An Economy of Violence in Early Modern France: Crime and Justice in the Haute Auvergne, 1587–1664. University Park (Pa), 1994. P. 63–90.
19Bartlett R. “Mortal Enmities”. P. 1–2; Bossy J. Peace in the Post-Reformation. Cambridge, 1998. P. 54, passim; Gauvard Cl. “De grace especial”. Vol. 2. P. 685.

Ненависть как социальный институт... |
117 |
В данной статье исследуется социальный и правовой аспекты института ненависти в позднесредневековом обществе на примере Марселя, хотя и крупного, но во всех прочих отношениях типичного средиземноморского портового города, от которого осталось обширное архивное наследие. Используются три типа источников из муниципального и департаментского архивов Марселя: нотариальные мировые акты, протоколы судебных заседаний и некоторые коронные фискальные записи.
1. ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕНАВИСТИ ПО НОТАРИАЛЬНЫМ МИРОВЫМ АКТАМ
В 1257 г., после нескольких десятилетий коммунальной независимости, город Марсель попал под власть Карла I Анжуйского, брата Людовика IX, впоследствии – короля Неаполя. Карл провел ряд административных и судебных реформ, которые лишили Марсель его прежней автономии и сосредоточили власть в руках Анжуйской династии. Юридическая система стала достоянием судей и чиновников, которых назначали сам Карл и его преемники. Однако в XIV в. анжуйская корона Неаполя – ослабленная потерей Сицилии и внутренними раздорами – уже не имела монополии на насилие. Нобили со своими вооруженными отрядами открыто оспаривали авторитет короны и работали рука об руку с судебными чиновниками, а члены семьи жертв продолжали агрессивно настаивать на своих коллективных правах. Одним из курьезных следствий такой ситуации было то, что серьезные телесные повреждения и убийства редко преследовались уголовным судом. Обычно с насильственными преступлениями справлялись при помощи комплексной, но общепонятной параправительственной системы изгнания и заключения мировой, которую увенчивал нотариально заверенный мировой акт, instumentum pacis.
Процедура выглядела так. Вначале напавший, страшась гнева родичей жертвы, бежал из города или искал прибежище в церкви. Нашедшие прибежище могли позже отправиться в ссылку. Некоторых напавших ловила полиция, сажала в тюрьму, а затем их высылали перед тем как начать следствие, что позволяло суду покарать их за неповиновение в случае, если они не являлись туда по вызову. Другие напавшие, оказавшись в тюрьме, выходили оттуда по заключении мировой с родичами жертвы. Усилия по заключению мира начинались, как только напавший оказывался
118 |
Дэниэл Лорд Смэйл |
вбезопасности. Обычно в число переговорщиков входили друзья напавшего, его родичи и жена. Посредниками часто становились представители социальных элит и члены городского совета. В тех случаях, когда жертва умирала от ран, привлекались нищенствующие ордена, а их церкви и кладбища считались лучшей площадкой для переговоров. На заключение мира призывался нотариус, фиксировавший мировой акт. Эти акты включали в себя краткое описание событий, указывали участвующие стороны и условия мира. От 1350–1376 гг. до нас дошло восемь таких актов, и все они касались простолюдинов.
Мировые акты сложно классифицировать. Обычно нотариальные акты подразделялись на акты, касающиеся имущества, долгов или прав, и у всех были общие черты. Мировой акт, на первый взгляд, по своей формулировке похож на акты арбитража или компромисса (compromissio, compositio), в которых определялась суть жалобы и найденного решения. Однако есть важное отличие. Компромисс был двухсторонней формулой, по которой юрисдикция изначально передавалась одному или нескольким арбитрам. Хотя обе стороны договаривались об этих арбитрах и о том, что будут следовать их решениям, само решение достигалось не договором между двумя сторонами. Оно накладывалось на них арбитрами. Сохранившиеся акты об арбитраже из Марселя концентрируются на таких вопросах, как спорные долги, наследство или приданое, договор о комменде, или ценностях, оставленных
взалог. Такие акты заключались, когда дело касалось денег и материальных благ.
Мировой акт, практиковавшийся в Марселе, технически не был арбитражным. В нем не предусматривался авторитет третьей стороны – это был договор между двумя враждующими сторонами. Во всех мировых актах из Марселя речь не шла о материальных благах или каком-то материальном ущербе, а только о ненависти.
Чтобы у этой ненависти было законное и сдерживающее разрешение, мировые акты в Марселе заимствовали ключевые фразы и идеи у двух других типов нотариальных актов, пакта (pactum) или уступки/отказа/покупки прав (cessio, remissio или emptio iuris). Посредством пакта две или более стороны обменивались материальными благами или правами. Обычно у пакта было две черты: он касался специфических прав, долгов, товаров или обязанностей, а также включал некоторые условия касательно поведения в будущем. Уступка имела схожие черты, хотя права обычно

Ненависть как социальный институт... |
119 |
переходили в одном направлении и рассматривались переданными с момента заключения акта. В актах об уступке, дошедших до нас из Марселя XIV в., понятие “права” было широким и растяжимым – от прав на наследство и родительских прав до прав в деловом партнерстве и долгах.
Мировые акты, как и уступки, передавали или уступали вещь, право или обязанность. “Поцелуй мира” считался такой вещью (res). Но еще более удивительным было то, что ненависть трактовалась как право (ius), которое можно уступить. Например, в начале 1354 г. разгорелась драка между сапожником Уго Бланком и работником Пейре Гонтаром, и Уго нанес Пейре серьезную рану. Из этой раны “родились злоба, гнев и ненависть” (rancor ira et odium… orta erant)20. Уго бросили в тюрьму, а миротворец Пейре Феррьер пришел в дом к раненому, прося его заключить мир с врагом: “Пейре Гонтар без спешки, свободно и по собственной воле, слушая без принуждения и понимая слова Пейре Феррьера, из почтения к Господу и любви к Господу… отпустил, уступил и отказался от любой обиды, гнева, злобы и ненависти, которые он имел и мог иметь по причине раны (remisit cessit et dezamparavit omnem iniuriam iram rancorem et odium quas et quos habet et habere potest ratione vulnerationis) и по любой другой причине, по отношению к Уго Бланку…”21.
Нотариус Пейре Айкарт, составлявший акт для упоминавшихся Понса Гасина и Жоана Боргона, тоже добился того, чтобы стороны взаимно отказались от всякой обиды и вражды (remittentes… omnes iniurias et inimicitias)22. Таким образом, ненависть рассматривалась как формальное право родичей жертвы, которое, как и любое другое, можно было уступить или передать.
Марсельские нотариусы и их клиенты молчаливо признавали, что право на ненависть включает и право на возмездие. Если сторона заявляла о своей жажде мести, ей уже было сложно отступить, не потеряв лица. Однако когда ненависть трактовалась как ius, нотариальные мировые акты позволяли обходить это препятствие – трансформируя эмоцию в вещь, которую можно уступить или отказаться от нее по желанию ненавидящего. Это обстоятельство ясно показывает, что вражда/ненависть была не внутренним чувством, а скорее правовым или политическим по-
20ADBR. 381E 86. Fol. 35v, 29 мая 1354.
21Ibid. Fol. 36v.
22ADBR. 355E 290. Fol. 20r–21r, 4 апреля 1355.

120 |
Дэниэл Лорд Смэйл |
ложением, которое можно было занять для того, чтобы принудить другую сторону к компромиссу.
Было и другое решение проблемы – переопределение ненависти в гнев. Впрочем, в мировых актах гнев замещал ненависть редко, только когда стороны хотели оставить возможность того, что ожесточенная враждебность была кажущейся, а на самом деле имела место менее значимая, временная ярость. Из-за того, что гнев часто расценивался как проявление неустойчивости ума,
вправовом отношении его можно было приравнять ко временному помешательству. Эдвард Муир и Натали Земон-Дэвис показали
вдругом контексте, что убийцы охотно принимали на себя такой статус, пытаясь спастись от уголовного суда23. Однако переопределение не действовало в случае с нотариальными мировыми актами, которые функционировали во внесудебной зоне.
2.ЯЗЫК НЕНАВИСТИ
ВСУДЕБНЫХ ПРОТОКОЛАХ
Ненавистью/враждой, как было показано в первой части, манипулировали для достижения желаемой цели, а именно мира. Однако когда мы оставляем нотариальные свидетельства и переходим к судебным источникам позднесредневекового Марселя, то вступаем в ту область, где истцы и ответчики и их адвокаты знали, что судьи, воспитанные в моральных традициях церкви, не отнесутся к симпатией к их притязаниям. Поэтому о законности своей вражды они заявляли неохотно. Когда на следствии или в гражданских исках речь заходила о вражде, почти всегда это было в контексте позора. И истцы, и ответчики регулярно обвиняли противоположную сторону в ненависти, понимая, что само ее наличие усиливает их собственное положение. Для доказательства тяжущиеся призывали свидетелей.
В целом вражду можно было приписать немногочисленным видам поведения. В этой части будет разобран особенно интересный вид, а именно отказ от вежливости. Судя по протоколам, мужчины и женщины в Марселе XIV в. должны были приветствовать друг друга и разговаривать вежливо. Следовательно холодность
23 Muir E. The Double Binds of Manly Revenge in Renaissance Italy // Gender Rhetorics: Postures of Dominance and Submission in History. N.Y., 1994. P. 71; Zemon-Davis N. Fiction in the Archives: Pardon Tales and their Tellers in SixteenthCentury France. Stanford, 1987. P. 36–76.
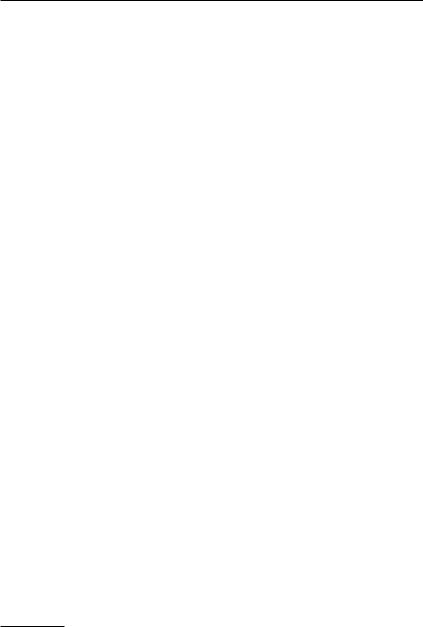
Ненависть как социальный институт... |
121 |
на публике служила знаком социальной ненависти. Холодность как негативный речевой акт в соединении с позитивными актами, такими, как угрозы и оскорбления, составляла базовый язык ненависти. Хотя эти речевые акты иногда сопровождались физическим насилием, ясно, что речь была доминантной схемой поведения, особенно, хотя и не исключительно, среди женщин. Такое речевое поведение служило публичной основой для ненависти, таким образом придавая ей большее политическое и правовое значение, чем простое физиологическое переживание ненависти.
Особенно интересный пример дают протоколы по делу об убийстве торговца Гильема Томаса24. Купца убил молодой человек по имени Фулько Робаут, но в протоколах упоминается его деверь, Гильем де Белавила, которого также обвиняли в убийстве, жена Фулько Жоанна, а также ее сестра Уга. Всех четверых присудили к крупным штрафам. На следствии причины убийства остались невыясненными, и только когда Гильем де Белавила отвечал на обвинение, перед нами предстала более или менее полная картина. Как было принято в средневековых судах, Гильем развивал самозащиту. Необычность этой самозащиты состояла в том, что он использовал ненависть жертвы для объяснения жесткости своих действий: “При жизни Гильем Томас тяжело ненавидел Гильема де Белавила без какой-либо вины Гильема де Белавила, и он относился к указанному Гильему де Белавила с необычной и закоренелой ненавистью (et eundem Guillelmum de Bellevilla odio habebat capitali notorio et antico) и тяжело преследовал его, хотя Гильем де Белавила никогда ничего не совершал против Гильема Томаса”25.
Этот образ злобного и полного ненависти агрессора усиливается в апелляции: “Гильем Томас был лживым, злобным, извращенным человеком, который часто прибегал к насилию. Он убил многих других людей и из-за этого имел дурную славу в Марселе. Особенно он в ответе за убийство Пейре Туреля и Гильема де Луко…Благодаря своей дерзости, наглости и испорченности он участвовал в распрях между семьей Жерусалем и семьями Виваут и Мартин, которые друг друга ненавидели и сражались”26.
Назвать Томаса злобным и извращенным значило обвинить его в ненависти и предположить, что эта ненависть была иррацио-
24ADBR. 3B 825. Fol. 35r–188r.
25Ibid. Fol. 102v.
26Ibid. Fol. 102r–v.

122 |
Дэниэл Лорд Смэйл |
нальной. Чтобы его доводы подействовали в суде, Гильему де Белавила, конечно, не обязательно было самому верить в то, что ненависть – это зло. Достаточно было, чтобы апелляционный судья придерживался такого мнения. На самом деле де Белавила преувеличивал лишь слегка, так как у ненависти, которую к нему питал Томас, были все основания. Оба мужчины были соседями,
иих вражда объяснялась застарелыми ссорами. Кроме того, Гильем де Белавила ранее обманывал свою жертву. И, наконец, Гильем де Белавила был не в том положении, чтобы упрекать свою жертву в участии во фракционных конфликтах, так как он сам был членом клана Виваут. Он даже просил двух мужчин, широко известных своим дурным нравом, свидетельствовать о склонности к насилию и извращенном характере своей жертвы.
Так как вражда понималась как нечто взаимозависимое, словами об иррациональном поведении своей жертвы Гильему де Белавила было проще всего снять обвинения в ненависти с самого себя. Гильем даже пытался дистанцироваться от ненависти жертвы, представив себя тихим, мирным человеком, который шел домой с рынка, когда Гильем Томас неожиданно на него набросился27. Однако можно прочесть, что ненависть в этом деле исходила не только от Гильема Томаса. Следствие оставило особое примечание по этому поводу. Процедурное право требовало, чтобы до того, как против Гильема де Белавила будет начато следствие, были собраны некоторые indicia, указывающие на его вину. Первым из пяти indicia было следующее: “Гильем де Белавила был тяжелым врагом (eius capitalis inimicus) Гильема Томаса
иежедневно помышлял о его умерщвлении… так как в прошлом году покойный Гильем Томас пытался преследовать указанного Гильема де Белавила в королевском суде за преступное изготовлениe поддельного инструмента”28.
Остальные indicia указывали, что Гильем де Белавила владел оружием, которым был убит Томас, что он бежал после убийства, что он ранее обвинялся во многих преступлениях и что слухи считают его убийцей Томаса. Эти indicia подтверждают, что ненависть между Томасом и де Белавила была давней и взаимной.
Вражда между ними объяснялась тем, что они, как и Фулько Робаут, жили по соседству в квартале Спур и между ними часто вспыхивали ссоры: «Когда указанный мастер Гильем де Белави-
27Ibid. Fol. 71v.
28Ibid. Fol. 60r.

Ненависть как социальный институт... |
123 |
ла был как раз перед своим домом, а Гильем Томас перед своим, Гильем Томас забросил сверток с мясом, который он нес, внутрь дома и, достав нож, пошел… к Гильему де Белавила. Увидев это, мастер Гильем скинул плащ и, вынув свой нож, громко сказал свидетелю и его товарищу: “Господа, будьте свидетелями (vos scitis michi testes), что этот грубиян хочет меня убить”»29.
Итак, ненависть была замешана в противостоянии между соседями, людьми схожего статуса, нотариусом и купцом. Такой соседский антагонизм был достаточно распространен. Две значительные распри в Марселе середины XIV в. касались соседей. Ряды двух крупных кланов, Виваут и Жерусалем, тоже раздирала вражда между соседями. В них входили члены многих ремесленных групп, а значит и между ремесленниками вспыхивала вражда, если они присоединялись к крупным кланам. При этом социальная ненависть обычно вспыхивала между равными, соперничающими за социальное превосходство.
Одна из главных черт дела Гильема де Белавила и Гильема Томаса состояла в том, что об их ненависти знало много людей. Вражда между ними была общественным знанием, она демонстрировалась частыми оскорблениями, угрозами и актами агрессии. Но покров ненависти расстилался не только над ключевыми фигурами дела, он захватывал многих обитателей квартала Спур, что крайне осложняло жизнь Гильема де Белавила. Самым неприятным для него стало то, что о его ненависти дали показания близкие друзья его жертвы – три женщины, Уга Бернарда, Алазаис Антониа и Алазаис Рогета – и на их словах было построено обвинение против него. Чтобы апеллировать против наложенного на него штрафа, Гильему надо было оспорить эти показания. Технически он – а вернее, его адвокат Эстев Агулхенкви, так как сам Гильем де Белавила был изгнан из города – сослался на процедурное правило, называемое reprobatio testium, или “отзыв свидетелей”. Эстев попытался доказать, что две женщины сами испытывали вражду/ненависть к де Белавила, а также к его жене и невестке. Более того, две из них дружили с жертвой, Томасом. Если бы это удалось доказать, то их свидетельства можно было аннулировать.
В списке адвоката было 7 доводов, касающихся свидетелей, подлежащих отзыву, в том числе следующие30: “1. Уга Бернарда –
29Ibid. Fol. 122r–v.
30Ibid. Fol. 100r–101v.

124 |
Дэниэл Лорд Смэйл |
недоброжелательница и закоренелый враг Гильема де Белавила и Уги [де Белавила], его жены; 3. Уга была кумой (comater) Гильема Томаса при его жизни, его доброжелательницей и другом (benivola et amica); 4. Когда Гильем Томас был еще жив, эта самая Уга вела себя как его служанка; они ежедневно болтали, пили, ели, и занимались другими домашними и дружескими делами”.
Итак, адвокат начал с того, что заявил, будто бы Уга – хорошо известный враг Гильема де Белавила и его жены. В то же самое время Уга и ее служанка, Алазаис Антониа, были друзьями жертвы. Хотя Эстев не представлял доказательств враждебности Уги, но о ее дружбе с Томасом говорил несколько раз. Сперва он называет Угу “кумой” (comater) жертвы. “Кума” буквально означает, что Уга крестила одного из детей Томаса или наоборот, но в марсельских документах этот термин чаще употребляется для обозначения близкой дружбы. Во-вторых, свидетельницы были соседями жертвы, а это подразумевает, будто бы близкие соседи обычно дружат. Другие аргументы адвоката концентрируются на некоторых поступках, которые подтверждают дружбу между Угой Бернарда, Алазаис Антониа и Гильемом Томасом. Речевое поведение стоит здесь в самом начале – ведь утверждается, что Уга Бернарда и Алазаис Антониа ежедневно болтали с жертвой. И эти ежедневные беседы сдабривались хорошей выпивкой и едой.
Речевое поведение фигурирует и в аргументах, касающихся отзыва третьей свидетельницы, Алазаис Рогета. Алазаис не была особым другом жертвы, но она, как и Уга Бернарда, была известным врагом Гильема де Белавила и его жены. Адвокат доказывает это весьма необычно – говоря, что Алазаис “не говорила с ними и до сих пор не разговаривает и отказывается, из-за ссоры или столкновения, которое случилось примерно десять лет назад”.
Неслучайновсесвидетели,которыебыливызваныподтвердить вышеприведенные факты, были женщинами. Ни одна из них не дала доказательств религиозного кумовства. Одна, Дульсиа Эузериа, назвала Угу “кумой Гильема Томаса и его особым другом”, словно кумовство – это нечто похожее на близкую дружбу31. За некоторыми исключениями они игнорировали заявление адвоката о соседской дружбе, вероятно, потому, что все вовлеченные в это дело, как и жертва и убийцы, были соседями. Большая часть показаний концентрируется вокруг поведения, считающегося мощ-
31 Ibid. Fol. 112r.
