
литература в схемах
.pdf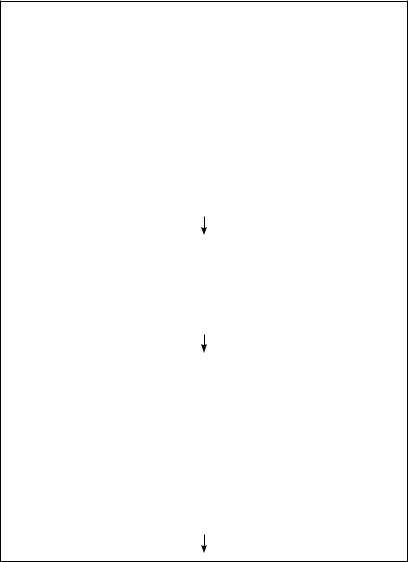
280 |
История литературы |
Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930)
Поэма «Облако в штанах» (1914–1915)
История создания
Замысел поэмы связан с несчастной любовью Маяковского к Марии Александровне Денисовой. Маяковский вспоминал: «Оно (“Облако в штанах”) начато письмом в 1913/14 году и сначала называлось “Тринадцатый апостол”. Когда я пришел с этим произведением в цензуру, то меня спросили: “Что вы, на каторгу захотели?” Я сказал, что ни в коем случае, что это никак меня не устраивает. Тогда мне вычеркнули шесть страниц, в том числе и заглавие. Это — вопрос о том, откуда взялось заглавие. Меня спросили — как я могу соединить лирику и большую грубость. Тогда я сказал: “Хорошо, я буду, если хотите, как бешеный, если хотите — буду самым нежным, не мужчи- на, а облако в штанах”».
Поэма была закончена в июле 1915 г. До выхода поэмы в свет отрывки из пролога и 4-й части появились в сборнике «Стрелец» (февраль 1915 г.), где поэма была названа «трагедией». В отдельном издании Маяковский дал ей подзаголовок «тетраптих» (т. е. композиция из четырех частей).
Первое издание поэмы было выпущено О. М. Бриком в сентябре 1915 г. Оно содержало большое количество цензурных купюр.
В 1916 г. поэма была напечатана в сборнике «Простое как мычание». После свержения самодержавия в журнале «Новый Сатирикон» (¹ 11 от 17 марта 1917 г.) под заглавием «Восстанавливаю» Маяковский напечатал изъятые цензурой отрывки из 2-й и 3-й частей поэмы со следующим предисловием: «Помещаю из этой изуродованной в первом и кастрированной во втором издании книги — 75 строк».
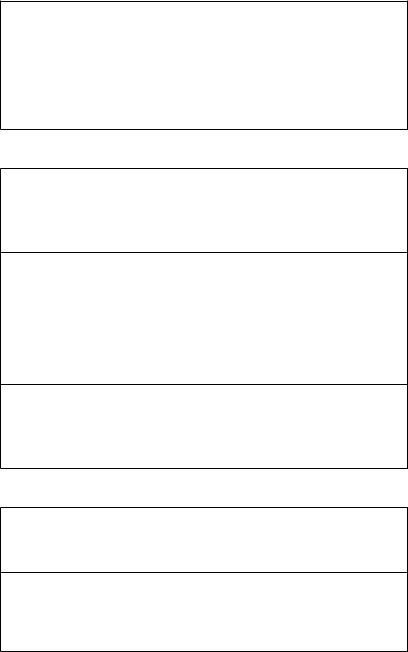
Из литературы первой половины ХХ века |
281 |
В полном виде поэма была опубликована в начале 1918 г. в Москве под маркой организованного Маяковским издательства «Асис» (Ассоциация социалистического искусства). В предисловии к этому изданию Маяковский писал: «“Облако в штанах” (первое имя “Тринадцатый апостол” зачеркнуто цензурой. Не восстанавливаю. Свыкся) считаю катехизисом сегодняшнего искусства»
Композиция
Состоит из вступления и четырех частей. Сам Маяковский определил сущность композиции так: «“Долой вашу любовь”, “долой ваше искусство”, “долой ваш строй”, “долой вашу религию” — четыре крика четырех частей»
Несмотря на заявку автора, мотивы не распределяются строго по частям поэмы, однако объединяются в образе лирического героя, который чувствует отторжение от всех и всего, начиная с возлюбленной, отвергающей его ради житейской устроенности, и заканчивая высшими силами, против которых он пытается взбунтоваться, получая в ответ полное молчание
Композиция обусловлена соединением эпического и лири- ческого начал: критика общества, традиционного искусства, религии чередуется с интимными переживаниями лирического героя
Темы и мотивы
Центральное произведение в дооктябрьском творчестве В. В. Маяковского, оно отражает все основные темы и мотивы лирики 1910-х гг.
Тема любви — центральная в поэме. «Четыре крика четырех частей» являются криком отчаяния героя, чья «громада любовь» не находит отклика в окружающем мире. Сугубо личный мотив отвергнутой любви (один из «криков»,
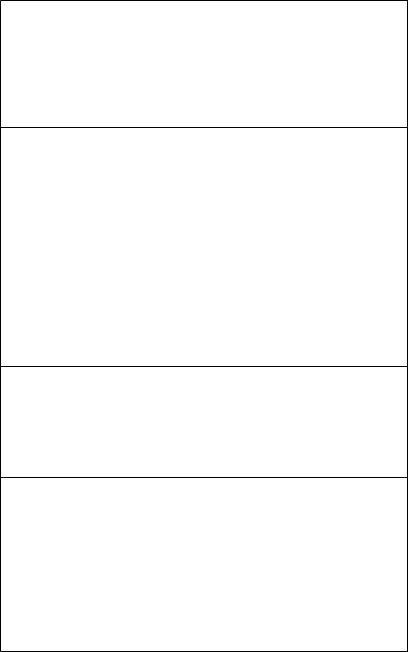
282 |
История литературы |
реализованный в первой части в сюжетной линии герой — Мария) лишен камерного звучания, он многомерен, социально масштабен, даже планетарен. «Громада любовь» героя — любовь особого рода, любовь ко всему сущему. Но в мире пошлости не может быть истинной любви, поэтому лирический герой воспринимает мир как хаос, а «громада любовь» соединяется у него с «громадой-ненавистью»
Тема искусства (его назначение, роль и судьба поэта, поэт
èтолпа) также является одной из ключевых. Наиболее полно она раскрывается во второй и третьей частях поэмы. Маяковский протестует против поэзии, не отвечающей требованиям времени, воспевающей «и барышню, и любовь,
èцветочек под росами». Представителем «отжившей» поэзии в поэме выступает Игорь Северянин, портрет которого автор рисует в третьей части. Сам автор видит назначение поэзии в другом: «Сегодня / надо / кастетом / кроиться миру в черепе», «Улица корчится безъязыкая — ей не- чем кричать и разговаривать… Улица муку молча перла… Улица присела и заорала: “идемте жрать!”… Во рту умерших слов разлагаются трупики, только два живут, жирея: “сволочь” и еще какое-то, кажется, “борщ”»
Âтретьей части наиболее остро поставлены социальные проблемы. Поэт испытывает отвращение к сытым, которым нет дела до страданий окружающих, которые заняты лишь собой. Социально трансформирована и тема любви, превращающейся в похоть: вся земля представляется герою женщиной, «которую вылюбил Ротшильд»
Âчетвертой части герой, подобно библейскому Иову, вступает в спор с Богом, обвиняя его в равнодушии к страданиям людей, на который сам их и обрек. Снова на первый план выходит любовная тема: «отчего ты не выдумал, / чтоб было без мук / целовать, целовать, целовать?!».
Âотношении к Богу чувствуется неоднозначность: герой обращается к нему на равных и даже грозится уничтожить, но в этом бунте чувствуется обида покинутого отцом ребенка, неоправданная надежда («Я думал — ты всесильный божище»)
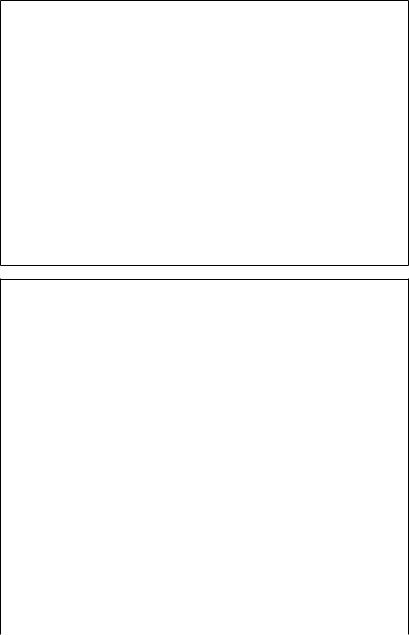
Из литературы первой половины ХХ века |
283 |
Образ лирического героя
8В дореволюционный период творчества Маяковский активно создавал миф о собственной личности, в котором соединялись черты «проклятого поэта» и ницшеанского «сверхчеловека».
8Лирическоий герой поэмы подчеркнуто автобиографи- чен: под своими именами упоминаются сестры Маяковского, товарищи по группе футуристов. Поэма написана от первого лица.
8В лирическом герое «Облака в штанах» соединяются общественное и интимное, образы бунтаря и лирика:
«Хотите — буду от мяса бешеный
— и, как небо, меняя тона — хотите — буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!»
Амбивалентность лирического героя
(амбивалентность — двойная природа какого-либо явления, объекта и т. п.)
Сверхчеловек |
вселенско- |
Ранимый, измученный душев- |
го масштаба |
|
ными страданиями человек |
|
|
|
Образ героя |
достигает |
В то же время это частный че- |
космического масштаба: |
ловек, помещенный в опреде- |
|
x«Ýé, âû! |
|
ленные пространственно-вре- |
Íåáî! |
|
менные реалии: |
Снимите шляпу! |
x«Ежусь, зашвырнувшись |
|
ß èäó!»; |
|
в трактирные углы, |
x«ÿ çíàþ — |
|
вином обливаю душу и ска- |
гвоздь у меня в сапоге |
терть»; |
|
кошмарней, чем фан- |
x«а я человек, Мария, |
|
тазия у Гете!»; |
простой, |
|
x«солнце моноклем |
выхарканный чахоточной |
|
вставлю в широко рас- |
ночью в грязную руку Прес- |
|
топыренный глаз. <…> |
íè». |
|
а впереди |
|
|
на цепочке Наполеона |
|
|
поведу, как мопса». |
|
|
|
|
|

284 |
|
|
|
История литературы |
|
|
|||
Герой ощущает себя про- |
Но при этом он обычный че- |
|||
роком, тринадцатым апо- |
ловек, который хочет просто- |
|||
столом, чувствует себя на |
го человеческого счастья: |
|||
равных с Богом: |
|
|
x«à ÿ — |
|
x«ß, |
воспевающий |
ìà- |
âåñü èç ìÿñà, |
|
шину и Англию, / мо- |
человек весь — |
|||
æåò |
быть, просто, / |
тело твое просто прошу, |
||
в самом обыкновенном |
как просят христиане — |
|||
евангелии / тринадца- |
“хлеб наш насущный |
|||
тый апостол»; |
|
|
даждь нам днесь”»; |
|
x«Слушайте! / Пропове- |
x«Ведь для себя не важно |
|||
дует, / мечась и стеня, / |
и то, что бронзовый, |
|||
сегодняшнего дня |
êðè- |
и то, что сердце — холод- |
||
когубый Заратустра!»; |
ной железкою. |
|||
x«на каждой капле сле- |
Ночью хочется звон свой |
|||
зовой |
òå÷è / |
распял |
спрятать в мягкое, |
|
себя на кресте»; |
|
|
в женское». |
|
x«Ýòî |
взвело на |
Голго- |
Герой переживает личную |
|
фы аудиторий / Петро- |
трагедию, он измучен, ищет |
|||
града, Москвы, Одессы, |
утешения у близких людей: |
|||
Киева»; |
|
|
x «Ìàìà! |
|
x«И когда мой голос, / |
Ваш сын прекрасно болен! |
|||
похабно ухает — / от |
Ìàìà! |
|||
часа к часу, / целые сут- |
У него пожар сердца. |
|||
ки, / может быть, Ии- |
Скажите сестрам, Люде |
|||
сус Христос нюхает / |
è Îëå, — |
|||
моей души незабудки»; |
ему уже некуда деться»; |
|||
x«Я думал — ты все- |
x«У церковки сердца занима- |
|||
сильный божище, |
/ à |
ется клирос!» |
||
ты недоучка, крохот- |
|
|||
ный божик» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Художественные средства в поэме
8Необычные метафоры, сравнения взамен устоявшихся, стертых (функция — делать образ мира стройнее, конкретнее, нагляднее, часто — одушевленнее):
пляшущие нервы (из разговорного «расходились нервы»), пожар сердца (из разговорного «сердце горит»); «люди нюхают — запахло жареным»; «на размягченном мозгу,
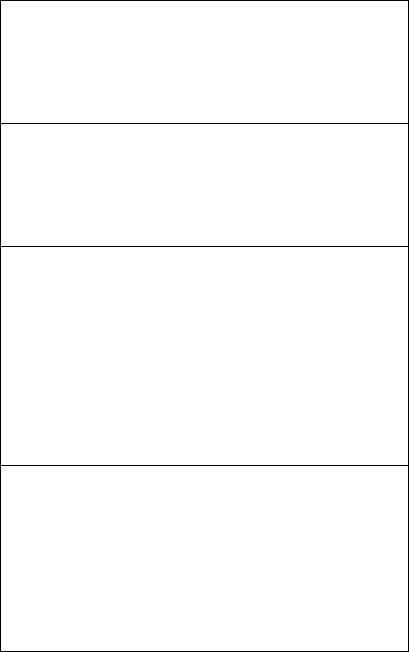
Из литературы первой половины ХХ века |
285 |
как на кушетке»; «в душе ни одного седого волоса» («молодая душа»); «кто-то из меня вырывается упрямо» («я выхожу из себя»); «глаза наслезненные бочками выка- чу» («выкатить глаза»); «полночь, с ножом мечась, догнала, зарезала» («без ножа зарезать»); «крик торчком стоял из глотки» («застрял в горле»); «душу вытащу, растопчу, чтоб большая» («раскрыть душу»)
8Метонимия (функция — делать образ мира стабильнее, вещественнее, рельефнее):
«улица корчится безъязыкая», «улица присела и заорала», «поэты бросились от улицы»; «в ночную жуть» (вместо «жуткую ночь»), «губ неисцветшую прелесть», «бровей загиб» (вместо «изогнутые брови»), «судорогой пальцев» (вместо «судорожными пальцами»)
8Окказионализмы (авторские неологизмы) (функция — делать образ мира динамичнее, часто — гиперболичнее; подчеркивать недостаточность старого языка (словаря) и широту, богатство нового):
«миллионы огромных чистых любовей и миллион миллионов маленьких грязных любят»; потноживотные женщины; крикогубый Заратустра; выстонать, выпеть, выплясать, вымолиться, вылюбить («Любовница, которую вылюбил Ротшильд»); изъиздеваться, изодраться, изругаться, исслезить, исцвести («губ неисцветшую прелесть») испешеходить, изъязвить; обрыдать, окапать, оплясать, обжиреть, огромить, наслезнить, перехихикиваться, размозолеть è äð.
8Нестандартная лексика, преимущественно сниженная (функция — создать образ автора, бунтаря из низов, вызывающего — перед лицом «господ», панибратского — перед себе подобными).
Вульгаризмы: переть («улица муку перла»), орать, жрать, глотка, выхаркнуть, прохвосты, гулящие, кобылы (дарить кобылам, т. е. бесчувственным женщинам), девочки (проститутки), космы, ложить («вы любовь на скрипки ложите»), ржать («хохочут и ржут»), ýé, âû! (ê íåáó), этакой (глыбе), нагнали каких-то (вместо «êîãî-òî»); этот, за тобою, крыластый
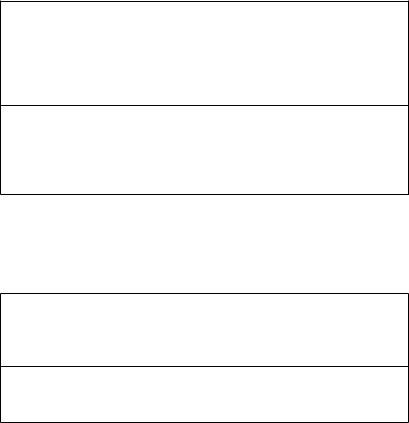
286 |
История литературы |
8Разговорная лексика (функция — подчеркивать недостаточность старого языка (синтаксиса) и скорость, содержательность нового):
громадина, пятерня, здоровенный, крошечный, мотаешь (головой), трепались (флаги), натыканы (булавки в глаза)
8Аллитерации (две трети случаев — это аллитерации на «г», иногда с добавлением «р»):
«грядет генерал Галифе»; «громом городского прибоя»; «гримируют городу Круппы…»; «главой голодных орд»; «в горящем гимне»
Анна Андреевна Ахматова (1889–1966)
Поэма «Реквием»
Реквием (от первого слова латинского текста: «Requiem aeternam dona eis, Domine» — «Покой вечный дай им, Господи») — траурная заупокойная месса, посвященная памяти усопших
Слово «реквием» в начале католического гимна означает просьбу вечного покоя, Ахматова же боится забыть происходящее — забыть «и в смерти блаженной»
Время создания
Время |
1935 |
Первое |
стихотворение поэмы |
— |
|||
создания |
|
«Уводили тебя на рассвете…» |
|
||||
стихо- |
|
|
|
|
|
|
|
1938 |
II è IV |
èç |
десяти |
стихотворений |
|||
творений, |
|||||||
|
основного |
корпуса |
цикла-поэмы |
||||
вошедших |
|
||||||
|
и первая часть Х стихотворения — |
||||||
в основной |
|
||||||
|
«Распятие» |
|
|
|
|||
корпус |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
цикла- |
1939 |
Стихотворения III, V, VI, VII. При- |
|||||
поэмы — |
|
говор, VIII. К смерти |
|
||||
1935– |
|
|
|
|
|
|
|
1940 |
Посвящение, вторая |
часть Х |
ñòè- |
||||
1940 ãã. |
|||||||
|
хотворения — «Распятие», эпилог |
||||||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
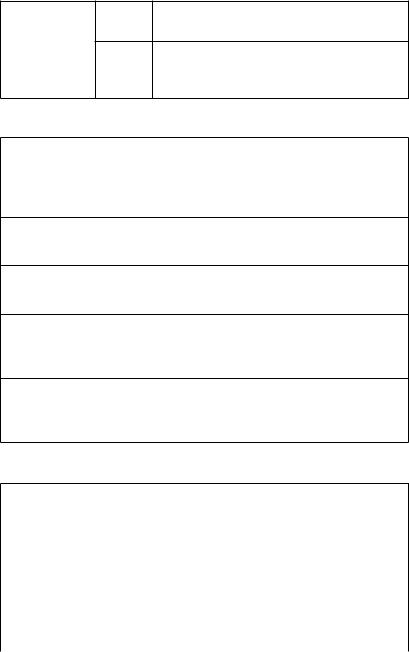
Из литературы первой половины ХХ века |
287 |
1957 Время написания прозаического «Вместо предисловия»
1961 Создание стихотворения «Так не зря мы вместе бедовали...», из которого взят эпиграф к поэме
События, послужившие толчком к написанию поэмы
Моральное потрясение, вызванное первым арестом и ссылкой О. Э. Мандельштама (1934) и высылкой в 1935 г. из Ленинграда многих представителей интеллигенции (начи- нались репрессии, спровоцированные убийством Кирова)
1935 г. — арест Н. Н. Пунина, тогда же был арестован Л. Н. Гумилев (сын А. А. Ахматовой)
В 1938 г. Л. Н. Гумилев снова был арестован фактически лишь за то, что имел неугодных режиму родителей
17 месяцев Анна Андреевна ждала решения судьбы сына, стояла с передачами в длинных очередях «под красною ослепшею стеною» тюрьмы «Кресты», что на берегу Невы
Сыну Ахматовой был вынесен приговор: десять лет испра- вительно-трудовых лагерей (в 1939 г. срок сократили до пяти лет)
Жанровое своеобразие
Жанровые признаки
Поэма |
Стихотворный цикл |
|
|
«Реквием» написан от пер- |
В «Реквием» вошли стихо- |
вого лица — поэтессы и ли- |
творения, написанные в раз- |
рической героини одновре- |
ное время, каждое из них |
менно. Лирическое начало |
имеет свой законченный |
соединяет фрагменты в еди- |
лирический сюжет |
ное целое |
|
|
|
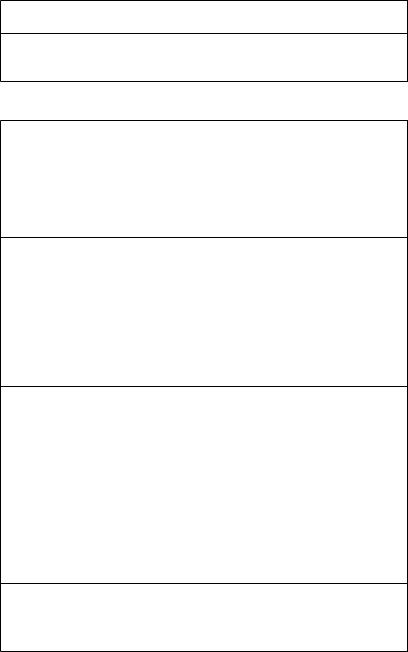
288 |
История литературы |
Поэма-цикл
Поэма-цикл, собранный авторский цикл — лиро-эпиче- ское сочинение, обладающее цельностью
Триединство лирической героини «Реквиема»
Реальная женщина в определенной исторической эпохе, переживающая трагедию ареста сына. Этот образ формируется автобиографической основой поэмы. Наиболее ярко проявляется в стихотворении «Приговор» (1939 г.). Обыденность речи в сочетании с предельным переживанием создает драматический эффект
Собирательный образ русской женщины (вечная трагедия русской женщины). Формируется за счет апелляции
êисторическому прошлому (стрелецкие женки и т. п.),
êфольклору. Разговор в очереди, описанный во вступлении, показывает, что горе лирической героини (и самой Ахматовой), не индивидуальное, а общее для многих женщин эпохи террора. Необходимость высказать это общее горе определяет лиро-эпическую форму произведения
Образ Богоматери, возникающий в результате обобщения, символизации и обращения к библейским («вечным») мотивам. Наиболее ярко образ лирической героини-бого- матери проявляется в 10-м стихотворении — «Распятие». Выражение внутренней жизни через внешние формы, недосказанность, ассоциативные смыслы создают предельное напряжение:
«Магдалина билась и рыдала, Ученик любимый каменел, А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел»
Разделение лирической героини на три ипостаси является условным, в тексте же наблюдается их сращение, сближение, обращаемость
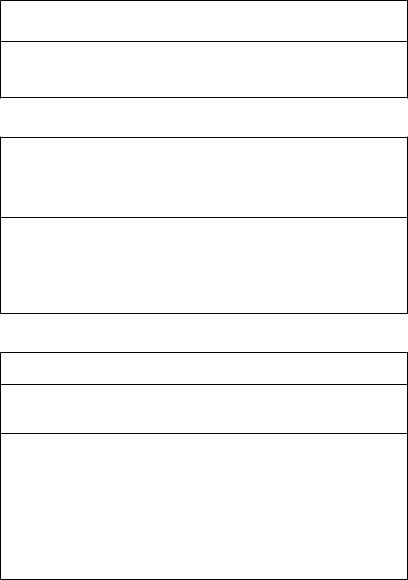
Из литературы первой половины ХХ века |
289 |
Михаил Александрович Шолохов (1905–1984)
Рассказ «Судьба человека» (1956)
Рассказ написан в 1956 г., опубликован в газете «Правда» на рубеже 1956–1957 гг.
«Судьба человека» была прочитана киноактером Сергеем Лукьяновым по Всесоюзному радио, после чего получила народное признание
Символика названия
В произведении показана не просто жизнь отдельного солдата Андрея Соколова, а судьба человека вообще, воплотившего в себе все основные национальные типические черты (обобщающее слово «человек» в названии)
Испытания, которые пережил герой, — это испытания, выпавшие на долю каждого, прошедшего Великую Отече- ственную войну. Это судьба целого поколения, у которого война отобрала самое дорогое — дом, семью, работу, здоровье, жизнь близких людей
Композиция и сюжет
«Судьба человека» написана в форме «рассказ в рассказе»
В произведении в концентрированном виде дана эпическая картина происходящего во время войны
М. Н. Липовецкий выделяет в рассказе десять своеобразных микроновелл, каждая из которых внутренне завершена, имеет завязку, кульминацию, развязку:
1. |
Довоенная жизнь. |
6. |
Поединок с Мюллером. |
2. |
Прощание с семьей. |
7. |
Освобождение. |
3. |
Пленение. |
8. |
Гибель семьи. |
4. |
В церкви. |
9. |
Смерть сына. |
5. |
Неудачный побег. |
10. |
Встреча с Ванюшкой. |
