
- •Современный русский язык: морфология
- •Введение
- •Связи с другими разделами курса современного русского языка
- •Литература
- •Глава 1. Морфология как лингвистическая дисциплина
- •1.1. Типы морфологического описания
- •1.2. Предмет морфологии. Основные задачи морфологии.
- •1.3. Грамматический способ (морфологическая техника) как формальная сторона морфологии.
- •1.4. Словоизменительный тип и словоизменительный класс
- •1.5. Словоизменительный гиперкласс
- •1.6. Морфологическая категория
- •1.6.1. Представление о морфологической категории
- •1.6.2. Классификационные и словоизменительные категории.
- •1.6.3. Выражение грамматических категорий
- •1.6.4. Грамматическая категория и часть речи
- •1.6.5. Проблемные зоны грамматических категорий. Утрата оппозитивности категории и переход из словоизменительной категории в классификационную.
- •1.6.6.. Отражение категорией семантики части речи
- •1.6.7. Вариативность морфологической системы и механизмы выбора вариантов
- •Литература
- •Глава 2. Смысловые задачи слова
- •Литература Падучева е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью: (Референциальные аспекты семантики местоимений). М.: Наука, 1985. 271 с. Глава 3. Служебные слова в русском языке
- •3.1. Предлог
- •3.2. Союз
- •3.3. Частица
- •3.4. Связка
- •Литература
- •Глава 4. Местоимения как референтные слова
- •4.1. Смысловая задача местоимений
- •4.2. Классификация местоимений
- •4.3. Функции местоимений
- •4.3.1. Функция вопроса
- •4.3.2. Кванторная функция
- •4.3.3. Дейктическая функция
- •4.3.4. Анафорическая функция
- •Литература
- •Глава 5. Система знаменательных слов в русском языке
- •Литература
- •Глава 6. Существительное
- •6.1. Общая характеристика существительного
- •6.2. Категория числа
- •6.3. Категория рода
- •6.4. Категория одушевленности
- •6.5. Категория падежа
- •6.5.1. Общая характеристика категории
- •6.5.2. Коммуникативная и социальная функции падежа
- •Литература
- •Горшкова к.В., Хабургаев г.А. Историческая грамматика русского языка: Учеб. Пособие. М.: Высш. Школа, 1981. 359 с.
- •Глава 7. Числительное
- •8.2. Категория вида
- •8.3. Категория залога
- •8.4. Актуализационные категории глагола
- •8.5. Инфинитные формы глагола
- •Литература
- •Глава 10. Наречие
- •10.1. Общая характеристика наречий
- •10.2. Семантические разряды наречий
- •Литература
- •Литература Словари и справочная литература
- •Учебная литература
- •Дополнительная литература
- •Винер н. Я – математик. Ижевск: нич «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. 336 с. С. 44
- •Горшкова к.В., Хабургаев г.А. Историческая грамматика русского языка: Учеб. Пособие. М.: Высш. Школа, 1981. 359 с.
- •Маслов ю.С. Глагольный вид в современном болгарском литературном языке (значение и употребление) // Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959. С. 307-312.
- •Успенский б.А. Поэтика композиции: Структура художественного текста и типология композиционной формы. М.: Искусство, 1970. 255 с.
- •Шмелева т.В. Деепричастие на службе у модуса // Системный анализ значимых единиц русского языка. Синтаксические структуры. Красноярск, 1984. С. 64-70
- •1.6.1. Представление о морфологической категории 24
- •Глава 4. Местоимения как референтные слова 51
Литература
Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / Пер. с англ. М.: Языки русской культуры, 1999.
Горшкова к.В., Хабургаев г.А. Историческая грамматика русского языка: Учеб. Пособие. М.: Высш. Школа, 1981. 359 с.
Пеньковский А.Б. О семантической категории чуждости в русском языке // Очерки по русской семиотике. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 13-49.
Теньер Л. Основы структурного синтаксиса: Пер. с франц. /Вступ. ст. и общ. ред. В.Г.Гака. М.: Прогресс, 1988. 656 с.
Глава 7. Числительное
Как уже говорилось выше, формирование числительного связано с развитием аналитизма в древнерусском и русском языке. Основой для этой тенденции послужило формирование представления об абстрагированном числе как семантическом прототипе числительного. В.В. Виноградов [1986] связывает развитие числительного с влиянием математического представления о числе, потерей им «предметности». А.А. Потебня, рассуждая «о борьбе мифического сознания с относительно научным в области грамматических категорий», писал, что «…математика, оперируя с отвлеченным числом, отвлеченною величиной, возможна лишь тогда, когда язык перестает ежеминутно навязывать мысль о субстанциальности, вещественности числа» [цит. по Виноградов, 1986. С. 242, сноска].
Степень абстрактности числа как меры количества можно понять, исходя из конструкционалистской модели натурального числа, предложенной Б. Расселом и А. Уайтхедом. Вот как описывает эту трактовку числа Н. Винер: «При конструкционалистской трактовке чисел сперва вводится понятие единичного множества – такой совокупности объектов, что, взяв любой из них, мы будем иметь тот же самый объект. Число "один" после этого служит для обозначений совокупности всех единичных множеств. Диадой далее называется совокупность объектов, не являющаяся единичным множеством, но становящаяся единичным множеством после удаления из нее любого из входящих в нее объектов. Тогда число "два" – это совокупность всех диад. После этого триада определяется как совокупность объектов, не являющаяся ни единичным множеством, ни диадой, но превращающаяся в диаду при удалении любого из входящих в нее объектов, а число "три" – как совокупность всех триад. Подобным образом при помощи процесса, называемого процессом математической индукции, может быть построено полное множество всех положительных целых чисел» [Винер Н. Я – математик. Ижевск: НИЧ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. 336 с. С. 44]. Таким образом, число можно определить как «множество множеств множеств» (Эта мысль была сформулирована еще раньше Г. Фреге).
В плане словоизменения «освобождение от субстанциальности», то есть развитие числительного как части речи, связано с утратой им субстанциальных категорий:
1) рода (напомним, что род представляет собой «натуральный класс», то есть классифицирует денотат существительного по его материальным свойствам, в данном случае – по полу.
2) числа: эта категория связана с выражением количества, а количество является лексическим значением числительных;
3) падежа; необходимость утраты этой категории не столь очевидна, однако и она отражает способность денотата существительного проявлять независимость от других реалий.
Второй аспект освобождения от «субстанциальности» – это особенности синтагматики, которая должна отличаться от синтаксического поведения существительного, которое в сочетании с другим существительным проявляет определенность: независимость при доминировании, фиксированную форму при управлении и уподобление в падеже и числе при согласовании. Наиболее простой путь для аналитических слов – утрата всякого морфологического проявления зависимости, то есть примыкание. Однако для числительного такое поведение невозможно, поскольку у него сохранилось падежное словоизменение.
Таким образом, в логике именно числительное, а не наречие должно было стать полностью аналитическим, неизменяемым словом.
Учитывая общую тенденцию к аналитизму, В.В. Виноградов показывает, что числительное как часть речи находится только в стадии формирования. Это значит, что освобождение этого класса слов от именных категорий произошло не полностью.
Числительные от одного до десяти и числительное сто относятся к индоевропейскому и праславянскому фонду лексики. При этом предки числительных один, два, три и четыре вели себя в праславянском языке как прилагательные, то есть имели родовое словоизменение и вступали в согласование с существительным (одинъ в единственном и множественном числе; дъва в двойственном числе, трие и четыре – во множественном числе), а остальные слова вели себя как существительные, то есть имели фиксированный род и управляли родительным падежом множественного числа существительного [Горшкова, Хабургаев, 1981. С. 267-269].
Современное состояние в словоизменении и синтагматике числительных чрезвычайно занимательно и демонстрирует существенные отличия основного массива числительных от других «имен».
Словоизменение.
Рассмотрим последовательно все перечисленные субстантивные категории на массиве числительных.
Категория числа. Большинство числительных не имеют категории числа. Исключение составляют числительное один, а также числительные тысяча, миллион, миллиард (биллион), триллион и т.п. Особенно интересна функция множественного числа числительного один: оно используется в сочетании с существительными pluralia tantum, обозначающими отграниченные в пространстве и времени реалии: одни сани, одни проводы.
Категория рода. Большинство числительных не имеют категории рода. Исключение составляют числительное один, два, полтора, а также числительные тысяча, миллион, миллиард (биллион), триллион и т.п. У числительных один, два, полтора категория рода словоизменительная, при этом один имеет в единственном числе граммемы трех родов, а два и полтора только форму именительного падежа женского рода: две лошади, полторы чашки.
Категория падежа. В отношении количества падежных форм разные числительные ведут себя по-разному.
Числительные сто, девяносто, сорок, полтора и полтораста имеют две падежные формы: именительного-винительного падежа (см. выше) и косвенных падежей – с флексией –а: ста, девяноста, сорока и «внутренней флексией» -у-: полутора и полутораста.
Числительные, склоняющиеся по третьему субстантивному типу склонения: от пяти до двадцати и тридцать, имеют три падежные формы: И.-В. пять; Р.-Д.-М. пяти; Т. пятью. Такое же склонение имеют числительные пятьдесят, шестьдесят, семьдесят и восемьдесят. Однако у них в косвенных падежах склоняются обе части: И.-В. пятьдесят; Р.-Д.-М. пятидесяти; Т. пятьюдесятью.
Числительные два, три и четыре имеют более сложное склонение: Р.-М. двух, трех, четырех; Д. двум, трем, четырем; Т. двумя, тремя, четырьмя; В. в зависимости от одушевленности входящего в количественное сочетание существительного.
У числительных, обозначающих трехразрядные числа, кратные ста, склоняются обе части, при этом часть -ст-/-сот- склоняется во множественном числе по субстантивному типу: Р. ‑сот; Д. -стам; В.=И.; Тв. -стами; М. -стах.
Числительное один склоняется по адъективному типу склонения. Исключение составляет граммема именительного падежа: все ее словоформы имеют флексии субстантивного склонения.
Числительные тысяча, миллион, миллиард (биллион), триллион и т.п. склоняются по субстантивному типу склонения в соответствии с характером финали в форме именительного падежа. Небольшое исключение составляет числительное тысяча, которое имеет вариантную словоформу Т. падежа единственного числа: тысячей / тысячью. Как видим, принадлежность к третьему типу субстантивного склонения оценивается узусом как черта числительного.
Таким образом, можно выделить номинативно-словоизменительный центр числительных и от него отмерять числительные, которые отклоняются от идеала.
В наименьшей степени подвержены словоизменению такие числительные, как сто, девяносто, сорок и полтораста, у которых отсутствуют категории рода и числа и всего две падежные формы: именительного-винительного падежа и косвенных падежей. К ним примыкают числительные, склоняющиеся по третьему субстантивному типу склонения: от пяти до двадцати и тридцать. У них также отсутствуют категории рода и числа, однако они имеют три падежные формы: И.-В. пять; Р.-Д.-М. пяти; Т. пятью. В эту же группу стоит отнести и сложные, комбинированные числительные, включающие в себя любые из вышеперечисленных элементов: пятьдесят, двадцать пять, пятьсот шестьдесят восемь. Назовем такие числительные эталонными и отнесем их к группе 1.
Следующую группу (группу 2) образуют числительные полтора, два, к которым примыкают числительные три и четыре. У числительных полтора и два имеется одна форма именительного падежа женского рода. Вместе с числительными три и четыре они проявляют особенности в синтагматике, что будет рассмотрено ниже.
Группу 3 образуют числительные тысяча, миллион, миллиард (биллион), триллион и т.п., ведущие себя как существительные.
И наконец, числительное один ведет себя как прилагательное.
В синтагматике числительные ведут себя довольно противоречиво и по-разному в зависимости от группы.
В сочетании с существительным «эталонные» числительные в именительном падеже доминируют, используя связь управления: сорок, пять, шестьдесят коней. В косвенных падежах они согласуются с существительным: сорока, пятью, шестьюдесятью конями. В родительном падеже невозможно определить, наблюдается согласование или управление, поскольку родительный падеж существительного может быть и управляемым, и доминирующим: сорока, пяти, шестидесяти коней.
Числительные группы 2 в именительном падеже управляют формой родительного падежа единственного числа, которая является переосмысленным рудиментом именительного падежа двойственного числа: полтора, два, три, четыре килограмма; полторы, две, три, четыре сестры (Им. дв. числа сестрê). В остальных падежах они согласуются, включая и форму родительного падежа, поскольку в этом случае они сочетаются с формой родительного падежа множественного числа: полутора, двух, трех, четырех килограммов, сестер.
Числительное один согласуется с существительным во всех формах: один конь, одному коню, то есть и в синтагматике проявляет себя как прилагательное.
Числительные группы 3 управляют существительным в форме родительного падежа множественного числа: тысяча, миллион, миллиард коней; тысячей, миллионом, миллиардом коней.
Таким образом, обнаруживается, что эталонным числительным и числительным полтора, два, три, четыре безразлично, доминировать или подчиняться, управлять или согласоваться с существительным в синтагме.
Также интересно и поведение числительных по отношению к согласуемым словам, прежде всего глаголам, поскольку взаимодействие с атрибутивным прилагательным у количественных сочетаний ограниченно лексически и морфологически. Здесь интересно согласование в роде-числе, поскольку эти категории при согласовании связываются в единую систему. Обнаруживается, что группы 1 и 2 не могут требовать от глагола согласования в роде и числе, поскольку не обладают этими категориями. Поэтому возможна постановка глагола в среднем роде единственного числа или во множественном числе: Целых два коня /пять коней стояли / стояло в конюшне. Семантические и стилистические условия выбора формы см., например, в справочнике Д.Э. Розенталя [1997. С. 275 и далее].
Числительные тысяча, миллион, миллиард и т.п. ведут себя и в этом отношении как существительные: Целая тысяча коней стояла в конюшне. Числительное один также ведет себя в соответствии с поведением части речи, с которой соотносится в словоизменении, то есть прилагательного: Один конь стоял / одна лошадь стояла в конюшне.
Полевую структуру количественных числительных можно представить в следующем виде:
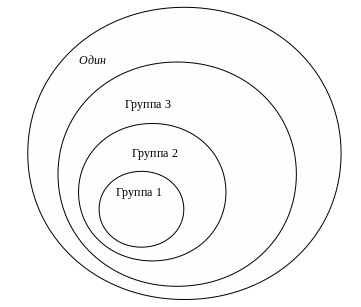
Рис. 7. Полевая структура числительного
В этом пространстве разное место занимают собирательные числительные и так называемые порядковые числительные.
Собирательные числительные обозначают нерасчлененные совокупности предметов и лиц, Однако эта нерасчлененность иного свойства, чем нерасчлененность, выражаемая собирательными существительными. Она не связана с неотграниченностью обозначаемого множества, а, наоборот, представляет собой целостность. Это позволяет таким числительным обозначать, в частности, в абсолютивном употреблении, целостные совокупности людей: Из лесу вышли пятеро, Другая функция собирательных числительных – обозначение количества отграниченных реалий, обозначаемых существительными pluralia tantum: трое саней, четверо выборов. При этом собирательные числительные двое, трое и четверо являются единственными выразителями соответствующего количества для таких существительных в именительном падеже, поскольку числительные два, три и четыре в именительном падеже управляют формой родительного падежа единственного числа, которой априори нет у существительных pluralia tantum.
Порядковые числительные многие лингвисты относят к прилагательным по их словоизменению и синтагматике. Однако у «составных» порядковых числительных-прилагательных изменяется только последний компонент, что является демонстрацией тенденции к аналитизму, характерной для числительного в целом.
Литература
Винер Н. Я – математик. Ижевск: НИЧ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. 336 с. С. 44
Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. 3-ье изд. М., 1986. . С. 242.
Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка: Учеб. пособие. М.: Высш. школа, 1981. 359 с.
Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и стилистике. М.: СПб.: ИК «Комплекс», 1997. 384 с.
ГЛАВА 8. МОРФОЛОГИЯ ГЛАГОЛА
8.1. Общая характеристика глагола
Главное в семантике глагола то, что он предназначен для обозначения процессов, которые характеризуются следующими свойствами:
– процессы происходят во времени;
– фазы процесса не совпадают друг с другом;
– в идеале – наличие внутреннего предела;
– наличие результата – состояния, существования или местоположения.
Эти аспекты процесса выражаются категорией вида. Следовательно, вид – определяющая категория: делит все референты глагола на процессы и непроцессы.
При этом глагол потенциально обозначает комплексную семантическую сущность – событие, минимальный целостный фрагмент мира. С выражением событийных характеристик связаны категория залога и актуализационные (предикативные) категории: наклонения, лица и числа, а у атрибутивных причастий – еще и категория падежа.
Глагол обладает самым большим количеством категорий: вид, залог, наклонение, время, лицо, число, род, падеж. Эти категории можно разделить двумя способами:
1. Внутренние и внешние.
Внутренние категории, вид и залог, выражают особенности денотата глагола безотносительно к актуально обозначаемому событию, то есть характеризуют внутреннюю структуру процесса (вид) и события (залог). Внешние, или актуализационные, категории привязывают сценарий, схему события, обозначаемую глаголом, к действительности, когда глагол употребляется в высказывании, обозначая реальное событие.
2. Процессные и ситуативные.
К процессным категориям относятся вид и время, которые обозначают главный аспект процесса – временную характеристику. К ситуативным можно отнести все другие категории, которые обозначают характеристики события, в котором процесс связан с объективной реальностью, участниками, пространственными объектами.
Глагол представляет собой сложно разветвленную и организованную систему форм, имеющую гиперклассное строение. На первом уровне деления обнаруживаются изолированные формы: инфинитив и деепричастие, – а также системы форм: личные формы, причастия, атрибутивные и предикативные.
Можно сказать, что система форм почти изоморфна организации всех других частей речи, что свидетельствует о существовавшем когда-то противопоставлении имени и глагола, см. табл. 5.
Таблица 5
Сопоставление именных частей речи и систем форм глагола
Части речи |
Системы форм глагола |
– |
Личные формы |
Существительное |
Инфинитив |
Прилагательное |
Причастие |
Числительное |
– |
Наречие |
Деепричастие |
Как видим, у глагола есть система форм, не имеющая соответствия в остальных частях речи – личные формы. И у него нет системы форм, соответствующей еще не сформировавшемуся, по большому счету, в часть речи числительному.
Личные формы образуются тремя граммемами наклонения, одна из которых (граммема изъявительного наклонения) формируется тремя граммемами времен, каждая из которых формируется матрицами граммем лица и числа (граммема прошедшего времени – рода + множественного числа).
У глагола потенциально существуют четыре атрибутивных причастия, образующие матрицу «время × залог». Каждое причастие имеет парадигму атрибутивного словоизменительного класса.
Также потенциально у глагола есть два предикативных причастия страдательного залога, настоящего и прошедшего времени, из которых причастие настоящего времени практически не употребляется.
Такой сложной парадигме соответствует и не менее сложная морфемная структура:
1. (префикс (вид)) – корень – (суффикс (вид)) – тема (тип спряжения) – (суффикс (причастие, деепричастие, инфинитив, прошедшее время изъявительного наклонения)) – флексия (лицо, число, род, падеж) – (постфикс (залог)).
Эта структура является потенциальной. Возможны ее реализации без обязательных компонентов:
а) нетематические глаголы, у которых отсутствует тема (идти, дать, быть): иду, дам, буду;
б) так называемые глагольные междометия, реализующие чистый глагольный корень (хвать, прыг, цап, дрыг);
Реализация этой структуры может быть максимально полной, например: вы-мат-ыва-ющ-ие-ся.
2. У глагола, в отличие от существительного, наличествуют 2 основы, служащие базой для словоизменения:
а. настоящего времени;
б. прошедшего времени – инфинитива;
Иногда основа инфинитива не совпадает с основой прошедшего времени. Наличие более чем одной основы словоизменения глагола характерно для индоевропейских языков, поэтому вместо одной «начальной» формы обычно заучиваются две или более.
В школьном курсе основа настоящего времени связана со спряжением, а основа прошедшего времени определяется тематическим гласным, который называется суффиксом глагольной основы.
Основа настоящего времени служит базой словоизменения настоящего (у глаголов совершенного вида – настоящего-будущего) времени изъявительного наклонения, повелительного наклонения, причастий настоящего времени.
Основа прошедшего времени служит базой словоизменения прошедшего времени изъявительного наклонения, сослагательного наклонения, инфинитива, причастий прошедшего времени.
Деепричастие, как правило, строится в зависимости от вида глагола: у глаголов несовершенного вида используется основа настоящего времени, а у глаголов совершенного вида – основа прошедшего времени, однако у некоторых глаголов оно может строиться на базе любой из основ: придя / пришедши,
Синтагматика глагола, пожалуй, самая сложная среди частей речи. Она обусловлена функцией обозначения события, которую выполняет глагол. Глагол имеет большой набор валентностей, позволяющих ему служить центром предикативной единицы – синтаксической структуры, предназначенной для выражения события.
У глагола есть валентности на падежные формы существительного, обозначающие участников события (актантные валентности). Максимальное количество актантных валентностей – пять: Петров левой рукой передал Иванову нож для Сидорова.
Из всех актантных валентностей глагол одновременно доминирует и подчиняется только форме именительного падежа существительного: управляет ей, но при этом согласуется в лице (роде) и числе, например, Весна придет / пришла. Такая связь называется координацией. Позиция именительного падежа и соответствующая синтаксическая валентность у личных форм глагола, предикативных причастий и атрибутивных причастий в функции предиката в общем случае обязательна. Незамещение этой позиции чрезвычайно подробно описано в синтаксической литературе и связано с отсутствием, неагентивностью, обобщенностью или неопределенностью субъекта, его референтным или сигнификативным тождеством с другой семантической позицией в тексте.
Важную роль в отражении глаголом структуры события играет валентность на винительный падеж, которая сохраняется у всех активных форм глагола, включая инфинитные. Наличие этой валентности закрепилось в термине переходность (транзитивность) и тесно связано с категорией залога. Другие актантные валентности, иногда даже обязательные, играют в семантике и морфологии глагола значительно меньшую роль.
Кроме того, существуют валентности для предложно-падежных форм существительного или наречий, обозначающих место и время события, а также для языковых выражений, обозначающих причинно-следственные и уступительные значения. Н.Ю. Шведова, однако, считает, что заполняющие эти валентности языковые выражения являются детерминантами, позиция для которых определяется не глаголом, а предикативной единицей.
И последний тип валентностей – валентность для языкового выражения, обозначающего качество процесса, как правило, наречия или предложно-падежной формы существительного.
Большинство валентностей глагола, среди которых есть и актантные, может быть замещено предикативными единицами.
