
Семеновкер 1 / стр 26,27
.doc
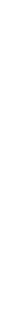 В
этнографии они рассматриваются как
разновидности фольклора
(11,
с. 28). Мадленский рисунок и
верхнепалеолитические музыкальные
инструменты свидетельствуют о том,
что музыка и танцы были известны человеку
с древнейшей
эпохи (1,
с. 186). При этом даже в современном мире
племена,
которые находятся на сходном примитивном
уровне
социально-экономического развития,
имеют одинаковое мелодическое
мышление, хотя они проживают в разных
концах планеты. В качестве примера
приводятся ведда (Цейлон)
и огнеземельцы (Огненная Земля — южная
оконечность
Южной Америки) (20, с. 12—14). Важно также,
что музыка
и танец продолжают иметь повсеместное
распространение
в современном мире. При этом за музыкальным
искусством
признается коммуникативная функция, а
одной из
основных отличительных особенностей
музыкального произведения
является его письменная фиксация (36, с.
91, 95). Таким
образом, в музыке, как и в случае языка,
время введения и, главное, победы
письменности является верхней
границей бесписьменного общества.
В
этнографии они рассматриваются как
разновидности фольклора
(11,
с. 28). Мадленский рисунок и
верхнепалеолитические музыкальные
инструменты свидетельствуют о том,
что музыка и танцы были известны человеку
с древнейшей
эпохи (1,
с. 186). При этом даже в современном мире
племена,
которые находятся на сходном примитивном
уровне
социально-экономического развития,
имеют одинаковое мелодическое
мышление, хотя они проживают в разных
концах планеты. В качестве примера
приводятся ведда (Цейлон)
и огнеземельцы (Огненная Земля — южная
оконечность
Южной Америки) (20, с. 12—14). Важно также,
что музыка
и танец продолжают иметь повсеместное
распространение
в современном мире. При этом за музыкальным
искусством
признается коммуникативная функция, а
одной из
основных отличительных особенностей
музыкального произведения
является его письменная фиксация (36, с.
91, 95). Таким
образом, в музыке, как и в случае языка,
время введения и, главное, победы
письменности является верхней
границей бесписьменного общества.
Каковы современные источники сведений о бесписьменном обществе? Это, прежде всего, данные антропологии, археологии и этнологии. Они являются основными для изучения и реконструкции первобытного общества (1, с. 3—4). Письменные источники, т. е. источники, которые были созданы после возникновения письменности, — более поздние. Для изучения того первобытного общества, которое сменили древние цивилизации, они имеют второстепенное значение (1, с. 35—37), но для исследования бесписьменной информационной деятельности, которая сохранилась даже после победы письменности на подавляющей части территории земного шара, письменные источники имеют безусловную ценность. К этой категории источников относятся, например, труды древних историков, записки путешественников, капитанов, купцов, миссионеров и др. (11, с. 26—27).
Значение археологии самоочевидно. Антропологи также собрали большой материал, который не основан на письмен-
26
ных источниках, (73, с. 9). В том числе, для исторической реконструкции первоначального человеческого общества в антропологии были использованы сведения о стадных взаимоотношениях у обезьян (70, с. 226). А.А. Велик отмечает, что антропология может быть любой: социальной, психологической, экологической и т. д. (4, с. 141). Если это верно, то она вполне может быть также информационной. Все зависит от объекта и методов исследования. Естественно, что в информационной антропологии объектом изучения должна быть информационная деятельность.
Особое значение для исследования бесписьменной информационной деятельности имеют данные этнологии. Для истории первобытного общества эти данные важны, но они играют скорее вспомогательную, иллюстративную роль (1, с. 23). Напротив, для понимания бесписьменной культуры этнографическое изучение отсталых обществ дает значительный фактографический материал (34, с. 61, 63,66). Это относится к достижениям этнологии в XIX и XX вв. (73, с. 36—37). Поэтому можно поставить вопрос о целесообразности антропологического и этнографического прослеживания эволюции информационной деятельности, особенно на ее бесписьменном этапе. В самом предварительном порядке эта задача была поставлена перед настоящим исследованием.
Одним из следствий великих географических открытий было осознание того, что культурные элементы во всем мире повторяются (98, с. 2). Эволюция всех народов достаточно единообразна. Поэтому для понимания современного состояния можно изучать народы, которые находятся на предшествующих фазах развития. Их современная история — это наша предшествующая история (49, с. 13—14, 349). Этнология дополняет сведения археологии данными о пигмеях, бушменах и других живых реликтах современного мира (44, с. 35). Кроме письменных и археологических материалов она использует результаты современных полевых исследований (56, с. 23). Для изучения информационной деятельности в современных бесписьменных обществах имеют особое значение непосредственные наблюдения за поведением, устные
27
