
- •3.2. «Москва — Петушки» (1969) Вен. Ерофеева
- •2 Паперно и.А., Гаспаров б.М. Встань и иди. — с. 389, 390.
- •1 Лихачев д. С, Панченко a.M., Понырко н.В. Смех в Древней Руси. — л.,
- •2 Лихачев д. С, Панченко a.M., Понырко и. В. Смех в Древней Руси. — с. 72.
- •3.3. Романы Саши Соколова
- •1. Постмодернистские тенденции в поэзии
- •1 Васильев и. Е. Русский литературный концептуализм / / Русская литература
- •XX века: Направления и течения. — Екатеринбург, 1996. — Вып. 2. — с. 137, 138,
- •1 Гройс б. Стиль Сталин / / Утопия и обмен: Стиль Сталин. О новом. Статьи. —
- •2 Личное дело № : Литературно-художественный альманах / Под ред. Л. Рубинштейна.
- •1 См. Следующие сборники Жданова: Портрет, Современник, 1982; Неразменное
- •2. Постмодернистская проза
- •2.1. Татьяна Толстая
- •1 См.: Goscilo Helena. Tnt: The Explosive World of Tatyana n. Tolstaya. — Armonk:
- •1 Все цитаты из прозы т.Толстой приводятся по кн.: Толстая т. Сомнамбула
- •1 Парамонов б. Русская история наконец оправдала себя в литературе //См.:
- •2 Немзер а. Азбука как азбука: Татьяна Толстая надеется обучить грамоте всех
- •3 Степанян к. Отношение бытия к небытию / / Знамя. — 2001. — № 3. — с. 217.
- •1 Eliade Mircea. Birth and Rebirth: The Religious Meaning of Initiation in Human
- •2.5. Виктор Пелевин
Рождение русского постмодернизма
(А.БИТОВ, ВЕН.ЕРОФЕЕВ, САША СОКОЛОВ)
Постмодернизм как движение в литературе, искусстве, философии,
а позднее — практически во всех гуманитарных дисциплинах
возникает на Западе в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Этот
термин объединяет широкий спектр разнообразных культурных процессов,
таких, например, как поиски синтеза между «высоким модернизмом
» и массовой культурой, критическое отношение ко вся-
кого рода глобальным идеологиям и утопиям, внимание к марги^
нальным социальным группам и культурным практикам (вообще
— децентрализация культуры), отказ от модернистского и авангардистского
культа новизны — постмодернистский текст никогда
не скрывает своей цитатной природы, оперируя уже известными
эстетическими языками и моделями. Классикой европейского и американского
постмодернизма стали новеллы Х.Л.Борхеса, «Лолита
» В.Набокова, «Имя розы» У.Эко, романы Дж.Фаулза, Х.Кортасара,
Г.Маркеса, П.Хандке, И.Кальвино. Философией постмодернизма
стала деконструкция Ж.Деррида, «археология знания»
М.Фуко, теория симулякра Ж.Бодрийяра, социологическая школа
Ж.Ф.Лиотара. Западные теоретики определяют постмодернизм как
культурное сознание «позднего капитализма» (Ф.Джеймсон), как
порождение цивилизации масс-медиа (Ж. Бодрийяр), «конца истории
» (Ф.Фукуяма). Хотя эти характеристики мало применимы
к советской культуре, тем не менее на рубеже 1960— 1970-х годов
— т. е. фактически одновременно с первыми манифестами постмодернизма
на Западе — в русской литературе появляются произведения
Андрея Битова, Венедикта Ерофеева, Саши Соколова,
Иосифа Бродского и некоторых других авторов, которые впоследствии
(в конце 1980-х) были оценены как первые шаги русского
постмодернизма, во многом предопределившие его дальнейшую
динамику. По-видимому, рождение постмодернизма
объясняется иными причинами, чем постиндустриальная экономика
и компьютеризация.
Выделим важнейшие, на наш взгляд, характеристики «постмодернистской
ситуации» в России:
1. Кризис утопических идеологий. Если «оттепель» во многом была
вдохновлена идеей «очищения» коммунистической утопии от грехов
тоталитаризма, то поражение «оттепели», политические процессы
над Синявским и Даниэлем, Бродским, первыми диссидентами,
живо напомнившие процессы 1930-х годов, а в особенности
подавление силой оружия «Пражской весны», — все эти
события конца 1960 — начала 1970-х годов явственно доказывали
неразделимость коммунистической утопии и тоталитарного насилия,
а следовательно, и фиктивность веры в коммунизм как в
высшую форму социального прогресса, как в наиболее разумную
и управляемую фазуистории человечества. В более широком смысле
девальвация ценностей коммунистической утопии, принимающая
в 1970-е годы уже лавинообразный характер, была воплощением
кризиса ценностей Разума и Прогресса, важнейших ценностей
всей культуры Нового времени. По мнению французского философа
Жана Франсуа Лиотара, именно инфляция этих базовых ценностей
лежит в основании западной культуры постмодернизма.
2. Чем глубже идеологизировано общественное сознание, тем
радикальнее открытие глобальной лжи, подмены жизни идеоло-
гическими фантомами, сопровождающее кризис господствующей
идеологии. Кризис ценностно-идеологических оснований общества,
стремительная инфляция прежних мифов и верований приводит
к эффекту исчезновения реальности. Это явление ярко описано
философом Жаном Бодрийяром, создателем теории симуляк-
ра и симуляции. Бодрийяр утверждает, что в эпоху постмодернизма
действительность заменяется сетью «симулякров» — самодостаточных
знаковых комплексов, уже не имеющих никаких соответствий
в реальном мире. Так, по мнению философа, возникает
«гиперреальность симулякров». «Симулякры» управляют поведением
людей, их восприятием, в конечном счете, их сознанием,
что в свою очередь приводит к «гибели субъективности»: человеческое
«Я» также складывается из совокупности «симулякров»1. Мир
при таком подходе воспринимается как огромный многоуровневый
и многозначный текст, состоящий из беспорядочного и непредсказуемого
сплетения различных культурных языков, цитат,
перифразов. Это открытие в высшей степени характерно и для
советской цивилизации, даже в большей степени, чем для западной,
поскольку культура соцреализма и государственный контроль
над всеми средствами массовой информации лишали все явления,
не вписывающиеся в модель «реального социализма», права
на существование. Поэтому исчезновение религиозной веры в коммунистическую
утопию приводит к распаду всей советской картины
мира: лишаясь своего стержня, она превращается в хаотический
набор фикций, фантомов, «симулякров», за которыми уже
не ощущается никакой иной реальности2.
Если признать эти факторы важнейшими составляющими «постмодернистской
ситуации» (хотя исследователи постмодернизма
1 См.: Baudrillard Jean. Simulacra and Simulation / Transl. by Sheila F. Glase. — Ann
Arbor, 1994.
2 Концепция «симулякра и симуляции» лежит в основе исследования М. Н.Эп-
штейна «Истоки и смысл русского постмодернизма». В этой работе множество
интересных наблюдений над симулятивностью соцреалистической культуры,
полностью отождествившей реальность с идеологическими мифологемами. Эп-
штейн доказывает, что феномен «съедающей» реальность симуляции сохраняется
и в постсоветской культуре. По мнению исследователя, русский постмодерн
возникает как обнажение механизма этой неизжитой социалистической симуляции,
как открытие пустоты под системой знаков. Особенно убедительно этот
тезис подтверждается русским концептуализмом (соц-артом). М.Эпштейн полагает,
что симулятивность вообще является доминантой русской культуры чуть ли
не со времен крещения Руси князем Владимиром, и с этой точки зрения, по
логике критика, уже соцреализм представляет собой «первую стадию перехода
от модернизма к постмодернизму. Социалистический реализм — это постмодернизм
с модернистским лицом, сохраняющим выражение абсолютной серьезности
» (опубликовано в книге: Epstein Mikhail. After the Future: The Paradoxes of
Postmodernism in Contemporary Russian Culture / Trans, by Anesa Miller-Pogacar. —
Amherst, 1994. См. также: Эпштейн М. Н. Истоки и смысл русского постмодернизма
/ / Звезда. - 1996. — № 8).
377
обращают внимание и на целый ряд других, может быть, менее
значительных или менее подходящих к советской культуре причин),
то необходимо будет признать, что эти предпосылки складываются
в России уже на рубеже 1960—1970-х годов и, постепенно
набирая силу, достигают своего максимального выражения
уже в конце 1980-х — в годы «перестройки» и окончательного
крушения коммунистической утопии. Эти социокультурные процессы
породили целый ряд собственно художественных стратегий,
противоположных как реалистическому, так и авангардному
искусству.
Постмодернизм отвергает реалистическое представление о характере
и обстоятельствах, представляя и то и другое как воплощение
тех или иных, а чаще сразу же нескольких, культурных моделей.
Интертекстуальность — т.е. соотнесенность текста с другими
литературными источниками — приобретает в постмодернизме значение
центрального принципа миромоделирования. Каждое событие,
каждый факт, изображаемый писателем-постмодернистом,
оказывается скрытой, а чаще явной цитатой. И это логично: если
реальность «исчезла» под напором продуктов идеологии, симуляк-
ров, то цитирование литературных и культурных текстов оказывается
единственной возможной формой восприятия реальности.
Соответственно дискредитируется в постмодернизме и такое
важнейшее философское понятие реалистической эстетики, как
правда. В мире-тексте, а точнее, хаотическом конгломерате множества
текстов — мифологий, идеологий, традиций, стереотипов
и т. п. — не может быть единой правды о мире. Ее заменяет множественность
интерпретаций и, шире, множественность одновременно
существующих «правд» — абсолютных в пределах своего
культурного языка, но фиктивных в сопоставлении со множеством
других языков. В реалистическом тексте носителем правды был всезнающий
автор («Романист знает все», — декларировал Текке-
рей). В постмодернистском произведении методически подрывается
претензия автора на всезнание, автор ставится в один ряд с
заблуждающимися и ошибающимися героями, в то время как герои
присваивают себе многие черты автора (не случайно постмодернистский
роман всегда насыщен сочинениями персонажей,а
постмодернистский лирик, как правило, носит какую-то культурно-
мифологическую маску или сразу несколько масок одновременно).
Правда «автора», а точнее, представляющего его персонажа,
который к тому же нередко носит имя биографического
автора, выступает как одна из возможных, но далеко не безусловных
версий. В этом смысле постмодернизм продолжает традицию
полифонического романа (в интерпретации Бахтина), доводя ее
до гипертрофированных форм и размеров: если, по Бахтину, в
полифоническом романе Достоевского истина возникает в точке
пересечения различных «голосов», то в постмодернизме «голо-
сов» становится так много, что единой точки пересечения между
ними просто не может возникнуть — в совокупности эти «голоса
», всегда представляющие определенные языки и традиции культуры,
моделируют культуру как хаос.
Русский постмодернизм во многом продолжает искусственно
прерванную динамику модернизма и авангарда — и стремление
«вернуться» в Серебряный век или, точнее, возродить его определяет
многие специфические отличия русской модели этого направления
от западной. Однако по мере своего развития русский
постмодернизм все осознаннее отталкивается от такой важнейшей
черты модернистской и авангардистской эстетики, как мифологизация
реальности. В модернизме и авангарде создание индивидуального
поэтического мифа, всегда опирающегося на некие
авторитетные архетипы и модели, означало создание альтернативной
реальности, а точнее, альтернативной вечности — преодолевающей
бессмыслицу, насилие, несвободу и кошмар современности.
Миф представлял высшую и лучшую форму бытия еще
и потому, что он был создан свободным сознанием художника и
тем самым становился материализацией индивидуальной концепции
свободы.
Постмодернизм нацеленно разрушает любые мифологии, понимая
их как идеологическую основу власти над сознанием, навязывающей
ему единую, абсолютную и строго иерархическую модель истины, вечности,
свободы и счастья. Начиная с критики коммунистической
мифологии (соц-арт в изобразительном искусстве, а затем и концептуализм
в литературе), постмодернизм довольно скоро переходит
к критике мифологических концепций русской классической
литературы и русского авангарда, а затем и мифов современной
массовой культуры. Однако, разрушая существующие мифологии,
постмодернизм стремится перестроить их осколки в новую,
неиерархическую, неабсолютную, игровую мифологию, так
как писатель-постмодернист исходит из представления о мифе как
о наиболее устойчивом языке культурного сознания. Таким образом,
стратегию постмодернизма по отношению к мифу правильнее
будет определить не как разрушение, а как деконструкцию, перестраивание
по иным, контрмифологическим, принципам1.
В конечном счете важнейшая из постмодернистских стратегий
может быть определена как диалог с хаосом. В принципе, постмодернизм
продолжает искания модернизма. Но если в модернизме
хаосу жизни был противопоставлен космос творчества, искусства,
культуры, то постмодернизм начинается с убеждения в том,
В большинстве случаев невозможно говорить о прямом влиянии философии
Деконструкции Жака Деррида на русских писателей-постмодернистов, однако определенные
черты близости объясняются тем, что сама теория и практика Деррида в
наиболее концентрированной форме выразила философский дух постмодернизма.
379
что любая, даже самая возвышенная, модель гармонии мира не
может не быть утопией. А утопия неизбежно стремится трансформировать
реальность с помощью идеала и идеологии, и следовательно,
порождает симуляцию реальности: пример коммунистической
утопии не оставлял никаких иллюзий на этот счет. Симуляция
же уничтожает реальность, оставляя взамен пустоту и хаос.
Но хаос симулякров состоит из осколков различных языков культуры,
языков гармонии, которые звучат вразнобой, перекрывая
друг друга, и с которыми писатель-постмодернист вступает в
диалогические отношения.
Принципиальная новизна такой стратегии состоит в том, что
постмодернизм воплощает художественно-философскую попытку
преодолеть фундаментальную для культуры антитезу хаоса и космоса,
переориентировать творчество на поиск компромисса между
этими универсалиями. Диалог с хаосом нацелен именно на такой
поиск. В связи с постмодернизмом возможно говорить о философии
«хаосмоса» (Д.Джойс) — хаоса, способного к саморегуляции
и самоорганизации, хаоса, способного сохранять и даже порождать
внутри себя нетрадиционные, неустойчивые, подвижные,
неабсолютные и неиерархизированные культурные порядки1.
Хаос не негативная категория в постмодернизме, но максимальное
выражение открытости. Лауреат Нобелевской премии,
химик Илья Пригожий, один из тех, кто заложил основы современных
естественно-научных представлений о комплексной динамике,
или «теориях хаоса», дает такое определение хаоса: в состоянии
хаоса активность системы «может быть определена как
противоположность безразличному беспорядку, царящему в состоянии
равновесия... все возможности актуализируются и сосуществуют
и взаимодействуют друг с другом, а система оказывается
в одно и то же время всем тем, чем она может быть»2.
Более конкретным выражением этой стратегии является ориентация
постмодернистов на создание неустойчивых, нередко
внутренне конфликтных и даже взрывных, гибридов, компромиссных
образований между как эстетическими, так и онтологическими
категориями, которые традиционно воспринимаются как антитетичные
и несовместимые. Это могут быть парадоксальныекомпромиссы
между смертью и жизнью (Битов, Вен. Ерофеев, Соколов),
фантазией и реальностью (Толстая, Пелевин), памятью и
1 Такое понимание сближает постмодернизм с естественно-научными «теориями
хаоса» (И.Пригожий, Б.Манделброт, М.Фейгельбаум и др.), которые нередко
интерпретируются как основание новой научной парадигмы, или новой
картины мироздания, вырастающей на основе открытий релятивности времени
и пространства (в свою очередь оказавших колоссальное влияние на культуру
модернизма).
2 Пригожим И. Переоткрытие времени / / Вопросы философии. — 1989. — № 8. —
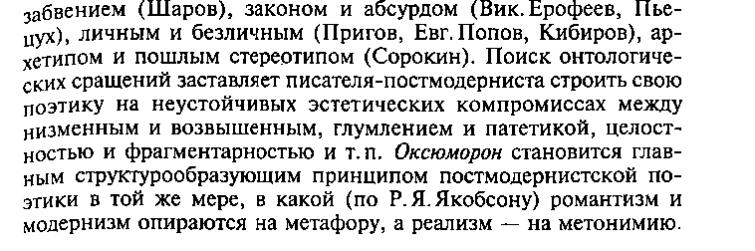
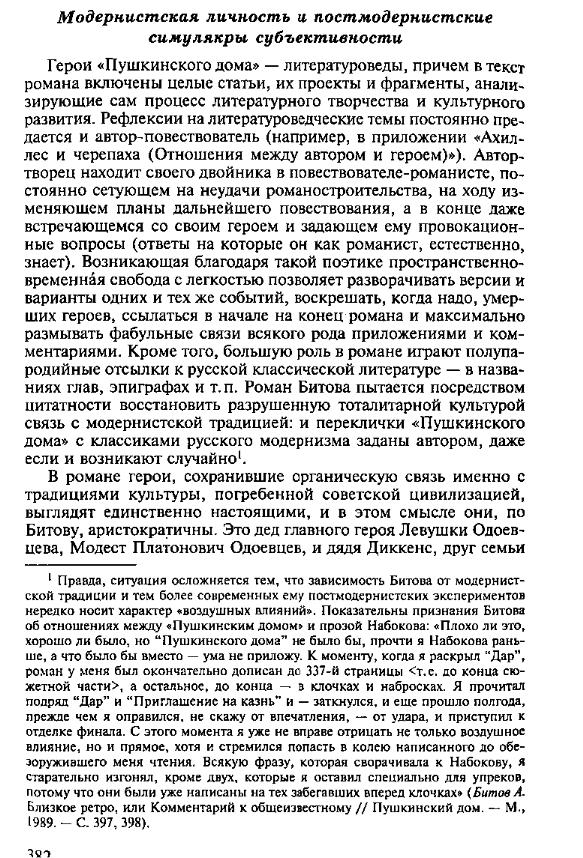
0 для Левы «заместитель» отца. Их объединяет способность к неготовому
пониманию в противовес готовым, симулирующим реальность,
представлениям. Свобода Модеста Платоновича и дяди
Диккенса носит отчетливо модернистский характер: равенство
личности самой себе выражается в создании собственной, незавершенной
и независимой от господствующих стереотипов интеллектуальной
реальности. По-видимому, таков и авторский идеал
свободы. По крайней мере — в начале романа, где и предложены
портреты деда и дяди Диккенса.
Что же противоположно свободе? Не насилие, а симуляция реальности
— ее подмена представлениями, системой условных знаков,
«копий без оригиналов», если воспользоваться выражением
Жана Бодрийяра, создателя теории симулякра и симуляции. Именно
симуляция в «Пушкинском доме» понимается как важнейший духовный
механизм всей советской эпохи. Символическую роль в этом
плане приобретает эпизод смерти Сталина, вообще символичный
для многих, если не всех «шестидесятников» (нетрудно вспомнить
аналогичные сцены у Трифонова, Аксенова, Бондарева,
Евтушенко и многих других). Однако специфика битовского восприятия
состоит в том, что смерть Сталина написана им не как
момент освобождения от гнета тирана, но как апофеоз симуляции.
В данном случае — симуляции всеобщей скорби.
Послесталинская, «оттепельная» эпоха, по убеждению автора
романа, не только не устранила симуляцию как основополагающее
свойство советской реальности, но и усовершенствовало ее —
симуляция приобрела более органический и потому менее очевидный
характер. Как порождение этой, по-новому органичной
степени симуляции предстает в романе «миф о Митишатьеве».
Митишатьев не просто снижающий двойник главного героя —
нет, это чистый образец новой человеческой породы, выведенной
в результате тотальной симуляции. В этом смысле он действительно
мифологичен, ибо зримо осуществляет советский миф о
«новом человеке», восходящий в свою очередь к ницшеанской,
также мифологичной, концепции сверхчеловека. «Сверхчеловечность
» Митишатьева в том, что он истинный гений симуляции,
ни к каким другим формам существования просто не способный.
По сутидела, через Митишатьева осуществляется новый уровень
симуляции. Если «классическому» советскому миру еще противостоят
люди типа деда Одоевцева или дяди Диккенса — самим
Фактом своего, подлинного, существования доказывающие возможность
свободной реальности, вопреки власти мнимостей, то
митишатьевская симуляция исключает всякое отношение к реальности
и тем самым исключает даже потенциальную возможность
реальности как таковой. Примечательно, что Митишатьев
такой же филолог, как и Лева Одоевцев, и через двойнические
отношения с Левой также втянут в поле взаимодействия с класси-
383
3.2. «Москва — Петушки» (1969) Вен. Ерофеева
Если Битов в конце 1960-х был уже довольно известным прозаиком,
то Венедикт Ерофеев (1938—1990), писавший поэму
«Москва—Петушки» на кабельных работах в Шереметьево—Лобне
в 1969 году (окончательная редакция относится к 1970-му),
был в то время всего лишь бывшим студентом московских и провинциальных
вузов, изгнанным отовсюду за чрезмерное увлечение
алкоголем, несовместимое с академической успеваемостью.
Но именно ему предстояло стать легендой российского андеграунда
(не политического, а эстетического), а его прозаическая
поэма впоследствии была опубликована во многих странах мира
и долгие годы ходила в российском самиздате (первая публикация
на родине по иронии судьбы произошла в 1988 году в журнале
«Трезвость и культура» во время горбачевской кампании по
борьбе с алкоголизмом), став главным художественным и философским
манифестом русского постмодернизма 1970— 1990-х годов.
Семантика карнавальных мезальянсов
Близость поэмы Ерофеева к «карнавально-праздничной традиции
» (Бахтин), с ее пиршественными образами и кощунственными
травести, мезальянсами сакральных образов и мотивов «телесного
низа», с «серьезно-смеховыми» спорами по последним вопросам
бытия и т. д., и т. п. — буквально бросается в глаза. Однако
показательно, что все критики, писавшие о ерофеевской карна-
вализации, вынуждены были оговариваться насчет специфической,
нетрадиционной, семантики этих традиционных форм в
«Москве —Петушках». Так, Светлана Гайсер-Шнитман, указывая
на связь поэмы с «памятью жанра» мениппеи, вместе с тем отмечает,
что не меньшую роль в поэтике поэмы играют семантические
структуры далеко не карнавальных жанров типа духовных
странствий, стихотворений в прозе, баллад, мистерий1. Андрей
Зорин, ссылаясь на неприятие Бахтиным финала восхитившей
его поэмы Ерофеева (в нем, финале, ученый «видел "энтропию"
»), утверждает, что в «Москве —Петушках» «стихия народного
смеха в конце концов обманывает и исторгает героя. <...>
Карнавальному единству героя и народа... состояться не суждено
»2. А Михаил Эпштейн доказывает, что «у Вени ценности,
раньше карнавально перевернутые, стали опять медленно переем.:
Гайсер-Шнитман С. Венедикт іn_Нm _€Ерофеев «Москва—Петушки», или «Theворачиваться... <...> карнавал сам становится объектом карнавала,
выводящим к новой области серьезного»1.
Поэтику поэмы отличают гротескные сближения высоких и низких
стилистических и семантических пластов, при которых происходит
подлинная встреча абсолютно несовместных смыслов. Характерный
пример:
А потом (слушайте), а потом, когда они узнали, отчего умер
Пушкин, я дал им почитать «Соловьиный сад», поэму Александра
Блока. Там, в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону
все эти благоуханные плеча и неозаренные туманы и розовые башни
в дымных ризах, там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный
с работы за пьянку, блядки и прогулы. Я сказал им: «Очень
своевременная книга, — сказал, — вы прочтете ее с большой
пользой для себя». Что ж? они прочли. Но, вопреки всему, она на
них сказалась удручающе: во всех магазинах враз пропала вся «Свежесть
». Непонятно почему, но сика была забыта, вермут был забыт,
международный аэропорт Шереметьево был забыт, — и восторжествовала
«Свежесть», все пили только «Свежесть»!
О беззаботность! О птицы небесные, не собирающие в житницы!
О краше Соломона одетые полевые лилии! — Они выпили
всю «Свежесть» от станции Долгопрудная до международного аэропорта
Шереметьево2.
Стилистическую траекторию этого фрагмента можно представить
в виде нисходящей параболы. В начале, в иронической интерпретации,
воссоздается высокий поэтический стиль («благоуханные
плеча и неозаренные туманы и розовые башни в дымных ризах
»), который затем резко снижается, во-первых, в вульгарное
просторечие («пьянку, блядки и прогулы») и, во-вторых, в пародию
на расхожую ленинскую цитату («Очень своевременная кни-
1 Эпштейн М. После карнавала, или Вечный Веничка / / Золотой век. — Вып.4. —
М, 1993. — С. 88, 89, 90. (См. также републикацию этой статьи в виде предисловия
к сборнику Ерофеева «Оставьте мою душу в покое...» — М., 1995.) Литературоведам
неожиданно вторят авторы воспоминаний о Венедикте Ерофееве, неизменно
подчеркивающие глубочайшую, программную серьезность, пронизывавшую
жизнь, условно говоря, «кабацкого ярыжки»: «У Венички было ощущение,
что благополучная, обыденная жизнь — это подмена настоящей жизни, он
разрушал ее, и это разрушительство отчастидействительно имело религиозный
оттенок» (Владимир Муравьев, 90), «Наверное, так нельзя говорить, но я думаю,
что он подражал Христу» (Галина Ерофеева, 89), «Веничка прожил на
краю жизни. И дело не в последней его болезни, не в обычных для пьющего
человека опасностях, а в образе жизни, даже в образе внутренней жизни —
"ввиду конца". <...> Чувствовалось, что этот образ жизни — не тривиальное
пьянство, а какая-то служба. Служба кабаку?» (Ольга Седакова, 98). Все цитаты
из мемуаров о Ерофееве приводятся по публикации «Несколько монологов о
Венедикте Ерофееве» / / Театр. — 1991. — № 9. Страницы указаны в основном
тексте в скобках после цитат.
2 Цитаты приводятся по изданию: Ерофеев Вен. Москва—Петушки. — М., 1990.
га»)- Но финальная часть фрагмента представляет собой возвышающее
возвращение в поэтическую тональность, причем название
одеколона «Свежесть» ассоциативно рифмуется с «Соловьиным
садом» («восторжествовала "Свежесть"») и вписано в библейский
стилистический контекст («О краше Соломона одетые полевые
лилии...»). Здесь высокое снижается не дискредитации ради, а для
обретения иной формы существования в «низовых» смыслах. Иначе
говоря, высокое и низкое в стиле Ерофеева не разрушают, не
отменяют друг друга, а образуют амбивалентное смысловое единство.
Собственно, на таком диалогическом пересечении высоких
и низких смыслов построены все наиболее яркие в стилевом отношении
моменты поэмы: от знаменитых слов о плевках на каждую
ступеньку общественной лестницы до главы о коктейлях, от
описаний «белобрысой дьяволицы» до исследования икоты.
Этот же принцип определяет и логику построения образа культуры
в поэме Ерофеева1. Так, например, И.А.Паперно и Б.М.Гаспаров,
первыми проанализировавшие роль ассоциаций с Евангелием
в структуре ерофеевской поэмы, отмечают:
«Каждое событие существует одновременно в двух планах. Похмелье
интерпретируется как казнь, смерть, распятие. Опохмеление — воскресение.
После воскресения начинается жизнь — постепенное опьянение,
приводящее в конце концов к новой казни. Герой прямо говорит об этом
в конце повести: «Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окосение
души?» Однако такая трактовка бытовых событий в свою очередь оказывает
обратное воздействие на евангельские, мотивы в повести. Последние
нередко обретают оттенок пародии, шу^ки,. каламбура: высокое и трагическое
неразрывно сплетается с кейическйм и непристойным. Кроме
того, такое наложение сообщает евангельскому тексту циклический характер:
одна и та же цепь событий повторяется снова и снова. <...> Обратный,
по сравнению с евангельским, порядок событий указывает на
замкнутый круг, по которому они движутся»2.
Важно отметить, что одни параллели с Новым Заветом предстают
нарочито смещенными. Так, например, не Веничка-Иисус
воскрешает Лазаря, а, напротив, самого Веничку воскрешает блудница
— «плохая баба», а упоминание о звезде Вифлеема возникает
только непосредственно перед последним распятием. Одновременно
другие евангельские цитаты поражают своей «мелочной»
Многочисленные культурные цитаты в тексте «Москвы—Петушков» подробно
описаны в следующих работах: Паперно И.Л., Гаспаров Б.М. Встань и иди //
Slavica Hierosolymitana. — 1981. — № 5 —6. — P. 387—400; Левин Ю. И. Классические
традиции в «другой» литературе: Венедикт Ерофеев и Федор Достоевский //
Лит. обозрение. — 1992. — № 2. — С. 45 — 50; Гайсер-Шнитман С. Венедикт Ерофеев
«Москва—Петушки», или «The Rest is Silence»; Альтшуллер М.Г «Москва—Петушки
» Венедикта Ерофеева и традиции классической поэмы / / Новый журнал. —
New York, 1982. - № 142.
