
Istoria_Rossii_KhKh_vek
.pdf
Глава 2 Война за Россию (октябрь 1917 — октябрь 1922) |
951 |
никакое хозяйственное строительство в частности, и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности, совершенно немыслимо. Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть и в несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало… Если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в самый краткий срок…»
Именно в это время в качестве центра разработки стратегии всей дальнейшей антицерковной политики большевицкого режима при ЦК РКП (б) была создана Антирелигиозная комиссия, председателем которой стал бывший секретарь ЦК Емельян Ярославский (Губельман), а бессменным секретар¸м — на- чальник 6-го отделения секретно-оперативного отдела ГПУ Е.А. Тучков.
Верующие сопротивлялись изъятию церковного имущества, ГПУ сообщало о 1414 «кровавых эксцессах» в 1922 г. В частности, в городе Шуе Владимирской губернии верующие оказали вооруженное сопротивление грабителям, было много убитых.
В ответ в марте 1922 г. по приказу Ленина начались групповые аресты, показательные процессы и расстрелы духовенства и активных мирян. Церковным гонениям, усилившимся в 1922 г. и продолжившимся в 1923-м, большевицкий режим пытался придать видимость «революционной законности», инсценируя судебные процессы. После наиболее громких из этих процессов, петроградского и московского, летом 1922 г. были убиты митрополит Петроградский Вениамин (Казанский), горячо любимый своей паствой, избравшей его в 1917 г. на митрополичью кафедру, архимандрит Сергий (Шеин), миряне Юрий Новицкий и Иоанн Ковшаров; глубоко почитавшиеся православными москвичами протоиереи Александр Заозерский, Христофор Надеждин, Василий Соколов, иеромонах Макарий (Телегин) и мирянин Сергий Тихомиров.
Всего в результате террора ГПУ в 1922—1923 гг. было убито 2690 священников, 5410 монахов и монахинь, закрыто 637 монастырей. Конфискованное у Церкви имущество оценивалась в 2,5 млрд. золотых рублей, а на помощь голодающим из них было истрачено всего около 1 млн. При этом бесценные художественные сокровища, находившиеся в храмах и монастырях, как правило, разрушались — изделия из драгоценных металлов отдавались в переплавку, драгоценные камни выковыривались. Вместе с другими драгоценностями, накопленными старой Россией, церковное имущество было продано для закупки оборудования и оружия за рубежом, для обеспечения «генуэзской дипломатии», для поддержки неудавшейся немецкой революции 1923 г., для содействия иным акциям Коминтерна.
Литература
Архивы Кремля. В 2-х кн. / Кн. 1. Политбюро и церковь. 1922—1925 гг. М.; Новосибирск, 1997.
Анна Урядова. Голод 1920-х годов в России и Русское зарубежье. СПб.: Алетейя, 2010.

952 Часть вторая РОССИЯ В РЕВОЛЮЦИИ 1917—1922 годов
2.2.44. Общество под большевиками в годы Гражданской войны
На территориях, занятых Белыми войсками, местные жители (предприниматели, ученые, учителя, ремесленники и т.д.) могли сотрудничать с властями, а могли вести свою частную жизнь и деятельность независимо от них. Под большевиками такого выбора не было: единственной легальной возможностью найти средства к существованию стала работа на советскую власть.
Запрещение частного предпринимательства и свободной торговли привело к стремительному исчезновению товаров — промышленных и продовольственных. Городские жители должны были получать продукты в виде пайков, которые распределялись по советским предприятиям и учреждениям. Все граждане были разделены на пять категорий «едоков», начиная с рабочих и солдат Красной армии, заканчивая «нетрудовым элементом» — так именовались «бывшие», включая интеллигенцию. Последняя категория снабжалась хуже всего, но и первая, привилегированная, едва выживала. В начале 1920 г. зарплата рабочих в Петрограде составляла от 7000 до 12 000 рублей в месяц. Для сравнения, фунт (409,5 грамма) масла стоил на ч¸рном рынке 5000 рублей, фунт мяса — 3000, литр молока — 750. Таким образом, жить на зарплату было невозможно; однако каждый работник в зависимости от своей категории получал некоторое количество продуктов от государства. Так, в Петрограде в конце 1919 г. рабочий на военном предприятии («едок» высшей категории) получал по продуктовым карточкам полфунта хлеба в день, а также фунт сахара, полфунта жиров и четыре фунта воблы в месяц.
Свидетельство очевидца
На процессе М. Конради (см. 3.1.16) М. П. Арцыбашев говорил о жизни под большевиками в годы Гражданской войны: «Словно издеваясь над законом природы и людьми, власть выдавала населению по две селедки и по одной восьмой фунта хлеба, иногда совершенно прекращая выдачу и в то же время под страхом смерти запрещая какую бы то ни было покупку и продажу продовольствия.
В квартирах производились систематические обыски, и у людей отбирали последние фунты муки. Все дороги были преграждены заградительными отрядами, чтобы не пропускать вольного товара. Кое-какие уцелевшие, вопреки большевицким запретам, жалкие рынки обирались вооруженными облавами. У крестьян отбиралось все, что превышало норму личного потребления, и таким образом уничтожался самый источник питания русского народа.
Никогда не понять человеку, находящемуся в здравом уме, какую цель преследовали большевики. Думали ли они, в самом деле, выморить голодом весь русский народ или хотели приучить человечество жить без пищи?». — М. П. Арцыбашев. Показания по делу Конради // Красный террор в Москве. М.: Айрис-Пресс, 2010. — С. 463.

Глава 2 Война за Россию (октябрь 1917 — октябрь 1922) |
953 |
Дневники и мемуары 1918—1920 гг., написанные в той части России, которая оставалась под большевиками, изобилуют страшными историями
èподробностями о голодных страданиях и бесчисленных смертях. За полгода большевики так преобразовали народное хозяйство, что смерть от голода
èстрадания от истощения стали всеобщим явлением.
Свидетельство очевидца
«К середине 19-го года мы все, обыватели, незаметно впадали в тихое равнодушие, в усталую сонливость. Умирали не от голода, а от постоянного недоедания. Смотришь, бывало, в трамвае примостился в уголку утлый преждевременный старичок и тихо заснул с покорной улыбкой на губах. Станция. Время выходить. Подходит к нему кондукторша, а он мертв. Так мы и засыпали на полпути у стен домов, на скамеечках в скверах… Всеобщее ослабление организмов дошло до того, что люди непроизвольно переставали владеть своими физическими отправлениями. Всякая сопротивляемость, гордость, смех и улыбка совсем исчезли. В 18-м году еще держались малые ячейки, спаянные дружбой, доверием, взаимной поддержкой и заботой, но теперь и они распадались. Днём гатчинские улицы были совершенно пусты: точно всеобщий мор пронёсся по городу… Так отходили мы в предсмертную летаргию». — А. Куприн. Купол Святого Исаакия Далматского.
Постоянное недоедание гнало людей на поиски хоть чего-то съестного. Как вспоминал М. А. Осоргин, москвичи той поры ходили «с одинаковыми мешками за плечами, слабосильные — с санками или детской колясочкой на случай пайковой выдачи или неожиданной продовольственной поживы; мешки срослись с телом, люди стали сумчатыми». Скупка и перепродажа товаров частными лицами запрещалась; согласно декрету «Социалистическое отечество в опасности», подписанному Лениным 21 февраля 1918 г., спекулянты расстреливались на месте наравне со шпионами и контрреволюционными агитаторами.
Но ни заградотряды на станциях, ни расстрелы не могли остановить многотысячный поток «мешочников», ежедневно отправлявшихся в сельские регионы за продуктами. В деревнях катастрофически не хватало промышленных товаров, и на две катушки ниток в 1918 г. можно было выменять пуд муки, а на мужские сапоги — от 4 до 15 пудов. В нелегальном снабжении участвовали практически все. Укрываясь от проверок, люди перемещались на крышах вагонов, тормозных площадках и буферах. Одни шли на риск, чтобы спасти от голодной смерти себя и свою семью, другие — чтобы обогатиться на пришедшей разрухе. Если бы не «мешочники», т.е. крестьяне и перекупщики, которые, нарушая указ о запрете торговли, везли в города продукты питания, рискуя жизнью и свободой, то за 1918—1920 гг. вымерли бы практически все «нетрудовые элементы». По замечанию А.И. Куприна, при большевиках жившего в Гатчине,

954 Часть вторая РОССИЯ В РЕВОЛЮЦИИ 1917—1922 годов
множество людей были тогда обязаны жизнью «предприимчивой жадности мешочника». Не случайно Зинаида Гиппиус предлагала поставить в будущей свободной России памятник «спекулянту-мешочнику», его обусловленное алч- ностью мужество спасло жизнь миллионам людей.
Кроме продуктов, в городах исчезло топливо. Города в зиму 1918/19 г. не отапливались, электричество если и давалось, то по нескольку часов
âсутки, воды в современных многоквартирных домах не было, канализация не работала, газа также не было. Чтобы обогреть промерзшие комнаты, применялись небольшие железные печки, получившие прозвище «буржуйки». Добыча топлива, как и добыча еды, превратилась в жестокую борьбу за существование. Когда нельзя было достать дров, в ход шли разобранные заборы, железнодорожные шпалы, даже могильные кресты. Топили мебелью, паркетом, деревянными домами, книгами, парковыми деревьями — и это
âстране, изобиловавшей лесом. Ванны зимой до краев были заполнены замерзшими испражнениями.
Недоступность лекарств и антисанитарные условия жизни способствовали распространению эпидемий, от которых в России за годы военного коммунизма умерло 3,5 млн. человек (в 7 раз больше, чем погибло на фронтах Гражданской войны).
Жизнь человеческая обесценилась настолько, а нравы так ожесточились, что молодой человек, работающий в ЧК или имеющий там друзей, вполне мог пригласить понравившуюся ему барышню вместе сходить посмотреть на пытки и расстрелы, как при старом режиме приглашали в цирк или кинематограф. Например, в марте 1918 г. на именинах писателя Алексея Толстого Сергей Есенин пытался пригласить на такое зрелище «поэтессу К.» (очевидно, Кузьмину-Кара- ваеву, будущую монахиню Марию) — «А хотите поглядеть, как расстреливают? Я это вам через Блюмкина (левого эсера. — Îòâ. ðåä.) в одну минуту устрою» (В. Ходасевич. «Некрополь», «Сергей Есенин»). Самое ужасное, что подобные предложения нередко принимались любительницами острых ощущений.
Привычным явлением стали постоянные аресты и обыски. В любое время чекисты могли войти в квартиру и забрать какие угодно вещи или продукты, объявив их лишними для хозяев. Например, в «Известиях Одесского Совета рабочих депутатов» от 13 мая 1919 г. граждане обязывались заранее составить список того, что у них будет отнято: «Принадлежащие к имущим
классам должны заполнить подробную анкету, перечислить имеющиеся у них продукты питания, обувь, одежду, драгоценности, велосипеды, одеяла, простыни, столовое серебро, посуду и другие необходимые для трудового народа предметы. <…> Каждый должен оказывать содействие комиссии по экспроприации в ее святом деле. <…> Тот, кто не подчинится распоряжениям комиссии, будет немедленно арестован. Сопротивляющиеся будут расстреляны на месте». Отнятые вещи попадали, как правило, не в распоряжение абстрактного «трудового народа», а в дома тех, кто проводил «экспроприацию».

Глава 2 Война за Россию (октябрь 1917 — октябрь 1922) |
955 |
Не причастный к новой власти человек не был отныне хозяином даже собственной посуды и постельного белья, не говоря уже о квартире. Каждый, кто не получил от большевиков особых привилегий, подлежал «уплотнению»:
âего собственное, когда-то купленное или унаследованное жилье подселяли незнакомых людей, которые размещались в нем как хозяева. Прежних владельцев домов и квартир могли не только «уплотнить», но и просто выселить или расстрелять — по усмотрению местного Совета. Но и «уплотнение» (самый мягкий вариант «экспроприации» жилья) ставило прежних хозяев
âунизительное положение.
Кодекс законов о труде (10 декабря 1918 г.) устанавливал для всех граждан РСФСР трудовую повинность. Эта повинность также использовалась для показательного унижения «бывших», особенно женщин и девушек дворянского и «буржуйского» происхождения: их посылали, как правило, мыть уборные в чекистских и красноармейских казармах.
18 (30) декабря 1917 г. вышел декрет о гражданской регистрации браков, разводов, рождений и смертей. Так как нужного административного аппарата долгое время не было, это не только сорвало учет населения, но способствовало разрушению семьи, особенно в атмосфере военной разрухи, пропаганды «свободной любви» и марксистского взгляда на брак как на буржуазный пережиток. В разных районах России, находившихся под большевицкой властью, в 1918—1919 гг. издавались и проводились в жизнь декреты, объявлявшие женщин «всенародным достоянием». В Саратове, Владимире, Екатеринодаре и других городах в начале 1918 г. были изданы декреты советской власти, отменявшие «частное право на владение женщинами». Можно себе представить, к каким ужасам приводили попытки их претворения в жизнь
ДОКУМЕНТ
«Декрет Саратовского губернского совета народных комиссаров об отмене частного владения женщинами
Законный брак, имеющий место до последнего времени, несомненно является продуктом того социального неравенства, которое должно быть с корнем вырвано в Советской республике. До сих пор законные браки служили серьезным оружием в руках буржуазии в борьбе с пролетариатом, благодаря только им все лучшие экземпляры прекрасного пола были собственностью буржуев, империалистов, и такою собственностью не могло не быть нарушено правильное продолжение человеческого рода. Поэтому Саратовский губернский совет народных комиссаров, с одобрения Исполнительного комитета Губернского совета рабочих, крестьянских
исолдатских депутатов, постановил:
1.С 1 января 1918 г. отменяется право постоянного владения женщинами, достигшими 17 лет и до 32 лет…

956Часть вторая РОССИЯ В РЕВОЛЮЦИИ 1917—1922 годов
3.За бывшими владельцами (мужьями) сохраняется право на внеочередное пользование своей женой…
4.Все женщины, которые подходят под настоящий декрет, изымаются из частного владения и объявляются достоянием всего трудового класса.
5.Распределение заведывания отчужденных женщин предоставляется Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов…
8.Каждый мужчина, желающий воспользоваться экземпляром народного достояния, должен предоставить от рабоче-заводского комитета или профессионального союза удостоверение о своей принадлежности к трудовому классу…» — «За права человека». № 4—5. М., 1999. — C. 8.
Внезапное обнищание, постоянное чувство голода и не менее постоянная угроза кары со стороны властей вели к психологическому слому того основного слоя населения, который изначально не был на стороне большевиков. Существовавшие прежде формы взаимопомощи (например, кооперативы) и социальной поддержки (сеть приютов, ночлежек и т.д.) были разрушены, и каждый должен был выживать сам по себе. Общий шок усугублялся и резким смещением времени — годового и суточного. 24 января 1918 г. Совет народных комиссаров РСФСР заменил юлианский календарь, по которому до тех пор жила Россия, григорианским; по декрету, после 31 января наступило не 1, а 14 февраля. Другим декретом, от 31 марта 1918 г., стрелки часов были переведены сразу на два часа вперед (так называемое «декретное» время).
В сентябре 1918 г. устранен другой «пережиток феодализма» — взамен привычных фунтов, пудов, верст и аршинов стала действовать метрическая система мер и весов.
Все это в совокупности рождало у современников чувство нереальности происходящего, отмеченное многими мемуаристами; для рядового российского обывателя новая жизнь казалась страшным сном, который вот-вот кончится. Дореволюционный быт вспоминался теперь как образец благополучия.
Свидетельство очевидца
И. А. Бунин записывал в 1919 г. в Одессе: «Мёртвый, пустой порт, мёртвый, загаженный город… Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство…»
Под властью большевиков у людей оставалось только три пути: служить этой власти, погибнуть или эмигрировать.

Глава 2 Война за Россию (октябрь 1917 — октябрь 1922) |
957 |
Мнения очевидцев
«Что касается политической стороны, то появился какой-то отбор тех, которые решили при всех условиях остаться в Петрограде. Эти люди скептически относились к идее насильственного свержения большевиков и ко всякого рода затеям гражданской войны. По сравнению с югом, где жили прошлым и активно желали его возвратить, здесь жили настоящим и лишь желали его улучшения, хотя бы и весьма относительного. Психология тех же самых слоев русского общества была иная. Те же самые социальные элементы перерабатывались разнородно, и результаты были разные.
Но самым страшным было равнодушие, с каким относились к попыткам „спасения России“. Да и нужно ли спасать, говорили мне, все равно никаких новых сил нет и не может выявиться. А между тем основным мотивом всех рассуждений, помыслов и эмоциональной стороны Белого движения было прийти оттуда, с юга, на помощь населению, которое якобы изнывает под большевистским игом. Население действительно изнывало, но, запасшись терпением на многие годы, оно верило не в хирургические приемы лечения, а в неисчерпаемую силу русского организма, который все может вынести и ни от чего не сломается.
Этот разрыв в настроениях между югом и севером России был настолько велик, что когда потом, в деникинские времена, Белое движение докатилось до Орла, в Ростове-на-Дону строились планы насчет московского Белого правительства и обсуждался вопрос касательно формы правления, ни в Москве, ни в Петрограде никаких попыток к свержению большевиков не было, да и психологически не могло быть. А ведь если бы вся русская интеллигенция и примыкающие к ней чиновничьи и офицерские круги горели здесь тем же огнем, каким были одушевлены передовые части Добровольческой армии, то, конечно, в Петрограде и Москве неминуемы были бы вспышки восстания. Те, кого шли спасать, не желали спасаться, а желали приспособляться, приспособленческое же настроение — самая непригодная почва для борьбы. <…>
Между югом и севером была пропасть. Это были различные плоскости, и интеллигенция там и здесь говорила на разных языках, не понимая друг друга. Разница заключалась и в том, что на севере интеллигенция думала как народ, а на юге между Белыми и населением были отношения завоевателей и заво¸ванных». — Г. Н. Михайловский. Записки. Т. 2. С. 169—170.
«За всей видимостью революции — от анкеты до расстрела, от пайка до трибунала, от уплотнения до изгнания и эмиграции, от пытки голодом, холодом, унижением и страхом до награбленных богатств и посягания на мировую власть; за всем этим… укрывается один смысл, единый, главный, по отношению к которому все есть видоизменения, оболочка, наружный вид; этот смысл переда¸тся словами: духовное искушение… Это испытание вдвинуло во все русские души один и тот же прямой вопрос: Кто ты? Чем ты жив¸шь? Чему служишь? Что любишь? И любишь ли ты то, что „любишь“?.. И не много путей пред тобою, а всего два: к Богу и против Бога. Встань и обнаружь себя. И если не встанешь и не обнаружишь себя, то тебя заставят встать и обнаружиться: найдут тебя искушающие в поле и у домашнего очага, у станка и у алтаря, в имуществе и детях, в произнес¸нном слове и в умолчании. Найдут и поставят на свет, — чтобы ты заявил о себе недвусмысленно: к Богу ты ид¸шь или против Бога. И, если ты
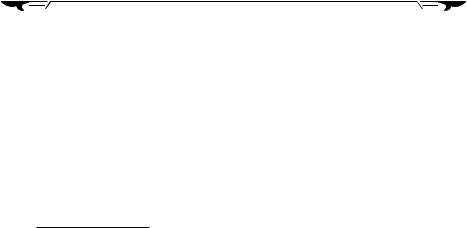
958 Часть вторая РОССИЯ В РЕВОЛЮЦИИ 1917—1922 годов
против Бога, то оставят тебя жить; и не все отнимут у тебя; и заставят тебя служить врагам Божиим; и будут кормить и ублажать; и наградят;
èпозволят обижать других, мучить других и отнимать у них имущество;
èдадут власть, и наживу, и всю видимость позорящего поч¸та. И, если ты за Бога и к Богу, — то отнимут у тебя имущество; и обездолят жену
èдетей; и будут томить лишениями, унижениями, темницею, допросами
èстрахами; ты увидишь, как отец и мать, жена и дети медленно, как свечка, тают в голоде и болезнях, — и не поможешь им; ты увидишь, как упорство тво¸ не спасет ни родины от гибели, ни душ от растления, ни храмов от поругания; будешь скрежетать в бессилии и медленно гаснуть;
èесли прямо воспротивишься, — то будешь убит в пота¸нном подвале
èзарыт, неузнанный, в безвестной яме…» — И. А. Ильин. Государственный смысл Белой армии. Родина и мы. Смоленск, 1995. — С. 189—190.
Литература
А. Ю. Давыдов. Мешочники и диктатура в России. 1917—1921 гг. СПб.: Алтейя, 2007.
2.2.45. Советская пропаганда и русская культура в 1918—1922 гг.
Еще при Временном правительстве большевики развернули в стране массовую пропаганду, облегчившую им приход к власти. Получив власть, они использовали ее для создания мощнейшей, до тех пор невиданной пропагандистской машины.
С первых дней большевицкого государства пропаганда легла в его основу: именно пропагандистскими, а не законодательными актами были декреты о мире и земле. Обещание мира было средством заручиться поддержкой солдат; выполнять его правительство не собиралось. Затем были созданы специальные органы, которые повели с противниками большевиков информационную войну. Это были «агитационно-пропагандистские отделы», возникавшие в разных организациях с начала 1918 г., и многочисленные «политотделы» в войсках. Они огромными тиражами издавали большевицкие листовки, брошюры и плакаты. Например, в одной лишь 3-й советской армии в течение мая 1919 г. было отпеча- тано 702 тысячи экземпляров воззваний для переброски в войска Белых, а 8-я армия в решающие месяцы борьбы с войсками Юденича (ноябрь–декабрь 1919 г.) распространила 4 миллиона экземпляров листовок. Эти пропагандистские тексты производили впечатление уже самим своим небывалым количеством.
В 1918—1920 гг. на подвластной большевикам территории действовали специальные агитпоезда («Октябрьская революция», «Красный Восток», «Советский Кавказ» и др.) и агитпароходы («Красная звезда», «Яков Свердлов», «Трудфронт»). Перемещаясь на них, партийные агитаторы провели в разных городах более 2000 митингов, раздавали населению брошюры и листовки, расклеивали плакаты. Высота этих плакатов достигала подчас трех метров. На них рисовались мощные фигуры красноармейцев и «пролетариев», карикатурно изображались русские священники, офицеры, «кулаки» и «буржуи».

Глава 2 Война за Россию (октябрь 1917 — октябрь 1922) |
959 |
Большевицкие плакаты и листовки 1918—1920 гг. призывали не просто победить, а непременно убить противников нового строя: «Смерть царским генералам», «Помещичья гадина еще не добита», «Уничтожайте Балахови- ча», «Врангель еще жив, добей его без пощады» è ò.ä. В этом Красная пропаганда не скрывала целей своей власти. Но в других отношениях она была исключительно лжива. Так, согласно плакату В. Дени «Деникинская банда» (1919) на трехцветном русском знамени армии Деникина стояло: «Бей рабочих и крестьян». На агитпоезде «Красный казак» (1920) было написано: «Казаки, не верьте, будто Советская власть преследует церковь и религию, никакого насилия над совестью, никакого оскорбления церквей и религиозных обычаев Советская власть не потерпит». К этому времени на захваченных Красными территориях уже третий год шли массовые убийства священников и осквернение святынь.
Белые по нравственным причинам не могли и помыслить прибегать ко лжи или раздавать утопические обещания. В разгар Гражданской войны они тоже стали выпускать плакаты и листовки, но, в отличие от Красных, не имели ни тысяч агитаторов, ни многолетнего опыта агитации, ни даже особого желания ее вести. Сама техника пропаганды, которая требует громких призывов и примитивных лозунгов, а в немалой степени — и манипулирования сознанием людей, не имела глубоких корней в традиционной русской культуре, носителями
èзащитниками которой ощущали себя Белые. Поэтому в пропагандистской войне большевики побеждали легче, чем на полях сражений. Им верили плохо образованные «массы», потому что большевики без зазрения совести сулили золотые горы и все, что душа пожелает, если они получат безраздельную власть. Получив же власть, они не одаривали народ, но скручивали его в бараний рог, оставляя все блага жизни только себе самим.
Коммунистической пропаганде служили и советские праздники — 1 мая
èгодовщина Октябрьского переворота. Непременными атрибутами этих праздников были агитационные плакаты и транспаранты с политическими лозунгами. Участие в праздничных митингах и демонстрациях с 1919 г. стало обязательным, а уклонение от них считалось свидетельством враждебности государству. По контрасту, празднование христианских праздников, веками формировавших повседневный уклад русской жизни, отныне становилось опасным.
Особым средством советской пропаганды явился новый облик городов. В апреле 1918 г. Совнарком издал декрет «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке памятников Российской социалистической революции», позднее названный «ленинским планом монументальной пропаганды». Этот декрет, подписанный Лениным, Луначарским
èСталиным, предписывал уничтожить «старорежимные» монументы и заменить их памятниками революционерам. Тем самым из сознания народа выкорчевывалась память о его прошлом, а история страны представлялась как череда революционных порывов.

960 Часть вторая РОССИЯ В РЕВОЛЮЦИИ 1917—1922 годов
До этого времени памятников в России было немного, и они ставились, как правило, по местной инициативе и на народные пожертвования. Отныне же установкой и сносом монументов стало распоряжаться государство. В декрете выражалось «желание, чтобы в день 1-го мая были уже сняты некоторые наиболее уродливые истуканы». Первым был разрушен памятный крест работы В. М. Васнецова (автора картины «Богатыри»), стоявший в Кремле на месте убийства Великого князя Сергея Александровича террористом Каляевым. Ленин сам накинул на этот крест петлю и сбросил его на землю.
За 1918—1920 гг. в Москве, Петрограде и Киеве было заложено в общей сложности 65 памятников лицам, которых большевики считали достойными прославления: Каляеву, Халтурину, Марксу, Лассалю, Бланки, Жоресу и др.;
âСвияжске воздвигли памятник Иуде Искариоту, в Ельце — сатане. Большая часть этих монументов была изготовлена из непрочных материалов и до наших дней не сохранилась. Позже в советской монументальной пропаганде стали преобладать памятники Ленину и Сталину.
Тот же декрет 1918 г. предписал переименовать улицы городов. Естественные названия, которые складывались веками и передавали неповторимый колорит той или иной местности, начали заменяться искусственными, предписанными коммунистической идеологией. Уже к первой годовщине Октябрьского переворота было переименовано 45 петербургских улиц и 5 мостов: Знаменскую площадь превратили в площадь Восстания, Невский проспект —
âПроспект 25-го октября и т.д. В том же году в Москве старинная Немецкая улица стала Бауманской, а Мясницкая — Первомайской. Со временем в сотнях городов появились площадь Революции, улицы Советская, Ленина, Сталина, Маркса, Луначарского, Троцкого, Калинина и т.д. Тем самым топонимика страны в немалой мере утратила свое многообразие, свою связь с ушедшими столетиями, а значит — и право считаться явлением русской культуры.
Âоктябре 1918 г. была введена упрощенная новая орфография, разработанная Академией наук еще в царское время. Декретом ВЦИК в том же октябре учреждалась единая трудовая школа, заменившая около 30 разных типов школ, существовавших до революции. Первая ступень охватывала детей от 8 до 13 лет, вторая — от 14 до 17. Древние языки и Закон Божий были из учебных программ изъяты, введено марксистское обществоведение и усилены естественно-научные дисциплины. Отменены были все экзамены, оценки и домашние задания. Все обучение стало бесплатным и совместным.
Â1920 г. пропагандистскую работу всех большевицких ведомств объединил Агитпроп — Отдел агитации и пропаганды ЦК РКП (б) во главе со Сталиным. Почти одновременно в системе Народного комиссариата просвещения был создан родственный орган — Главполитпросвет, руководителей которого назначало Политбюро ЦК РКП (б); долгие годы его возглавляла жена Ленина Н. К. Крупская. Агитпроп отвечал за контроль партии над культурой, а Главполитпросвет — над системой образования. Эти учреждения придали советской пропаганде всеобъемлющий характер.
