
arabskaya_poeziya_srednih_vekov-1
.doc
* * *
Когда б от Хинд я получил суленный ею дар,
Когда б она с души моей сняла томящий жар,
Когда бы управлять могла сама судьбой своей! —
Кто воли собственной не знал, всех бедняков бедней.
Она спросила у подруг полуденной порой,
Когда разделась донага, истомлена жарой:
«Скажите, такова ли я — вас да хранит Аллах,—
Какой рисует он меня, иль это бред в стихах?»
Те засмеялись, и таков ответ их дружный был:
«Все у любимой хорошо тому, кто полюбил».
Лишь зависть женская могла внушить ответ такой —
Ведь зависть испокон веков снедает род людской.
Завистницы! Ее зубов блистает ровный ряд,
Белей, чем лилий лепестки, чем белосненшый град.
И день и ночь в ее очах — и чернь и белизна.
Газели шея у нее — упруга и нежна.
А кожа у нее свежа и в летний жгучий день,
Когда неумолимый зной вонзается и в тень.
А в зиму юноше она дарит свое тепло,
Когда устал он и ступни от холода свело.
Своей любимой я сказал в один счастливый час —
А слезы струями лились из воспаленных глаз:
«Кто ты?» — и еле слышно Хинд ответила: «Я та,
Кого измучила любовь, желаний маета.
Ведь из Мина я, и врагов мы уложили тьму,
Они не могут даже месть доверить никому».
«Привет тебе, входи в мой дом, прекрасная жена!
Но как же ты зовешьсж» — «Хинд...» — ответила она.
Косулей, загнанной ловцом, забилось сердце вдруг.
В шелках узорных — как копье, был стан ее упруг.
По крови родственники мы, соседствуем давно,
И люди наши племена считают за одно.
Наворожила ты, о Хинд, связала узелок,
Я страстным нашептам твоим противиться не мог.
Кричу я на крик: «О, когда ж свиданья час благой?»
Хинд усмехается в ответ: «Через денек-другой!»
* * *
Уснули беспечные, я же припал на подушку,
На звезды глядел, как больной, не смыкающий век,
Пока Близнецы, головней пламенея горящей,
В глубокое небо ночной не направили бег.
Уснули, не знавшие страсти,— и что им за дело,
Что рыщет бессонный влюбленный впотьмах человек?
В ночь, полную ужасов, черного мрака чернее,
В полуночный час я дрожал в ожидании нег.
И в дверь амаритки ударил я кованым билом,
Как будто я родич иль путник, и молвил: «Впусти!
Я жажду любви, и несчастное сердце трепещет
Изловленной птицей, что бьется бессильно в сети».
И тут амаритка в двери молодца увидала,
Который отважен и стыд не намерен блюсти.
И вспыхнула гневно, и грозно нахмурила брови,
Поняв, что я смело в покои решаюсь войти.
Потом успокоилась, гнев ее женский улегся.
А я умолял, как Аллаха в молитве ночной;
Сказал ей: «На десять ночей у тебя я останусь!»
Сказала: «Коль хочешь остаться, останься со мной».
Потом на рассвете, в последнюю ночь, прошептала:
«Скажи что-нибудь, оставайся, мне горько одной!»
«Нет, ты говори, все желанья твои мне законом,
Всевышним клянусь, до скончанья дороги земной!»
* * *
Три камня я здесь положил и чертою отметил дорогу,
Которой мы шли, и припомнил наш отдых на этом привале,
Друзей и поджарых коней с их очами в глубоких глазницах;
Припомнил, как вышли мы в сад и как весело там пировали.
Припомнил, как пала роса и девушку всю окропила,
В долине, где пастбища фахм — так племя соседнее звали.
Она известила меня, что наутро родня откочует,
Что нам разлученье грозит, что увидимся снова едва ли.
«Останься и жди темноты — найдем себе угол укромный,
Такой, чтоб деревья и ночь от завистников нас укрывали»,
* * *
Мы перессорились. Как долго мира жду!
Хинд холодна со мной, а в чем нашла вину?
Увы мне! Я зачах, нет крепости в костях,
Под тяжестью вот-вот колени подогну.
Аллах! Безволен я, притом нетерпелив.
Аллах! Мне тяжело, как пленнику в плену.
Аллах! Люблю ее, она же прочь бежит.
Я долю горькую не попусту кляну.
Пусть мой удел не нов,— всегда любили все,
И впредь останется, как было в старину.
Но я пожертвую и тех, кого люблю,
Весь род людской отдам, всех — за нее одну!
* * *
Возле мест, где кочевье любимой, не зная покоя,
Поутру проезжаешь и в пору палящего зноя.
Пусть из речи твоей и немного она угадала,
Но тебя твоя речь перед нею самой оправдала.
Из-за Нум ты безумствуешь, темен в очах твоих свет.
Нет свидания с нею, и в сердце забвения нет.
Если близко она, то немного от близости прока,
Нетерпеньем измаешься, если кочует далеко.
И препятствия снова — одно или несколько разом,
Ты уже изнемог, и не в силах опомниться разум...
Если к ней приезжал я, сердито встречали меня,
Как пантеры, рычала ее племенная родня.
Злятся, если меня возле дома любимой увидят,
То вражду затаят, то и явно меня ненавидят.
Друг, привет передай ей, екании, что я верен и честен,—
Если сам я приеду, всем будет приезд мой известен.
Я в то утро впервые увидел их племени стан
И ее невзначай повстречал у потока Акнан,
«Это он? — прошептала.— Скажи, неужели, сестрица,
Это Омар-герой, о котором везде говоритя?
Ты его описала — не надобно зоркого глаза,
Чтоб героя признать,— твоего не забуду рассказа».
«Это он,— отвечала сестра,— все сомненья забудь,
Но его день и ночь изнурял продолжительный путь».
«Изменился же он с той поры, как его я знавала!
Но бегущая жизнь милосердна ни с кем не бывала...»
Он стоял перед ней, без покрова скакавший при зное,
Закаленное тело морозило время ночное.
Стал он братом скитаний, узнал все пределы земли,
Все пустыни изведал, в загаре лицо и в пыли.
Беззащитен от солнца, скакал на спине вороного,
Лишь узорчатый плащ ограждал от пожара дневного.
У нее же ограда — спокойных покоев прохлада,
Для нее и услада сырого зеленого сада.
Муж ни в чем не откажет, подарки несет ей и шлет,
И она в развлеченьях проводит всю ночь напролет...
Из-под Зу-Даварана я ночью пустился в дорогу.
Ничего не страшась, презирает влюбленный тревогу.
В становнще друзей у шатров я стоял для дозора,
От разбоя берег, охранял от убийцы и вора.
А когда по шатрам засыпали они тяжело,
Все сидел и сидел я, так долго, что ноги свело.
А верблюдица вольно паслась, не следил я за нею,
И могла ее упряжь любому достаться злодею...
Сам не помня себя, я в пустыне спешил без оглядки,
Все себя вопрошал — далеко ль до желанной палатки?
Указали мне путь незабвенный ее аромат
И безумие страсти, которою был я объят.
Я бежал от друзей, лишь погасли костры за шатрами,
А ее становнще лишь к ночи зардело кострами.
Наконец-то и месяц зашел за соседние горы,
Возвратились стада, замолчали в ночи разговоры.
Я дремоту стряхнул и, приход свой нежданный тая,
До земли пригибаясь, подкрался к жилью, как змея.
И сказал я: «Привет!» А она в изумленье великом
Задрожала и чуть нашу тайну не выдала криком.
«Я покрыта позором! — и пальцы, сказав, закусила.—
Ты, однако же, смел, велика твоя доблесть и сила.
Так привет же тебе! Иль таким неизвестен и страх?
Окружен ты врагами — тебе да поможет Аллах!
Но не знаю, клянусь, прискакал ты сюда потому ли,
Что ко мне поспешал? Потому ли, что люди уснули?»
Я ответил ей: «Нет! Покоряюсь желаниям страсти.
Что мне взгляды людей? Не такие видал я напасти».
И сумела она опасенье и дрожь побороть И сказала:
«Тебя да хранит всемогущий господь!»
Ночь, блаженная ночь! Отлетела дневная забота.
Услаждал я глаза, и не знали объятия счета.
Ночь медлительно шла, но казалась короткой она —
Столь короткой, клянусь, не казалась мне ночь ни одна.
Час за часом любовь упивала нас полною чашей,
И никто за всю ночь не смутил этой радости нашей.
Мускус рта я вдыхал, целовал ее влажные губы,
И за розами губ открывались точеные зубы.
Улыбнется она — то ль летающих градинок ряд,
То ль цветов лепестки белизною в багрянце горят!
В полутьме на меня ее нежные очи глядели,
Как глядят на детеныша черные очи газели.
И уже постепенно блаженная ночь убывала,
Стали звезды бледнеть, оставалось их на небе мало,
Мне сказала она: «Пробуждайся, уж ночь позади,—
Но наутро меня ты под Азвар-горой подожди!»
Вздрогнул я, услыхав чей-то голос, кричавший: «В дорогу!»
А на небе уже занималась заря понемногу.
По шатрам уже встали и начали в путь одеваться,
И она прошептала: «Что ж делать? Куда нам деватьсж»
Я сказал: «Ухожу. Коль успеют меня подстеречь,—
Или мне отомстят, или пищу добудет мой меч!»
И сказала она: «Ненавистникам сами ль поможем?
Тайну в явь обратив, клевету ли их сами умножим?
Если действовать надо, то действовать надо иначе:
Скроем тайну поглубже, иначе не ждать нам удачи.
Двум сестрицам своим расскажу я про нашу беду,
Чтобы все они знали, и тотчас же к ним я пойду.
Я надеюсь, что выход найдут мои милые сестры,
На обеих надеюсь, они разумением остры».
В горе встала она, без кровинки опавшие щеки,
И отправилась, грустная, слез проливая потоки.
Две прекрасных девицы явились на сестринский зов,
На обеих узоры зеленых дамасских шелков.
Им сказала она: «Моему смельчаку помогите:
Все возможно распутать, как ни были б спутаны нити».
А они устрашились, меня увидав, но сказали:
«Не такая беда! Предаваться не надо печали!»
И меньшая сказала: «Ему покрывало отдам,
И рубашку, и плащ,— только пусть бережется и сам.
Пусть меж нами пройдет он и скроется в женской одежде,
И останется тайна такою же тайной, как прежде».
Так защитою стали мне юные девочки эти
И одна уже зрелая, в первом девичьем расцвете.
Вышли мы на простор, и вздохнули они, говоря:
«Как же ты не боишься? Уже заалела заря!»
И сказали еще: «Безрассуден же ты и бездумен!
Так и будешь ты жить? И не стыдно тебе, что безумен?
Как объявишься снова, все время смотри иа другую,
Чтоб подумали люди: избрал ты ее, не иную».
И она обернулась, когда расставаться пришлось,
Показалась щека и глаза ее, полные слез.
На исходе той встречи сказал я два ласковых слова,
И верблюдица встала, в дорогу пуститься готова.
Я пустил ее бегом, была она в рыси ходка,
И упруга была, деревянного крепче бруска.
Я верблюдицу гнал, хоть и знал, что бедняга устала,
До того исхудала, что кожа от ребер отстала...
Часто умная тварь приносила меня к водопою,—
Но колодец зиял пересохшею ямой скупою:
Лишь паук-нелюдим над колодцем сплетает силок,
Сам вися в паутине, как высохший кожаный клок.
Дни и ночи тогда я не мерил привычною мерой,
Мрачный спрыгивал я с моей верной верблюдицы серой
Оскудевшие силы, измучась, она истощала,
Над отверстием знойным безумно глазами вращала
И толкала меня головой, порываясь к воде,—
Но колодец был сух, не сочилось ни капли нигде.
И когда бы не повод, что воле моей поддается,
То верблюдица в прах разнесла бы остатки колодца.
Понял я, что великий то будет урон для пустыни,
Я же был чужанин, а убежища нет на чужбине.
Яму новую рядом верблюдице выкопал я,
Но и донышко в ней обмочила б едва ли бадья.
А двугорбая все ж потянулась доверчиво к яме,
Но лишь малость воды удалось захватить ей губами.
У меня же с собой был один лишь сосудик скудельный
Я в колодцы его опускал на постромке седельной.
Стала нюхать верблюдица — гнилостью пахло питье,
Но припала к струе — и струя утолила ее.
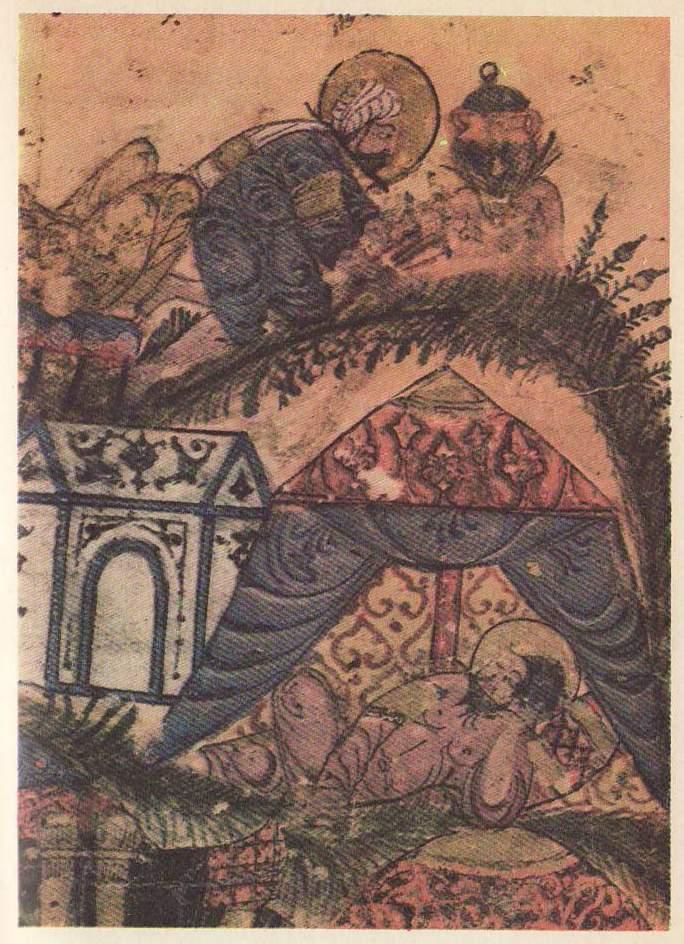
***
Она говорит, а сама, безутешная, плачет,
На нежных щеках ее слез не скудеет струя:
«Ты всех мне милей, попирающих землю ногою,
Всяк час о тебе и забота и память моя.
Ужели ж совсем я тебе не нужна, не желанна?
Залог твой — любовь — берегу добросовестно я.
Ты скоро мой прах понесешь и опустишь в могил
За что ты разгневалсж Плачу, сама не своя.
Три дня приходил, а теперь уже месяц исходит —
Ни весточки! Где ж ты? В какие уехал краж»
* * *
Мне Хинд приказала уйти от нее на рассвете.
Был рядом дозор, и мне быть не хотелось в ответе.
Расстались. Она накануне прислала гонца
С известьем, что дома и ждет на свиданье певца.
Что тот, мол, кто любит, придет под прикрытием ночи
Лишь смолкнут шатры и закроются сонные очи.
Гонцу я ответил, что гостю такому я рад,
Что верен по-прежнему, друг неизменный и брат.
Горя нетерпеньем, ее ожидал я прихода,
Лишь ночь потемнела, и месяц ушел с небосвода.
Я бодрствовал долго, с усильем дремоту гоня,
Я телом ослаб, и она одолела меня.
Но вдруг пробудили меня, распростертого сонно,
Алоэ и мускус, которыми Хинд благовонна.
Спросил я: «Кто здесь?» — и меня попрекнула она:
«Эх ты! О тебе для чего же тоскую без сна?
Как быть мне, несчастной! От горя я вся изомлела,
Я плачу и плачу — так, видно, судьба мне велела.
Тебя повстречав, полюбила, себе на беду,—
Тоскую и скоро горючей слезой изойду.
Назначишь мне встречу — а сам не придешь на свиданье;
Потом коль придешь, так найдется всему оправданье.
Смотри, если будешь и впредь мне досады чинить,—
Пожалуй, любовь оборвется, как ветхая нить.
Ничто для тебя огорченья мои и тревоги?
Иль сердце твое — словно камень с пустынной дороги?»
И смолкла. Стоял я, не мог шелохнуться, из глаз
Не слезы текли, а ?кемчужная россыпь лилась.
Сказал я: «Услада очей и души озаренье!
Знай, ты для меня драгоценнее слуха и зренья.
Прости же меня и упреки свои прекрати,
Дай всякому сброду от зависти сплетни плести».
Приник я к устам, и мгновенье казалось мне годом.
Как будто смесилась струя родниковая с медом,
С вином ли сирийским, краснее, чем глаз петуха...
Всю ночь мы любились, в блаженстве не видя греха.
Ее целовал я, а ночь благодатная длилась.
Но жажда души поцелуями не утолилась.
Желанья срывали плаща золотого шитье
Со стройного стана и бедер роскошных ее.
И ночь была наша, и жгла нас любовь нетерпеньем,
Пока петухи темноту не встревожили пеньем.
Она испугалась, прижалась ко мне, говоря:
«Пора расставаться, прохладой уж веет заря».
И вышла. Три девушки с нею, похожих собою
На статуи, к коим монах прибегает с мольбою.
Я слов не забуду, какими прощалась со мной,—
Как с радужной шейкой голубка на ветке лесной.
Хотел я достичь своего, но она не желала —
И молвила так: «Лишь неверному многого мало!»
* * *
Пока тебя не знал, не знал, что иглы
Произрастают на любовном ложе.
Я шел на гибель, пристрастившись к сердцу,
Которое, хоть бьется, с камнем схоже.
Я сердце упрекал свое, но слышу:
«На рок пеняй, не на меня!» Дороже
Ты мне всех женщин,— нудно с теми, скучно.
Лишь на тебя смотрю я в сладкой дрожи.
Да, я влюблен! Кто юным обезумел,
И в старости безумцем будет тоже.
* * *
В сердце давнишнюю страсть оживили остатки жилья,
С ветром пустынным они и с пылающим солнцем друзья.
Северный ветер здесь выл, засыхала степная трава,
Яростной бури порыв вырывал из песков дерева.
Здесь на пороге она говорила соседке тогда:
«С Омаром что-то стряслось. Неужели случилась беда?
И почему он со мной избегает обычных бесед?
Я обратилась к нему, он же брови нахмурил в ответ.
Иль он желаньем томим? — Я желанья его утолю.
Иль терпелив напоказ,— горделивца я, значит, люблю?
Иль доползли до пего нарекания, полные лжи?
Хочет ли бросить менж А быть может, и бросил — скажи!
Или в невзгоде моей виновата завистника речь? —
Чтобы в могилу ему, ненавистнику злобному, лечь!
Что с ним, сестрица, стряслось, разузнать я скорее должна
Так мне и отдых не впрок, и прохлада в тени не нужна.
Знаю, недолго мне жить, умертвит меня первая страсть,
Но от любви и ему не придется ли мертвым упасть?
Если, сестрица, при мне назовут его имя подчас,
То наступившая ночь не смыкает мне дремою глаз».
Ей, изнемогшей от страсти, соседка желала добра,
Медлить не стала с ответом, поспешно сказала: «Сестра,
Если я буду жива, неожиданно вдруг не умру,
Значит, увижу сама — к твоему подойдет он шатру.
Если ж не явится он, то паломницей в путь соберись,
К черному камню рукой, вкруг него обходя, прикоснись.
Если ж в Каабе, в толпе, ты увидишь его самого,—
Чтобы желанье разжечь в неустойчивом сердце его,
Ткань от лица отведи, под которою скрыта краса,
Чтоб показалось ему, что лупа поднялась в небеса.
Ты улыбнись, покажи своих белых жемчужинок строй,
Свежих девических губ ты прохладу ему приоткрой.
Пусть он подумает: «Значит, глаза меня ввергли в беду,
Так захотела судьба, и на смерть я как смертник иду».
Только смотреть на него ты подолгу пока воздержись,
Будто застенчива ты, и гляди себе под ноги, вниз».
Доброй соседки слова отзвучали в потемках едва,
Как услыхал я ответ, и запали мне в душу слова:
«Он, говорят, из таких, что, у женщины взявши свое,
Он не нуждается в ней,— вероломец бросает ее».
Тут я воскликнул: «Тебя полюбил я навек и сполна,
В сердце на месте твоем не бывала досель ни одна!
Так одари же того, кто не лгал ни в словах, ни в делах,—
Неблагодарность же пусть покарает позором Аллах!»
***
Сердцем чуешь ли ты, что подходит пора разлучиться?
Кто разлуку знавал, осторожности мог научиться.
Но неверен успех, если даже идешь осторожно,
А захочет судьба — и безумному выгадать можно.
Был я брошен друзьями; покинутый, вспомнил былое,
Превращает нам память здоровое сердце в больное.
Я любимую вспомнил, подобие легких газелей,
Ту, чьи очи как ночь, заклинаний сильнее и зелий.
Как проснулись в шатрах, на двугорбых вьюки возложили
И ее увезли — словно голову мне размозжили.
Слезы лить запрещал я глазам, по в ответ на угрозы
Лишь обильней струились из глаз опечаленных слезы.
С нею близко сойтись было горькой моей неудачей,
От родни ее вовсе погиб я в тот полдень горячий.
О Аллах, допусти, чтобы им кочевать недалече,
Чтобы знал я о ней, чтоб надеяться мог я на встречи.
Умер я, лишь исчезла вдали ее шея газелья,
Напоенные амброй жемчужные три ожерелья.
Я сказал: «Уходи, уходи, караван расставанья,
Оскорбленный, вослед повлекусь я дорогой страданья.
Та любовь, что навечпой зовется у смертных,— мгновенна,
А моя, не старея, пылает в груди неизменно».
Ей сказали: «Клянемся,— следим уже более года,—
Он — дурной человек, такова же и вся их порода».
А она двум подругам, ко мне подошедшим случайно,
Говорит: «Надо мной он смеется и явно и тайно.
Я боюсь,— говорит,— он изменником будет, наверно,
Не умеет отдаривать, речь он ведет лицемерно».
Я сказал: «Сердце жизни! Не верь негодяям заклятым.
Кабой ныне клянусь, как клянется сраженный булатом.
Я же страстью сражен, за тобой волочусь я по следу;
Не встречая тебя, до могилы я скоро доеду.
Я оправдан уж тем, что тебя домогаться не смею.
Как тебе изменю? Госпожа ты над страстью моею.
Об измене твердит лишь безумца язык суесловный.
Как тебе изменить, предо мною ни в чем не виновной?
Как же мне изменить? Ведь еще не решенное дело,
Продолжать ли терпеть иль опомниться время приспело?»
И сказала она: «Коль любить, то тебя одного лишь!
Встречи жди — и еще веселиться ты сердцу дозволишь».
Я ответил: «Коль правда, что любишь, любви в оправданье
Мне под Анзар-горой ты сегодня назначишь свиданье!»
«Так да будет!» — сказала и, чуть отстранив покрывало,
Пальцев кончики мне и сверкающий глаз показала.
Содрогнулась душа, и я понял: от мук ожиданья
Я скончаюсь сегодня же, если не будет свиданья.
***
...Оказавшись пустым, обо всем ли жилье рассказало?
Или скромный шатер оказался скупым на слова?
Я же стал вспоминать, как я сам веселился, бывало,
Ведь у тех, кто горюет, лишь память одна не мертва.
Как бывало когда-то волненье счастливое сладко,
Как любимых плащом укрывал я не раз от дождя!
Из шатра среди ночи к влюбленному вышли украдкой
Две газели, к нему газеленка с собой приведя
С длинной, гибкою шеей, моложе, чем обе газели,
С черной ночью в очах, с ожерельями из жемчугов.
Оглядевшись кругом, за шатрами волшебницы сели,
Где потверже земля, где доносится запах лугов.
И была черноглазая, словно луна в полнолунье,
И юна и прекрасна, походкою плавною шла.
«Жизнь отдам за тебя!» — говорила другая колдунья
И просилась под плащ,— чужеиин бы не сглазил со зла.
И сказали все три: «Эту ночь заклинаем заклятьем:
Эта ночь — заклинаем — да будет, как годы, длинна!
Все, чтоб нам не мешать, пусть к обычным вернутся занятьям,
