
Семеновкер 1 / стр 40,
.doc

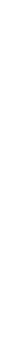
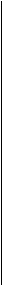
 опирался
на многовековую традицию исполнения
эпоса, который
относится к кругу исторических
повествований о походе ахейских войск
на Троянское царство после 1240 г. до
н. э. (30, с. 169). А. Б. Лорд рассматривает
возможные этапы
записи гомеровских поэм. По его мнению,
Гомер продиктовал
свой вариант поэм квалифицированному
писцу, но
это не была инициатива поэта. Сам Гомер
не нуждался в записи
и не считал ее необходимой для сохранения
текста. Поэмы
существовали много веков до Гомера, и
у певца устной
традиции, каким был Гомер, не было
сомнений, что они
будут сохраняться и далее в той же
бесписьменной форме.
Другое дело, что они могли бы исчезнуть,
если бы запись не
была осуществлена. Но что мог знать и
даже предполагать
об этом певец в VIII
в. до н. э. (85, с. 148—152)?
опирался
на многовековую традицию исполнения
эпоса, который
относится к кругу исторических
повествований о походе ахейских войск
на Троянское царство после 1240 г. до
н. э. (30, с. 169). А. Б. Лорд рассматривает
возможные этапы
записи гомеровских поэм. По его мнению,
Гомер продиктовал
свой вариант поэм квалифицированному
писцу, но
это не была инициатива поэта. Сам Гомер
не нуждался в записи
и не считал ее необходимой для сохранения
текста. Поэмы
существовали много веков до Гомера, и
у певца устной
традиции, каким был Гомер, не было
сомнений, что они
будут сохраняться и далее в той же
бесписьменной форме.
Другое дело, что они могли бы исчезнуть,
если бы запись не
была осуществлена. Но что мог знать и
даже предполагать
об этом певец в VIII
в. до н. э. (85, с. 148—152)?
Аналогично описан процесс записи «Калевали». Это произошло благодаря тому, что собиратель народных песен — рун Элиас Лённрот в 1828— 1834 гг. совершил ряд путешествий, в том числе по территории российской Карелии. В 1834 г. в округе Вуоккиниеми Архангельской губернии он познакомился с восьмидесятилетним старцем Архипой Перттуненом, «патриархом певцов рун», который спел для него много песен и рассказал, как его дед вместе со своим другом пели руны у костра все ночи напролет. По мере записи перед собирателем проступали общие черты и темы песен, словно он бродил между драгоценными обломками разбившегося когда-то единого целого. И вот уже творческая фантазия собирателя, живое воображение сына народа, стала складывать и связывать эти обломки, составлять из них единую эпопею (34, с. 7—8). Запись киргизского эпоса «Манас» в двух вариантах произошла уже в XX в. (47, с. 420,424).
Историческая основа информации, которая содержится в эпосе, не вызывает принципиальных сомнений у исследователей. Изучение эпической поэзии разных народов показало, что она включает значительно преломленную, но определенную и по-своему достоверную историческую информацию. В эпосе нашли отражение «великие деяния
40
предков», эпоха героев и наибольшей народной славы (19, с. 162, 164). В центре внимания оказалось то, что представляло интерес для людей и племен древности: военные экспедиции предводителей с их дружинами, захват и дележ добычи, героическая смерть в поединке с неприятелем, слава подвигов при жизни и после смерти. Это жизнь народов в той стадии общественного строя, который иногда именуют военной демократией (24, с. 398; 47, с. 431).
В настоящее время историзм гомеровского эпоса уже не вызывает сомнений (см., например, работы Ю.В. Андреева) (2). Еще Л. Морган высказал мнение, что им можно пользоваться как путеводителем по древнему обществу (49, с. 22). А.И. Зайцев отмечает, что гомеровские поэмы сохранили как обломок праиндоевропейского примитивного героического эпоса словосочетание «неувядающая слава», характерное также для гимнов «Ригведы». В середине II тысячелетия до н. э. в греческую эпическую традицию вошло и сохранилось описание большого, «подобного башне» щита, закрывавшего воина с головы до ног. К раннемикенской эпохе восходит и упоминаемый в «Илиаде» кожаный шлем, украшенный кабаньими клыками. В послемикенскую эпоху таких щитов и шлемов не было в употреблении, и Гомер мог получить эту информацию только из поэтической традиции (24, с. 397). То же можно сказать о различных перечнях, или каталогах, людей, явлений и предметов: список дочерей Нерея, обширный каталог кораблей, войск и вождей ахейцев, перечисление троянских вождей и их союзников (19, с. 113).
Определенное историческое содержание «Махабхара- ты» и «Рамаяны» также признается в современной науке. В частности, историчность некоторых героев «Махабхара- ты» подтверждается упоминанием о них в ведийских самхи- тах и брахманах. В ведийской литературе упоминаются так же те племена, чьи распри составили содержание эпоса (19, с 158). Как отмечает Г. М. Бонгард-Левин, «было бы непра вильно говорить о достоверности описанных в эпосе конк ретных событий, но некоторые стороны социальной жизни, 41
