
Гарбовский Н.К. - Теория перевода (2007)
.pdf
Все три языка дружно называют жиголо Альфонсами {Alphonse). В то же время французский Жак (Jacques) — это крестьянин,
аанглийский Джек (Jack) — чаще моряк, хотя иногда и Жак и Джек обозначают слуг. Французский вор — это Шарль (Charles)
аанглийский — Джон (John Family), французская проститутка —
Жюли (Julie), а английская — Анни (anytime Annie) и т.п.1 Для французского и английского языков такая образная «шутливая» ономастика — привычное дело. Так, распространенное английское имя Charley используется более чем в двадцати образных вы-
ражениях: Charley Brady — шляпа, Charley Coke — кокаиноман, Charley Dilk — молоко, Charley Freer — пиво, Charley Lancaster —
носовой платок, Charley Pope — мыло, Charley Prescott — жилет.
Charley Randy — бренди2 и др. Вряд ли можно отыскать в «святцах» имя, которое не получило бы в этих языках образного переосмысления. Русский же язык практически не использует имена собственные для создания образных выражений. Даже те примеры, которые мы рассмотрели, скорее являются заимствованиями, нежели собственно русскими образованиями. Поэтому такая образная ономастика может доставить немало проблем как на уровне понимания оригинального текста, так и на уровне выбора эквивалента в русском языке, когда он выступает в качестве переводящего. Во всяком случае передать образность таких выражений чрезвычайно сложно. Это говорит о том, что имена собственные не всегда дают возможность полностью эквивалентной замены в переводе.
§ 7. Особенности перевода топонимов
Проблему для перевода составляют и так называемые топонимы, т.е. географические названия. Образование топонимов в каждом языке — это сложный лингвоисторический процесс, который не может быть сведен к одной или даже нескольким словообразовательным моделям. В настоящее время никто не задумывается над тем, почему по-русски говорят Англия, Испания, Франция, Германия, хотя в языках, функционирующих в этих странах, эти названия звучат иначе. Эти топонимы хорошо известны и могут быть отнесены к разряду так называемых прецизионных слов, т.е. слов, имеющих точные эквиваленты и не предполагающих каких бы то ни было трансформаций. Такие слова составляют немногочисленную группу языковых форм.
Русские наименования этих стран позволяют вывести словообразовательную модель имен женского рода на -ия (суффикс -и.
Van Hoof H. Op. cit.
Ibid.
480
фонематически [-uj]. В самом деле, более половины русских названий государств мира строится по этой модели. Считается, что названия стран и других территориальных единиц образуются от названия народностей, например: киргиз — Киргизия. Хотя это не всегда так. Многие названия государств мира образованы в русском языке не от названий народностей, а от названий этих стран на каком-либо языке, т.е. в результате перевода (транскрипции или транслитерации) с одновременным освоением с помощью суффикса -и, т.е. по стандартной модели. Когда и из какого языка пришло в русский язык название того или иного государства — это вопрос истории языка. Главное в том, что в русском языке словообразовательная модель на -и остается про-
дуктивной (ср.: Швамбрания, страна Муравия, Цыгания и пр.). Эта модель оказывается весьма продуктивной и у переводчиков, особенно когда речь идет о неизвестном названии страны, а внешняя форма иностранного слова подсказывает модель. Так, в одном из устных переводов с румынского языка на русский можно было услышать экзотическое название Скоция как переводческий эквивалент румынского названия Шотландии [Scotia]. В этом же переводе возникло архаичное название Швейцарии — Гельвеция (по-румынски Швейцария до сих пор зовется Helvetia). Из глубокой древности вдруг возникло государство Галлия как эквивалент французского названия Le pays de Galles, означающего всего-на- всего Уэльс.
Примеры показывают, что переводчикам следует знать максимальное число географических названий, а не конструировать их даже по продуктивным моделям.
Некоторые географические названия могут быть отнесены к категории «ложных друзей переводчика». Их форма обманывает, создавая впечатление простого соответствия. Так, во французском языке есть несколько географических названий, построенных по модели словосочетания со словом la Terre (земля):
la Terre du Nord, la Terre de Feu, les Terres Australes et Antarctiques, la Terre-Neuve.
В русском языке эквивалентами первых трех наименований также являются словосочетания со словом земля:
Северная Земля, Огненная Земля, Южные и Антарктические земли.
Но четвертое наименование — la Terre-Neuve, которое, казалось бы, прекрасно соответствует русскому топониму Новая земля, означает совсем иное, а именно Ньюфаундленд. А Новая Земля называется по-французски La Nouvelle-Zemble. Обманывает переводчика и форма французского слова La Rhénanie. Суффикс -ie как
16-18593 |
481 |
бы подсказывает, что речь идет о какой-то Ренании, но на самом
деле это Рейнская область.
Одни и те же французские лексемы предполагают совершенно различные переводные эквиваленты в русском языке: форма Vienne обозначат столицу Австрии Вену. То же слово с артиклем la Vienne является названием реки и департамента во Франции и по-русски звучит как Вьенна. Французское Valence означает и провинцию в Испании, и город во Франции. В первом случае оно имеет в качестве русского эквивалента слово Валенсия, а во втором — Волане.
Это еще раз подсказывает, что имена собственные есть особые знаки культуры.
Определенную проблему для переводчика представляют топонимы, не относящиеся к культуре и языку исходного текста, т.е. пришедшие в текст из какого-то «третьего» языка.
Так, в «Мастере и Маргарите» для обозначения города, где происходили древние события, Булгаков принимает транскрипцию с древнееврейского языка — Ершалаим. Надо полагать, что использование древнееврейского обозначения вместо принятого в современном русском языке названия Иерусалим не случайно. Булгаков и этой деталью стремится передать исторический и местный колорит. Но главное состоит в том, что роман по замыслу имеет два плана, разделенных временем и пространством. Временное разделение планов и подчеркивается выбранной формой.
Автор английского перевода точно следует булгаковскому тексту. У него так же, как и в оригинале, — Yershalaim.
Французский переводчик принимает половинчатое решение: он вводит в текст современное обозначение города — Jérusalem, но дает сноску о том, что в оригинальном тексте принята транс-
крипция с древнееврейского (Dans le texte russe Boulgakov désigne la ville par le vocable hébreu de Ershalaïm). Чешский переводчик вовсе отказывается от древней формы и заменяет ее современным названием города: Jeruzalem.
Подобно именам людей географические названия нередко приобретают переносные значения и входят в состав фразеологических оборотов. К счастью, переносные значения некоторых географических названий в ряде европейских языков совпадают, например мифологический Лесбос, библейские Содом и Гоморра и др., что облегчает их перевод. Однако большинство топонимов имеют разные переносные смыслы в разных языках. Это может привести к переводческой ошибке, если переводчик пойдет по пути ложной аналогии и уподобит переносное значение топонима в одном языке его значению в другом. Так, топоним Голландия не имеет в русском языке никакого переносного смысла. Во французском языке он входит в состав образного выражения Je n'ai que
482
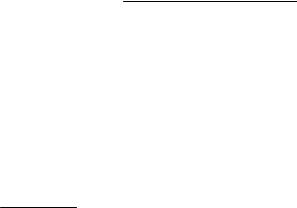
faire d'aller en Hollande (букв. Мне остается лишь отправиться в Голландию), которое функционирует как ответ на щедрые обещания, в которые не верят. Английское выражение с этим топонимом
The Dutch have taken Holland означает: Это давнишняя история.
Немецкое же образное выражение Das kosted Holland und Brabant имеет значение стоить очень дорого. Французское образное выра-
жение invitation à l'américaine (букв, приглашение по-американски,
когда каждый платит за себя, делает свой взнос) находит аналог в немецком языке — amerikanische Einladung, а в английском по-аме-
рикански заменяется на по-китайски — Chinaman's shout. Во фран-
цузском языке презерватив называют capote anglaise, a в англий-
ском — Americani French/Italien/Spanish letter или Port Said garter, в
немецком — это Pariser1.
Переводчику приходится быть предельно внимательным при переводе топонимов в переносных значениях, так как даже контекст не всегда помогает расшифровать их смысл.
Значительную трудность для понимания представляют геофафические названия «третьих» языков, воспроизводимые языком оригинала. Особенно затруднено их восприятие на слух. Достаточно вспомнить политические дискуссии по Югославии, проводившиеся на разных европейских языках. Узнать названия сербских, хорватских и других деревень и поселков в английских, французских и других устных текстах и соотнести их с теми формами, которые приняты в русском языке, было довольно трудно.
Трудности перевода топонимов делают их приоритетным объектом многих упражнений, нацеленных на подготовку устных переводчиков.
Глава 8
ПЕРЕВОД РЕАЛИЙ
Реалии подразделяются на разные фуппы. Одной из наиболее часто рассматриваемых фупп реалий оказываются реалии этнографические. Впоросы перевода реалий, принадлежащих именно этой гуппе, изучаются особенно пристально потому, что предметы быта, одежда, кушанья и т.п. в художественном тексте придают высказываниям определенный национальный, региональный или местный колорит, составляющий неотъемлемую часть поэтики.
Переводчики избирают разные способы перевода реалий в зависимости от того, насколько значительную функцию выполняет тот или иной знак-реалия для поэтики переводимого текста.
1 См.: Van Hoof H. Les noms de pays, de peuples et de lieux dans le langage imagé // Meta. 1999. Vol. 44. N 2.
483

Переводческая перифраза — это использование в переводном тексте дефиниции, определяющей слово, обозначающее реалию в исходном тексте.
Рассмотрим пример из того же перевода чеховского рассказа «Дом с мезонином»:
Это было 6—7 лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Т-ой губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия.
All this happened six or seven years ago when I was living in the province of T., on the estate of a landed proprietor called Belokurov, a young man who rose very early, went about in a full-skirted peasant coat, drank beer of an evening, and was always complaining that he never met with sympathy anywhere.
Вэтом русском сообщении можно обнаружить сразу четыре реалии: две реалии — уезд и губерния — относятся к территори- ально-административным, третья — помещик — к социальноклассовым и четвертая — поддевка — к этнографическим.
Рассмотрим пример перевода этнографической реалии поддевка, которая обозначает верхнюю мужскую одежду, «род пальто
вталию с мелкими оборками»1. Вполне возможно, что в какомлибо словаре русского языка, доступном переводчику, было дано определение: длиннополая одежда крестьянина, которое переводчик и перевел на английский язык, передав русское слово английской перифразой. Может быть, эту перифразу придумал он сам по аналогии с весьма распространенным образом графа Толстого, ходившего в простой крестьянской одежде. Во всяком случае форма исходного знака изменена: термин заменен дефиницией, т.е. развернутым определением. Логическая операция, лежащая в основе переводческого перефразирования, — это «определение понятия через ближайший род и видовое отличие». Такая логическая формула состоит из двух частей: определяемого понятия (левая часть, definiendum) и определяющего (правая часть, definiens). Определяемое понятие — это то, признаки которого отыскиваются. Определяющее же понятие отражает искомые родовые и видовые признаки.
Внашем примере определяемым понятием является поддевка, а определяющим coat — платье, одежда (родовой признак) и a fullskirted — длиннополая, peasant — крестьянская (видовые признаки).
Таким образом, в переводческой перифразе мы обнаруживаем логическую связь между сообщениями исходного текста и пере-
Словарь русского языка: В 4 т. Т. 3. С. 184.
484
веденного в виде определения: в исходном тексте находится левая часть определения, а в переводном — правая. Левая часть выражена средствами одного языка, а правая — другого.
Учитывая особенность данного материала (этнографическая реалия, недостаточно хорошо знакомая переводчику), мы не будем подробно рассматривать несоответствие видовых признаков в определении слова поддевка, выводимых в Словаре русского языка и в английском тексте. Переводчик показал главное в условно возможной для художественного текста форме: он показал, что речь идет о национальном костюме, имеющем социальную закрепленность.
Административные реалии также представляют значительную сложность для перевода. В приведенном примере переводчик выпустил обозначение реалии уезд, а слово губерния перевел как the province, т.е. словом, не передающим особенностей администра- тивно-территориального деления России.
В высказывании с «еловыми иголками» встретился еще один тип реалий, а именно русское национальное обозначение меры длины, ставшее ныне историзмом, — «вершок». Вершок, обозначавший первоначально излишек, «горку», образовывающуюся при насыпании зерна, равен 4,4 см.
Для того чтобы принять решение о способе передачи этого слова, переводчику необходимо было выбрать между транскрипцией, перифразой и адаптирующей транспозицией, т.е. параболой. Транскрипция оказалась бы непонятной английскому читателю и потребовала бы комментария. Перифраза непозволительно утяжелила бы текст художественного перевода. Остается адаптация. Но адаптация также предполагает возможность использования двух вариантов: обращения к современной метрической единице, известной в равной степени и в современной русской, и в современной английской культуре, или же поиск соответствующей единицы среди мер длины, традиционно употреблявшихся в английской культуре до введения метрической системы, подобно русскому «вершку». Переводчик идет именно по последнему пути и в качестве единицы обозначения высоты слоя иголок употребляет английскую единицу inch — дюйм. В самом деле, выбор в качестве эквивалента соответствующей величины в метрической системе — 4,4 см — сделал бы английское высказывание стилистически неадекватным оригиналу, так как придал бы ему оттенок техничности, официальности. Дюйм не эквивалентен вершку в обозначении реальности, так как равен всего 2,55 см. Но для данного контекста не важно это различие, ведь автор говорит об ощущениях, а не о результате точного измерения. Под ногами персонажа был довольно толстый слой иголок, это значение и следовало сохранить в переводе.
485

Опущение. В словосочетании амосовские печи определение амосовские превращает обозначение предмета, распространенного во многих культурах, в русскую реалию. Определение печей по имени конструктора было, видимо, значимо для русских читателей XIX в. Оно ассоциировалось с определенным внешним видом предмета, что помогало воссоздать картину интерьера, или свидетельствовало о какой-либо конструктивной особенности и оказывалось связанным с издаваемым печью гудением. Даже для современного русского читателя определение амосовский мало что говорит. Внимательный читатель, стремящийся постичь все смыслы, зашифрованные в тексте, и понять, какое значение имеет это определение и какова его текстовая функция, должен будет обратиться к справочной литературе. Переводчик, работающий для английского читателя, устраняет эту реалию как малозначимую, исходя, возможно, из того, что определение, если бы оно было введено в текст в виде транскрипции, не помогло более полному воссозданию картины английским читателем. Малопригодны были бы и другие способы перевода. Можно предположить, что в английской культуре отопления жилищ аналога данной русской реалии нет, и это устраняет возможность адаптирующей транспозиции. Переводческая перифраза, возможная после того как переводчик выяснил бы конструктивные особенности данного типа печей, только утяжелила бы текст.
Таким образом, опущение определения, предпринятое переводчиком, несколько снижает когнитивную ценность текста (английский читатель получает меньше информации о русской культуре), но не мешает достижению основной функции художественного текста, а именно поэтической.
Глава 9
СИНТАКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
§ 1. Коммуникативная обусловленность структуры высказывания
К синтаксическим трансформациям могут быть отнесены изменения, которые претерпевает в переводе «схема мысли», принятая автором оригинального речевого произведения. Известно, что языки по-разному могут оформлять одно и то же суждение, придавая ему большую или меньшую выразительность. Рассмотрим элементарное суждение, выраженное простым предложением русского языка: Человек идет по улице. Это суждение в реальной речи может приобрести формы разных высказываний, например:
486

1)Человек по улице идет.
2)Идет человек по улице.
3)Идет по улице человек.
4)По улице идет человек.
5)По улице человек » идет.
Все эти разновидности взятого за основу базового высказывания выражают суждение об одной и той же предметной ситуации; в ней есть действующий субъект (человек) — S, его признак — А (движение пешком с обычной скоростью) и пространство, в котором разворачивается действие (улица), — Cir. С точки зрения формальной логики все эти высказывания оказываются тождественными, так как являются истинными, если называют реально происходящую ситуацию, и ложными, если, например, в реальности человек не идет, а стоит. Но с позиции «схемы мысли» эти высказывания различны. Они отражают разное отношение коммуниканта к предметной ситуации, различие его коммуникативного замысла. Их структура отражает то, как отправитель речи хочет представить предметную ситуацию получателю, т.е. тому, к которому обращено сообщение. И в каждом случае картина одной и той же предметной ситуации, отраженной сознанием автора речевого произведения, будет несколько иной. Автор будет показывать ее как бы с разных сторон, выдвигая на первый план одни детали и «уводя в тень» другие. Такую «мельчайшую, неделимую далее картину действительности» Ю.С. Степанов предлагал называть «кадром»1. Понятие «кадр» оказывается весьма ценным для понимания различий структуры этих высказываний. Высказывания, отражающие некую мельчайшую картину действительности, подобно кадру в кинофильме, встроены, «вмонтированы» в определенный контекст и занимают в нем соответствующие позиции. От того, какое место занимает высказывание в контексте, во многом зависит его структура. Допустим, что автор какого-либо речевого произведения хочет начать описывать данную предметную ситуацию. Ни субъект действия, ни его признак еще не известны. В этом случае наиболее естественной будет форма (4) — по улице идет человек. В ней на первом месте окажется пространственная рамка, которая показывает сцену действия. Эта последовательность — сцена (про-
странственная и [или] временная рамка кадра) → предикат (признак субъекта) → субъект действия [Cir → А → S] — наиболее соответ-
ствует норме русской речи в начале повествования.
Ср.: «В океане, издавна за свои бури и волнения названном Тихим [Cir 1], под 45-м градусом [Cir 2] находился [А] необитаемый остров [S]...»
Степанов Ю.С. Французская стилистика. М., 1965. С. 183.
487

«В чудесный майский день [Cir t.] у острова [Cir loc. 1] на море [Cir loc. 2] показался [А] дым винтом [S]» (Булгаков. Багровый ост-
ров).
Обратим внимание на то, что в первой фразе булгаковского текста рамка кадра последовательно сужается: Cir 1 (в океане) ► Cir 2 (под 45-м градусом). Во второй фразе пространственной рамке (Cir loc.) предшествует временная (Cir t.).
В этих высказываниях в самой сильной для письменной речи коммуникативной позиции в конце высказывания, на которую падает фразовое ударение, оказывается субъект. Именно он и является тем главным, новым элементом, о котором хочет рассказывать автор. Этот новый элемент часто называют ремой. Предшествующая часть высказывания, от которой идет развертывание сообщения, в этом случае определяется термином тема, а разделение высказывания на эти две части называется актуальным членением. Актуальное членение — это психологический порядок развертывания высказывания, он не зависит от того, какие члены предложения оказываются темой и ремой. Считается, что нейтральной письменной речи присущ так называемый прогрессивный порядок развертывания высказывания. При прогрессивном развертывании высказывание строится в соответствии с логикой: в начале размещается тема (то, о чем говорится), т.е. информация базовая, известная, стартовая, она предшествует реме (тому, что об этом говорится), т.е. той части высказывания, которая содержит наиболее значимую, новую информацию. Для письменной речи на русском языке характерен именно прогрессивный порядок слов. Такой порядок свойствен письменной форме и многих других языков. И.И. Ковтунова отмечала, что прогрессивный порядок следования частей высказывания, выделяемых актуальным членением, представляет собой универсальный закон построения речи1.
В первом проанализированном высказывании ремой оказывается человек. Противоположное по взаимному расположению элементов высказывание — Человек идет по улице — в письменной речи с прогрессивным порядком скорее всего возникнет при описании кадра, которому уже предшествовали другие и из которых получатель речи уже узнал о каком-то человеке. Главной в нем оказывается информация о том, что уже известный субъект идет именно по улице. Оно могло бы быть встроено в такой, на-
пример, контекст: Человек идет по улице, затем сворачивает в пе-
реулок и т.п. Иными словами, наиболее значимой для коммуникации оказывается информация о пространстве, в рамках которого происходит действие субъекта.
1 Ковтунова И.И. Принцип словорасположения в современном русском языке // Русский язык. Грамматические исследования. М., 1968. С. 103.
488

Ремой может оказаться и глагол, обозначающий признак субъекта в высказывании Человек по улице идет. Это высказывание, повествующее, так же как и предшествующее, об уже известном субъекте, фокусирует внимание на действии. Оно может возникнуть в контексте, где речь будет идти о ряде последовательных действий субъекта, например: Человек по улице идет, затем ускоряет шаг и бежит... и т.п.
Однако не все высказывания строятся с прогрессивным порядком следования частей. Психологическая сущность актуального членения проявляется в том, что рема следует за темой лишь при объективном, нормальном, точнее, эмоционально нейтральном развертывании высказывания. Из этого следует, что возможно и иное, стилистически маркированное расположение. Известно, что в устной коммуникации на русском языке порядок взаимного расположения темы и ремы обратный: на первом месте в сильной интонационно выделенной позиции оказывается рема, а тема следует за ней1. Если в письменной речи коммуникативное напряжение нарастает, то в устной речи оно, напротив, угасает. Поэтому в устной коммуникации высказывания — Чело'век идет по улице. И'дет по улице человек. По 'улице идет человек — в качестве ремы будут соответственно иметь элементы чело'век, и'дет и по 'улице, вынесенные в начальную позицию.
В устной речи интонационное выделение позволяет почти всегда безошибочно определить, что является коммуникативно наиболее значимой частью высказывания. Сложнее дело обстоит тогда, когда в письменной речи автор сообщения отступает от прогрессивного порядка следования частей высказывания. Опознать коммуникативно значимый элемент в высказывании И'дет по улице человек несложно, так как необычная позиция элемента, обозначающего признак субъекта (инверсия), сразу же привлекает к нему внимание независимо от того, какой называется признак (ср., например: Красивый был человек^). Размещение глагола, обозначающего признак предмета, на первом месте привлекает к нему внимание. Такое расположение возможно тогда, когда необходимо привлечь внимание именно к признаку или признакам предмета, например: Идет по улице человек и не знает, что ждет его за поворотом. Коммуникативное значение высказывания типа По улице идет человек расшифровать значительно сложнее, так как оно соответствует формально основной схеме развертывания мысли, о которой мы говорили в начале параграфа. Поэтому в письменной речи высказывания этого типа возникают чаще всего в противопоставлениях разных пространственных рамок картины,
Лаптева O.A. РУССКИЙ разговорный синтаксис. М., 1976. С. 185.
489
