
Гарбовский Н.К. - Теория перевода (2007)
.pdfвнося в него незначительную оценочную коннотацию — pestré kosili (букв, пестрая рубашка).
В приведенных примерах генерализации и парафразы мы видели, что для проведения этих операций переводчик использует понятия, обозначающие ближайший род, по отношению к понятию, выраженному в тексте оригинала. Так происходит часто, но не всегда. Иногда переводчику приходится идти дальше по цепочке обобщающих понятий.
Рассмотрим следующий фрагмент английского текста и его перевод на русский язык.
«Why, hello, Henry! Where're yuh goin' this mornin'?» inquired Farmer
Dodge, who, hauling a load of wheat to market, encountered him on the public road. He had not seen his wife's death, and he wondered now, seeing him looking so spry.
«Yuh ain't seen Phoebe, have yuh?» inquired the old man, looking up quizzically.
«Phoebe who?» inquired Farmer Dodge, not for the moment connecting the name with Henry's dead wife.
T. Dreiser. The Lost Phoebe
— Э
й
!
Г
е
н
р
и
!
П
р
и
вет! Куда это ты намылился с утра пораньше? — поин
тересовался встретившийся ему на до роге фермер Плут, везший пшеницу на рынок. Он не видел старика несколько месяцев, с похорон жены, и удивился, увидев его в таком бодром настроении.
—Ты не видел Фиби? — сказал ста рик, вопросительно глядя на него.
—Какую еще Фиби? — спросил Плут, не сразу связав это имя с име нем умершей жены Генри.
Т. Драйзер. Потерянная Фиби / Перевод Н. Нестеровой
В английском тексте все три следующие друг за другом реплики персонажей сопровождаются одним и тем же глаголом inquired в авторской речи. Переводчик, зная об асимметрии речевых норм русского и английского языков, состоящей в том, что английский язык редко варьирует глаголы речи, сопровождающие реплики персонажей в текстах художественных произведений, отдавая явное предпочтение глаголу to say, в то время как в русских текстах вариативность таких глаголов весьма высока, производит операции генерализации, поднимаясь все выше по цепочке обобщения понятий.
inquired = 1) поинтересовался (эквивалентная замена, сохранены как родовые, так и видовые признаки: речевое действие /отдаленный родовой признак/ + вопрос /ближайший родовой признак + заинтересованность в получении ответа / видовой признак); = 2) спросил (генерализация с переходом к понятию,
обозначающему ближайший род: речевое действие /родовой признак/ + вопрос / видовой признак); = 3) сказал (генерализация с переходом к понятию, обладающему максимально широким объемом в данной предметной области).
430
Такой последний элемент в цепочке понятий, последовательно связанных друг с другом отношением подчинения, представляет собой универсальный класс, т.е. понятие с предельно большим объемом, покрывающим некую предметную область. Говоря об универсальном классе, следует иметь в виду относительность этого понятия.
Разумеется, при максимально широком взгляде на вещи универсальный класс может включать в себя всю мыслимую совокупность объектов, которую в русском языке можно определить сло-
вом нечто.
Но переводчик всегда ограничен определенной предметной областью и вряд ли может часто прибегать к максимально обобщенному универсальному классу.
Четкое представление об универсальном классе необходимо ему, чтобы при переходе от понятий с ограниченным объемом к понятиям с более широким объемом не выйти за пределы той предметной области, которая задана этим интеллектуальным действием, в противном случае трансформационная операция может привести к искажению.
В рассмотренном выше случае в качестве универсального класса было выбрано понятие устного речевого действия. Глагол сказать в русском языке и соответствует такому наиболее широкому понятию, подчиняющему себе все другие, более конкретные,
как промолвил, произнес, прокричал, спросил и многие другие. Уни-
версальный класс всегда ограничен заданной областью. Для переводчика очень важно ясно представлять себе, каким понятием ограничен в каждом конкретном случае универсальный класс, чтобы не допустить логических ошибок, применяя операции генерализации и перефразирования. А такие ошибки могут возникнуть в связи с тем, что языковое мышление людей, пользующихся разными языками, неодинаково. Так, например, во французской логико-языковой системе в качестве универсального класса для только что рассмотренной предметной области устных речевых действий выступает глагол со значительно более широким объемом значения faire — делать.
«C'est très bien, c'est très bien, fit-il, c'est comme cela que ça doit être»
(M. Druon. Les Grandes familles). Это высказывание может быть пе-
реведено следующим образом: «Превосходно, превосходно! — воскликнул он. — Именно так и должно быть!»
В русском языке глагол сделать выходит за пределы предметной области актов речи и не может быть использован в данном случае в качестве эквивалента. Понятием универсального класса в данном случае будет глагол сказать. Но в высказывании отчетливо
431
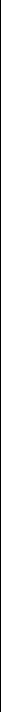
просматривается эмоциональность, поэтому в русском переводе может быть выбран глагол, выражающий понятие речевого акта и имеющий в структуре содержания дополнительный признак эмоциональности, т.е. глагол воскликнуть.
Использование понятий максимально широкого универсального класса иногда находит интересное выражение в межъязыковой коммуникации.
В период, когда советские Вооруженные силы активно помогали вооружаться и обучаться военному делу народам африканских стран, в эти страны направлялось много специалистов-техников, которым «по рангу» не всегда полагался переводчик или же полагался один переводчик на несколько человек. Сами же эти специалисты знанием иностранного языка обычно не обладали. Однако техническая работа требовала постоянного общения с местными молодыми людьми, которых нужно было научить обращаться с техникой. Довольно быстро наши специалисты нашли такую форму общения, которая им помогла вовсе обходиться без переводчиков. Излюбленный военно-методический прием — «делай как я», сопровождаемый комментариями, построенными на чрезвычайно малом объеме иностранных слов, обычно с довольно большим объемом понятий, что позволяло им применять эти слова, заключающие понятия универсальных классов, к максимально большому числу производственных операций. Апофеозом такого использования понятий можно считать, например, такое высказывание на французском языке, которое мне пришлось услышать от нашего автомеханика, предлагавшего местному «камараду» взять гаечный ключ и, поворачивая его по часовой стрелке,
завернуть какую-то гайку: «Prends ça et tourne ça comme ça!» (букв.
«Возьми это и крути это вот так!»). Ключ, гайка и способ действия оказываются объединенными в один универсальный класс, обозначенный указательным местоимением ça — это.
Пример перевода на русский язык французского глагола faire — делать, употребленного в качестве глагола, обозначающего понятие речевого акта, иллюстрирует трансформационную операцию, противоположную генерализации. Следуя по цепочке понятий в обратном направлении, т.е. от более общего к менее общему, с точки зрения объема, и к более конкретному, более насыщенному, с точки зрения содержания, он выбирает понятие, соответствующее его представлению об эквивалентности на уровне данной единицы перевода. Такую операцию в теории перевода называют
конкретизацией.
432
§ 6. Ограничение объема понятий, трансформационная операция конкретизации
Конкретизацией называется трансформационная операция, в ходе которой переводчик, следуя по цепочке обобщения, заменяет понятие с более широким объемом и менее сложным содержанием, заключенное в слове или словосочетании исходного текста, понятием с более ограниченным объемом, но сложным, более конкретным содержанием. Таким образом, конкретизация непременно предполагает привнесение новых элементов в содержание понятия, т.е. добавление новых признаков в понятие об объекте, описываемом в переводе. Языковая форма, слово или словосочетание в тексте перевода, называющая менее общее понятие в языке перевода, оказывается гипонимом по отношению к языковой форме, выражающей понятие исходного текста, поэтому такая трансформационная операция может быть также определена как гипонимическое преобразование.
Рассмотрим следующий пример.
Coming back, he walked through the barroom, where people waiting for the train were drinking. He drank an Anis at the bar and looked at the people (E. Hemingway. Hills like white elephants).
Возвращаясь, он прошел через бар, где пили пиво ожидавшие поезда пассажиры. Он выпил у стойки стакан Anis del Toro и посмотрел на них {Э. Хемингуэй. Белые слоны / Перевод А. Едеонской).
В английском тексте мы встречаем два слова, обозначающие понятия с довольно высоким объемом: люди и пить. Использование подобных по объему понятий слов в русском языке вряд ли возможно. Ср.: он прошел через бар, где пили ожидавшие поезда люди. В русском языковом сознании понятие люди обычно связано с неопределенным множеством объектов, подпадающих под класс человек. В русском языке вполне возможно, например: передо мной проходили какие-то люди; люди уже отдыхают, а я нет; на улице множество людей и т.п. В данном же случае класс ограничен определением — ожидавшие поезда, т.е. речь шла о конкретной совокупности объектов данного класса. Поэтому переводчик выбирает более конкретное понятие, обозначающее конкретную совокупность людей, подмножество, соответствующее, на его взгляд, той совокупности, которая определена в английском тексте словом с общим понятием — пассажиры, т.е. те люди, которые собирались ехать на ожидавшемся поезде. Русское понятие пассажиры определяет именно такое подмножество в классе людей, которое характеризуется либо 1) признаком передвижения в какомто транспортном средстве, но не управления им, либо 2) признаком состояния непосредственно перед поездкой (напр., на пер-
433
pone стояли пассажиры в ожидании поезда), либо 3) признаком со-
стояния непосредственно после поездки (пассажиры только что прилетевшего самолета спускались по трапу). Переводчик, ориен-
тируясь на референтную ситуацию, использует слово, обозначающее данное подмножество по второму признаку. В текст вносится дополнительный смысл — в баре были только пассажиры, ожидающие поезд, там не было ни встречающих, ни провожающих, ни каких бы то ни было других лиц, ожидавших прибытия поезда. Переводчик принимает во внимание наиболее вероятную категорию ожидавших — будущих пассажиров прибывающего поезда. Мы не будем говорить здесь о том, оправдан выбор переводчика или нет. Об этом пойдет речь в третьей части книги. Пока нам важно показать механизм взаимодействия логических отношений между понятиями и трансформационных операций.
Аналогичная логическая операция происходит и при переходе от понятия, обозначенного английским глаголом drinking, к понятию, обозначенному словосочетанием пили пиво. Автор оригинала не указывает, что конкретно пили люди в баре. Использование таких обобщающих понятий свойственно английской речи, как, впрочем, и французской, даже в еще большей степени. Пе - реводчику для построения русской фразы необходимо хоть какоенибудь прямое дополнения к глаголу пить. В непереходной функции русский глагол пить приобретает специфические значения Избирая объект с уточняющим признаком потребляемой жидкости, переводчик исходит из наиболее яркой характеристики описываемой ситуации в целом: жара. Наиболее распространенным напитком, который потребляют в жару в барах, на его взгляд, является пиво. Его не смущает, что из следующей фразы мы узнаем, что главный персонаж рассказа пил не пиво, а анисовую настойку. Однако в данном случае нам важно не столько объяснить выбор переводчика в пользу конкретного уточняющего признака, сколько показать действие механизма логического уточнения.
Если в первом случае (пример people — пассажиры) мы видели непосредственную конкретизацию, так как уточняющий признак находится в содержании самого понятия пассажиры, то во втором случае мы сталкиваемся также с переводческой парафразой, но уже не генерализирующей, т.е. построенной по модели классической дефиниции через ближайший род и видовое отличие, а парафразы, которая может быть определена как уточняющая гипонимическая парафраза. С точки зрения логической операции, лежащей в основе операции трансформационной, уточняющая парафраза и конкретизация имеют много общего, так как строятся путем ограничения понятия. Но в парафразе используются еще и механизмы логического определения. Попробуем построить цепочку понятий, приводящую от drinking к пили пиво.
434
1)То drink = пить = поглощать жидкость (межъязыковая опи сательная эквивалентность);
2)К классу жидкости относится пиво (категоризация частного, включение ограниченного понятия в общее через общее, не полное определение: пиво — это жидкость);
3)Следовательно, возможно, что to drink ≈ пить пиво.
Рассмотрим еще один пример.
Затем перед прокуратором предстал стройный, светлобородый , красавец со сверкающими на груди львиными мордами, с орлиными перьями на гребне шлема, с золотыми бляшками на портупее меча, в зашнурованной до колен обуви на тройной подошве, в наброшенном на левое плечо багряном плаще.
Next to appear before the procurator was a handsome, blondbearded man with eagle feathers in the crest of his helmet, gold lion heads gleaming on his chest, gold studs on his sword belt, triple-soled sandals laced up to his knees, and a crimson cloak thrown over his left shoulder.
Ensuite se présenta devant le procurateur un bel homme à barbe blonde. Des plumes d'aigle ornaient la crête de son casque, des têtes de lion d'or brillaient sur sa poitrine, le baudrier qui soutenait son glaive
était également plaqué d'or. Il portait des souliers à triple semelle lacés jusqu'aux genoux, un manteau de pourpre était jeté sur son épaule gauche.
В булгаковском тексте мы сталкиваемся с общим, родовым понятием, покрывающим определенную предметную область:
обувь = туфли, или сандалии, или ботинки, или сапоги, или тапоч-
ки, или еще нечто подобного рода. Почему Булгаков предпочел в данном случае общее родовое понятие видовому, сказать трудно. На Бездомного он надел черные тапочки, на Воланда — заграничные туфли в цвет костюма, на Марка Крысобоя — тяжелые сапоги, на Иешуа — стоптанные сандалии, а вот на легата — просто обувь. Возможно, он посчитал, что наряд легата и так слишком подробно описан, и ввел родовое понятие для контраста.
Оба переводчика вынуждены конкретизировать родовое понятие обувь по причине асимметрии лексико-семантических систем или асимметрии узусов. Английский переводчик трансформирует общее понятие в то конкретное, которое ему представляется наиболее соответствующим облику римлянина, — sandals, т.е сандалии. Но это могли быть и шнурованные военные сапоги или краги, ведь обул же Булгаков воина Марка в сапоги.
Французский переводчик также конкретизирует родовое понятие. Во французском языке есть слово, обозначающее родовое понятие обувь (chaussures), но оно практически не употребляется
435
при описании внешности человека, т.е. калька с русского человек в какой-либо обуви невозможна. Переводчик выбирает в качестве эквивалентного понятие об определенном виде объектов — des souliers, что обычно соответствует понятию туфли (такой же вид обуви, например, на Воланде). Если античные сандалии представляют собой только подошву со шнуровкой, то туфли — это такой вид обуви, который закрывает ступню, но не поднимается выше щиколотки. Таким образом, французский и английский легаты обуты по-разному. Следует отметить, что степень обобщенности понятий во французском и английском вариантах различна. Французское слово des souliers раньше использовалось для обозначения родового понятия — обуви. В этом значении слово функционирует, например, в канадском варианте французского языка. Возможно, это значение также сохранилось в языковом сознании французов. Поэтому французский вариант перевода по степени обобщенности понятия, видимо, больше соответствует оригиналу.
Мы привели примеры трансформационных операций конкретизации, вызванных асимметрий лексико-семантических систем сталкивающихся в переводе языков, а также асимметрией речевых узусов, т.е. привычного, а потому предпочтительного употребления тех или иных слов и словосочетаний. В этих случаях переводчик вынужден прибегать к трансформации понятий. Но, как мы могли заметить, степень «свободы» таких преобразований различна. Ограничение родового понятия видовым, предпринятое переводчиками для передачи родового понятия, заключенного в русском слове обувь, а также добавление объектного дополнения пиво, ограничивающее родовое понятие, заключенное в английском глаголе to drink, может быть определено как «свободная конкретизация», так как переводчик имеет некоторую свободу в выборе эквивалента и действует исходя из собственного понимания описываемой ситуации действительности.
Таким образом, мы убедились, что операции по обобщению или, напротив, уточнению объемов понятий, лежащие в основе генерализации и конкретизации, всегда предполагают изменения содержания понятий, либо нейтрализуя некоторые из признаков объекта, описанного в тексте оригинала, либо «приписывая» ему признаки, о которых можно только догадываться. Иначе говоря, в результате гипо-гиперонимических преобразований система смыслов, заключенная в исходном тексте, претерпевает некоторые изменения. Понятия, соотносимые с одними и теми же объектами и представляющие их как классы, множества, подмножества, имеют
разное содержание.
436

§ 7. Особые случаи гипо-гиперонимических преобразований. Понятия с переменным содержанием. Местоименные замены
Как мы видели, гипо-гиперонимические трансформационные операции могут быть обусловлены не только асимметрией лекси-ко- семантических систем языков, оказывающихся в контакте в процессе перевода, или асимметрией возможностей и норм их функционирования в речи, но и самой структурой речевого произведения. Среди факторов, которые влияют на языковые преобразования, отмечает В.Г. Гак, важную роль играет повторная номинация, т.е. «наименование уже ранее обозначенного в данном контексте денотата: предмета, действия, качества»1. Примером асимметрии в повторной номинации является приводившийся выше фрагмент текста Т.Драйзера. В английском тексте одно и то же последовательно повторяющееся речевое действие обозначено одним и тем же глаголом inquired (идентичная повторная номинация). В переводе на русский язык данное реч евое деиствие получает различные наименования: поинтересовался → сказал → спросил (вариативная повторная номинация)2. Автор оригинального текста строил речевое произведение в соответствии с языковым сознанием, свойственным носителю английского языка - использовать идентичные понятия для обозначения иден тичных речевых действий. Русское языковое сознание, определяющее стилистические нормы литературной речи, предполагает скорее вариативную повторную номинацию, нежели идентичную. Это и объясняет переводческое преобразование.
Рассмотрим следующий пример фрагмента из текста Булгакова и его переводы на французский и английский языки.
Его прокуратор спросил о том, где сейчас находится себастийекая когорта. Легат сообщил, что себастийцы держат оцепление на площади перед гипподромом, где будет объявлен народу приговор над преступниками.
Le procurateur lui demanda où se trouvait actuellement la cohorte sébastienne. Le légat l'informa que les soldats de la sébastienne montaient la garde sur la place devant l'hippodrome, où devait être annoncée au peuple la sentence rendue contre les criminels.
The procurator asked him where the Sebastian cohort was currently stationed. The legate informed him that they were on cordon duty on the square in front of the hippodrome, where the sentences pronounced on the criminals would be announced to the people.
1Гак В.Г. Языковые преобразования. С. 524.
2Термины «идентичная повторная номинация» и «вариативная повторная номинация» предложены В.Г. Гаком. См.: Там же.
437
Автор оригинального текста предпринимает вариативную по-
вторную номинацию: себастийская когорта → себастийцы. Пере-
водчики в данном случае следуют за автором и также используют вариативную повторную номинацию. Однако они вынуждены трансформировать понятие, заключенное в слове себастийцы. Французский переводчик идет по пути парафразы по модели классического определения через ближайший род и видовое отличие. Он производит генерализацию понятия себастийцы до ближайшего рода — солдаты, а затем добавляет видовой признак — себастийской когорты. При этом он сокращает словосочетание la cohorte sébastienne до формы la sébastienne, образуя существитель-
ное от прилагательного (внутриязыковая транспозиция), т.е. осуществляя семантическое перераспределение: семы, размещенные в двух понятиях — родовом la cohorte и дифференцирующим sébastienne, которые выражены двумя словами, оказываются совмещенными в одном видовом понятии, обозначенными одним сло-
вом — la sébastienne.
Английский переводчик идет дальше по пути обобщения понятия и останавливает свой выбор на местоимении they — они. Это позволяет ему избежать трудных логико-семантических операций, которые потребовались бы для передачи понятия себас-
тийцы.
Английский вариант перевода ясно показывает, до какого необъятно высокого уровня может доходить обобщение понятия при повторной номинации. Местоимения, замещая наименования объектов самых различных предметных областей, оказываются именами понятий универсального класса с максимально высокой степенью обобщения. Эти понятия можно квалифицировать как понятия с неопределенным объемом и переменным содержанием. Местоимения замещают имена более конкретных понятий об объектах, которые уже упоминались в тексте. Для переводчика такой областью оказывается текст оригинала. Объем понятия, заключенного в местоимении they, как и многих других местоимений, практически не ограничен, но его содержание всегда соотносимо с той предметной областью, которая описывается в конкретном речевом произведении.
Местоимение they, употребленное английским переводчиком, относится к разряду так называемых анафорических местоимений, в значении которых содержится отсылка к предшествующему тексту, указание на тот объект, который ранее был соотнесен с понятием, имеющим более точное содержание. Имя, обозначающее это понятие, и замещающее его в пределах одного текста, и местоимение находятся в отношении кореферентности, так как называют разными способами один и тот же объект.
438
Но нас в большей степени интересует не сама по себе повторная номинация, а асимметрия, возникающая в переводе в тех случаях, когда структурный рисунок повторной номинации претерпевает изменения.
Асимметрия повторной номинации в переводе может развиваться в двух направлениях — как в сторону обобщения понятий (пример с местоимением they), так и в сторону их уточнения.
Как и в процессе генерализации, при конкретизации понятий переводчик может оперировать понятиями, относящимися к универсальному классу. Только в этом случае в ходе логической операции универсальный класс уточняется до некоторого подмножества. В качестве универсального класса могут выступать и понятия, заключенные в анафорических местоимениях третьего лица, которые дифференцируются через понятия, непосредственно фигурирующие в речевом произведении.
Приведем пример из перевода на русский язык фрагмента повести Г. де Мопассана «Пышка»:
Mais Loiseau dévorait des yeux la terrine de poulet. Il dit: «À la bonne heure, madame a eu plus de précaution que nous. Il y a des personnes qui savent toujours penser à tout». Elle leva la tête vers lui. «Si vous en désirer, monsieur? C'est dur de jeûner depuis le matin». Il salua: «Ma foi, franchement, je ne refuse pas, j'en peux plus. A la guerre comme à la guerre, n'est-ce pas, madame?» (выделено мною. — Н.Г.).
Но Луазо пожирал глазами миску с цыплятами. Он проговорил:
— Вот это умно! Мадам предусмотрительнее нас. Есть люди, которые всегда об всем позаботятся.
Пышка взглянула на него.
—Не угодно ли, сударь? Ведь нелегко поститься с самого утра. Луазо поклонился.
—Да... по совести говоря, не откажусь. На войне как на войне, не так ли, мадам? (выделено мною. — Н.Г.).
Всцене действуют два персонажа: Луазо и Пышка. Во французском оригинале Луазо один раз назван по имени, а затем обозначается местоимением. Пышка — главная героиня сцены — называется только местоимением. Переводчик варьирует обозначение действующих лиц, конкретизируя их, т.е. «возвращая» им их признаки. Во фразе «Elle leva la tête vers lui» персонаж обозначен местоимением. Переводчик конкретизирует понятие с размытым объемом до единичного: «Пышка взглянула на него». То же самое происходит и со вторым персонажем: имя Луазо, замененное в оригинальном тексте два раза местоимением, в русском переводе
впоследнем случае вновь восстанавливается.
439
