
Книги_по_истории_от_Прокопьева / Kollingvudr_Ideya_Istorii_1980
.pdf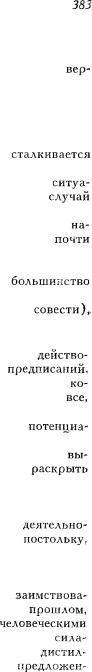

384 |
Автобиография |
X . И С Т О Р И Я К А К С А М О П О З Н А Н И Е Д У Х А |
|
Эти шансы |
стали казаться мне реальными, по мере того как |
моя концепция |
истории сделала еще один шаг вперед. Этот шаг |
был сделан или, скорее, зарегистрирован в 1928 г. во время моих каникул в Ле Мартуре, в небольшом деревенском домике близ Дье. Я сидел там под платанами на террасе и записывал, по воз
можности максимально кратко, уроки, вынесенные мною |
из девя |
|
ти последних лет исторических исследований и из моих |
раздумий |
|
над ними. Трудно себе представить, |
что к такой очевидной мысли |
|
я шел так медленно, но рукописи |
свидетельствуют об этом со |
|
вершенно недвусмысленно. И я знаю, что всегда думал |
медленно |
|
и с трудом. Мысль у меня на стадиях созревания не поддавалась никаким усилиям ее ускорить, не прояснялась в спорах, этих са мых опасных врагах незрелых мыслей. Она росла в глубине,
проходила |
долгий |
и |
тяжелый период переваривания и только пос |
ле своего |
рождения |
могла быть вылизана ее родителем и доведе |
|
на до приемлемой |
для чужого глаза формы. |
||
Вмоих рукописях того времени впервые проведено различие
между историей в собственном смысле слова и псевдоисторией. Под последней я понимал повествования геологии, палеонтологии, астрономии и других естественных наук, которые в конце восем надцатого и в девятнадцатом веке приобрели по крайней мере некоторое подобие историчности. Размышляя над своим археоло
гическим опытом, я нашел, что в этих науках |
речь действительно |
||
идет всего |
лишь о подобии. Археологи часто |
обращали |
внимание |
на сходство |
их стратиграфических методов с |
методами |
геологии. |
Сходство, безусловно, налицо, но было и различие. |
|
||
Если археолог находит слой земли, камней |
и цемента, в кото |
||
рый вкраплены керамические изделия и монеты, после |
чего |
идет |
|
некультурный слой, |
а за ним снова слой с керамикой и |
монетами, |
|
то вполне понятно, |
что оба набора керамических изделий и |
монет |
|
он использует точно так же, как геолог использует свои окамене лости: он показывает, что два слоя принадлежат к различным периодам, и датирует их, сопоставляя со слоями, выявленными в
других |
местах |
и |
содержащими реликты того же самого типа. |
|||
Эта |
аналогия |
напрашивается сама |
собой, |
но она |
неверна. Д л я |
|
археолога все |
эти |
вещи — не камни, |
глина и |
металл, |
а строитель |
|
ный материал, керамика и монеты, это остатки здания, домашней
утвари, средства |
обмена. Все они принадлежат ушедшему време |
ни, которое они |
раскрывают перед ним. Он сможет использовать |
их как исторические свидетельства только тогда, когда поймет на
значение |
каждой вещи. В противном случае для него, как для |
||
|
данные объекты бесполезны. Он мог бы |
и выбросить |
|
их, если |
бы не надеялся, что |
другой археолог, более ученый и |
|
более изобретательный, сумеет |
когда-нибудь решить |
эту загадку. |
|
История как самопознание духа |
385 |
Он ищет цель и смысл не только в мелочах, вроде булавок или пуговиц, но и во всем здании, во всем поселении.
До девятнадцатого века естествоиспытатель мог бы ответить на это, что и он мыслит точно таким же образом. Разве не было решение любой задачи в естественных науках каким-то вкладом в расшифровку целей того всемогущего существа, которое одни называли природой, другие — богом? Ученый девятнадцатого столетия, однако, совершенно твердо бы заявил, что здесь нет никакого сходства, и с точки зрения факта он был бы прав. Со временное естествознание и естествознание большей части прош лого столетия не включали идею цели в свои рабочие категории. Может быть, он прав и с теологической точки зрения. Мысль о том, что наше исследование природы должно исходить из предпо ложения, что цели бога понятны нам, не вызывает у меня благо говения. И если палеонтолог мне скажет, что его никогда не беспокоил вопрос, для чего предназначены трилобиты, я был бы очень рад как за его бессмертную душу, так и за прогресс науки. Если бы археология и палеонтология руководствовались теми же самыми принципами, то трилобиты были бы столь же не нужны палеонтологу, как не нужен археологу «металлический предмет неизвестного назначения», который сейчас вызывает у него такие большие затруднения.
История и псевдоистория состоят из повествований. Но в исто рии они говорят нам о целенаправленной деятельности и свиде тельствами служат остатки прошлого (неважно, книги или кера  принцип здесь один и тот же), которые становятся сви
принцип здесь один и тот же), которые становятся сви
детельствами |
лишь постольку, |
поскольку |
историк |
может |
|
воспринять их |
как выражение какой-то цели, понять, |
для чего |
|||
они были предназначены. В псевдоистории категории |
цели нет |
||||
места; имеются |
только остатки прошлого, и различие между ними |
||||
обусловлено тем, что они принадлежат разным периодам. |
|
|
|||
Эту новую концепцию истории я выразил фразой: «Всякая история — история мысли». Исторически вы мыслите тогда, так понимал я эту максиму, когда говорите о чем-нибудь: «Мне ясно, что думал человек, сделавший это (написавший, использовавший, сконструировавший и т. д.)». До тех пор пока вы не можете так сказать, вы, возможно, и пытаетесь мыслить исторически, но без успешно. И нет ничего, кроме мысли, что могло бы стать предме том исторического знания. Политическая история — история по литической мысли, не «политической теории», а именно мысли, владевшей умами людей, занятых политической деятельностью — разработкой определенной политики, планированием путей ее осуществления, попытками провести ее в жизнь, преодолением враждебного отношения к ней других и т. д. Посмотрите, как историк повествует о какой-нибудь знаменитой речи. Его не ин тересуют какие-то чувственные элементы: тембр голоса оратора, твердость скамей, на которых сидит аудитория, глухота 
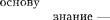


Автобиография
Так я пришел к третьему положению своей философии исто рии: «Историческое знание — это воспроизведение прошлой мыс ли, окруженной оболочкой и данной в контексте мыслей настоя щего.  противореча ей, удерживают ее в плоскости, отличной от их собственной».
противореча ей, удерживают ее в плоскости, отличной от их собственной».
Как же узнать, какая из этих плоскостей представляет собой «реальную» жизнь, а  «история»? Наблюдая за тем, как рождаются исторические проблемы. Каждая историче ская проблема в конечном счете возникает из «реальной» жизни. Историки ножниц и клея думают иначе: они полагают, что самые первые люди обрели привычку читать книги, а книги вызвали у
«история»? Наблюдая за тем, как рождаются исторические проблемы. Каждая историче ская проблема в конечном счете возникает из «реальной» жизни. Историки ножниц и клея думают иначе: они полагают, что самые первые люди обрели привычку читать книги, а книги вызвали у
них вопросы. Но я не |
говорю здесь |
об истории ножниц и клея. |
В том типе истории, о |
котором я |
думаю, в истории, которой я |
занимался всю жизнь, исторические проблемы связаны с практи ческими проблемами. Мы изучаем историю для того, чтобы нам стала ясней та ситуация, в которой нам предстоит действовать. Следовательно, плоскость, где в конечном счете возникают все проблемы, оказывается плоскостью «реальной» жизни, а история — это та плоскость, на которую они проецируются для своего ре шения.
Если историк познает мысли прошлого и познает их, продумы вая их вновь в себе, то отсюда следует, что знание, обретаемое им в ходе исторического исследования, не является знанием о его положении, противопоставленным познанию самого себя. Это — знание своего положения, являющееся в то же время и познанием самого себя. Продумывая вновь чью-нибудь мысль, он мыслит ее
сам. Зная, что кто-то другой мыслил |
таким образом, он узнает и |
о своей способности мыслить таким |
образом. А убеждаясь, что |
он в состоянии это делать, он устанавливает и то, каким челове ком он сам является. Если он в состоянии понять мысли людей самых различных типов, воспроизводя их в себе, значит в нем самом должны присутствовать самые различные типы человека. Он должен быть микрокосмом всей истории, которую он в состоя нии познать. Таким образом, познание им самого себя оказывает ся в то же самое время и познанием мира людских дел.
Это развитие |
мыслей |
завершилось у меня только |
к 1930 г. |
Но в конце его |
я дал и |
ответ на вопрос, постоянно |
мучивший |
меня с начала войны. Каким образом мы сможем создать науку,
так сказать, о делах |
человеческих, науку, которая научила бы |
людей справляться с |
человеческими ситуациями столь же искус |
но, как естественные науки научили их справляться с ситуациями,
возникающими в мире природы? Ответ был для меня |
теперь |
||||
ясен и недвусмыслен. Наука о людских делах — история. |
|
||||
|
Это было открытием, которое не могло быть сделано до конца |
||||
девятнадцатого |
столетия, ибо |
только с того времени история ста |
|||
ла |
переживать |
бэконианскую |
революцию, отделяться |
от |
колыбе |
ли |
ее компилятивной стадии |
и превращаться в науку |
в |
подлин- |
|
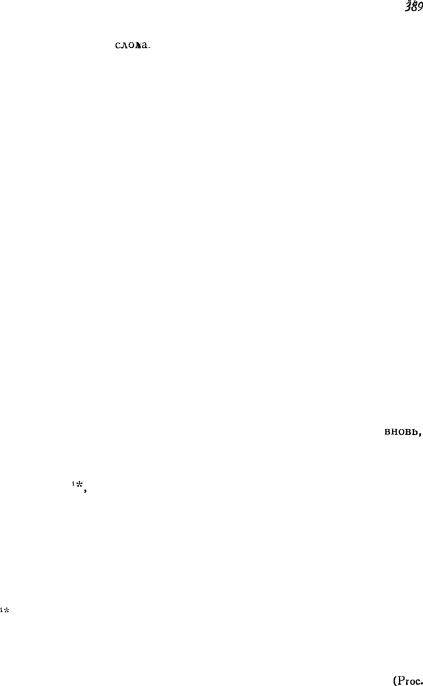

Римская Британия |
391 |
участвовать в дискуссиях по поводу написанного мною. Некото рые читатели, возможно, пожелали бы убедить меня, что все это бессмыслица. Я хорошо знаю, как они стали бы это делать; я мог бы даже предсказать их критику. Некоторые же, возможно, захо тели бы доказать, что я неправ в отношении той или иной дета ли. Может быть, это и так. Если они в состоянии доказать это, пусть пишут не обо мне, а о самом предмете, показывая тем самым, что они могут писать о нем лучше, чем я. Я охотно прочту их труды. И если есть люди, думающие, что мои работы хороши, пусть их одобрение выразится в повышенном внимании к их соб ственным трудам. Так, может быть, я смогу избегнуть унижения престарелого ученого (избегнуть не только из-за своей смерти), когда его более юные коллеги сговариваются напечатать том эссе и дарят его ему в знак того, что они считают его сейчас безнадежно выжившим из ума.
XI. РИМСКАЯ Б Р И Т А Н И Я
Для успешного развития моей философии было необходимо, чтобы я постоянно занимался не только ею, но и историей. Исторические исследования мне нужно было предпринимать в той области, где я смог бы быть новатором и рассчитывать на поддержку других, т. е. в области, где я считался бы признан ным авторитетом. Эта область соответственно должна была быть небольшой и перспективной. Для этих целей наиболее подходя щим предметом была римская Британия. И, кроме того, здесь у меня уже были определенные обязательства. Хаверфилд, великий знаток этого предмета, умер в 1919 г.; большинство его учеников погибли на войне. Я остался единственным человеком, проживав шим в Оксфорде, которого он готовил в качестве специалиста по римской Британии. Даже если бы моя философия и не требовала этого, то из одного уважения к нему я должен был бы продол жить традиции школы романо-британских исследований в Окс форде, школы, основанной им. Я считал себя обязанным передать своим ученикам те знания и умения, которые дал мне он, и ис пользовать специальную библиотеку, оставленную им универси тету.  это заставило меня отказаться от предлагаемых мне профессорских мест и других постов в годы, последовавшие за окончанием войны.
это заставило меня отказаться от предлагаемых мне профессорских мест и других постов в годы, последовавшие за окончанием войны.
Моя первая книга, посвященная упомянутому предмету, была написана в 1921 г. по заказу издательства «Кларендон пресс». Это была маленькая книга, и написал я ее за два дня. Она должна была служить элементарным введением в предмет и изо биловала ошибками. Однако она позволила мне сформулировать раз и навсегда мое общее отношение к проблемам римской Брита нии и, что даже еще более важно, мою общую концепцию их ре-

392 |
Автобиография |
шения |
(своим происхождением отчасти обязанную Хаверфилду, |
а отчасти самостоятельную). Она дала мне впервые возможность показать, и показать определеннее, чем можно было сделать в короткой статье, как развивалась моя концепция метода историче ского исследования. А ее быстрая распродажа убедила меня в том, что читающая публика вполне готова к тому, чтобы одобрить мои идеи об истории. Десять лет спустя я переработал книгу и
издал в расширенном виде, а |
затем заново пересмотрел ее |
в |
1934 г. В том же самом году |
я написал раздел о Британии |
в |
книге профессора Т. Франка «Экономический обзор Древнего Рима», а в 1935  разделы оксфордской «Истории Англии», посвященные доисторической и римской Британии. В книге при нял участие еще Дж. Майрес, написавший раздел о поселениях англов. Мои и его разделы и составляют первый том этой «Исто рии Англии».
разделы оксфордской «Истории Англии», посвященные доисторической и римской Британии. В книге при нял участие еще Дж. Майрес, написавший раздел о поселениях англов. Мои и его разделы и составляют первый том этой «Исто рии Англии».
Предложение написать обе названные выше работы пришло в самый подходящий момент. Я провел уже достаточно времени в лаборатории и хотел сменить ее на свой кабинет. Подошло время
для приведения в систему и опубликования всех тех идей, |
кото |
рые мои археологические и исторические исследования дали |
мне |
в области философии истории. Но я не мог оставить римскую Британию, не попрощавшись с нею. И полновесная книга о ней была бы не только таким прощанием, она помогла бы мне пред ставить в конкретной форме принципы исторического мышления так, как я понимал их теперь.
Большинство этих принципов более или менее осознанно были приняты всеми историками, но не все. Или, вероятно, будет пра вильнее сказать, что историки сознательно приняли лишь малое их число, да и из принятых не все обычно рассматривались как принципы, которых историк должен придерживаться твердо и всегда.
Например, долгая практика моих раскопок выявила одно, мо жет быть, самое важное условие их успеха: люди, занимающиеся ими, независимо от степени их участия должны знать, почему они здесь копают. Прежде всего им нужно решить, что они хотят
найти, а затем |
уже определить, какие именно раскопки приведут |
к желаемому |
Это было главным принципом моей «ло |
гики вопроса и ответа» применительно к археологии. Вначале |
|
раскопки производили |
вслепую, т. е. без определенного вопроса, |
на который призваны |
были дать ответ. Землевладелец, обладав |
ший определенными культурными интересами, раскапывал какое- |
|
нибудь древнее место |
потому, что оно находилось на его террито |
рии. И он копал, не ставя перед собой никакой проблемы, руко водствуясь лишь неопределенной формулой: «А ну-ка посмотрим, какие интересные предметы для моей коллекции мы здесь оты щем». Точно так же поступали охотники за раритетами в восем надцатом веке и охотники за знаниями в девятнадцатом. Их фор-
