
Книги_по_истории_от_Прокопьева / Kollingvudr_Ideya_Istorii_1980
.pdf
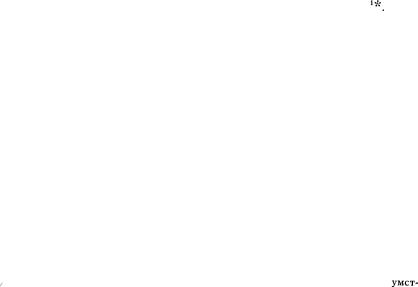
354 Автобиография
противостоящего «реалистам», автоматически включали в разряд «идеалистов», т. е. представляли как анахроническое ископаемое школы Грина. Не существовало такой классификационной рубри ки, куда вы могли бы отнести философа, который, пройдя тща тельную подготовку в школе «реализма», восстал против нее и
пришел к |
собственным выводам, совершенно непохожим, |
однако, |
и на то, |
чему учила школа Грина. Но именно к этой |
школе и |
стали, как я обнаружил, причислять меня вопреки моим протестам, которые я время от времени считал нужным делать. Затем я привык к этому. В противном случае я был бы слишком обижен, чтобы твердо придерживаться правила, которое должен вырабо тать каждый, кто делает свою собственную работу,— не отвечать критикам. Я мог бы забыть его, например, когда один из «реа листов» (не из Оксфорда), рецензируя мою первую книгу, в кото рой я попытался определить мою философскую позицию, несколь кими строчками отбросил ее с презрением, «как обычную идеали стическую бессмыслицу».
Этой |
книгой была «Speculum |
Mentis», опубликованная в |
|
1921 г. |
Во многих отношениях это |
была плохая книга |
Мои |
взгляды, изложенные в ней были не до конца продуманы и не умело выражены. Обилие самых различных примеров не помогло, а помешало большинству читателей понять мои идеи. Я бы согла сился полностью с рецензентом, который заявил, что он не смог найти здесь никаких концов и характеризовал всю книгу как бес смыслицу. Однако всякий достаточно умный человек, понимавший, что я хочу в ней сказать, понял бы (не будь он полнейшим невеж дой) и то, что эта книга не «обычна» и не «идеалистична».
Но вернемся к дискуссиям. Привычка следить и принимать участие в спорах, где обсуждаемые проблемы и метод их реше ния принадлежали не мне, а другим, оказалась чрезвычайно по лезной для меня. Следить за работой современных философов, философов, придерживавшихся взглядов, весьма отличных от моих, писать эссе, развивающие их взгляды и ставящие вопросы, ко-
 После того, как я это написал, я прочел «Speculum Mentis» впервые с момен та ее опубликования и нашел, что она значительно лучше, чем мне пред-
После того, как я это написал, я прочел «Speculum Mentis» впервые с момен та ее опубликования и нашел, что она значительно лучше, чем мне пред-
ставлялось. Это отчет, и не очень уж плохо написанный, о большой венной работе подлинного мышления. Если многое в книге сейчас не удовлет воряет меня, то лишь потому, что с того времени, как я ее написал, я продол жал думать и, следовательно, многое в ней должно быть дополнено и уточнено. Но в ней не так уж и много такого, от чего следовало бы отказать ся. Теперь насчет ответов критикам. Я никогда не отвечал и не буду отвечать
< ни на какую публичную критику моих работ. Я слишком сильно ценю свое время. Время от времени я полагал, что будет невежливо не ответить кратким комментарием на критику, присланную мне в частном письме, или же на пуб личную критику, если автор прислал мне оттиск своей работы. Комментарии такого типа, конечно, не ответы, и ни при каких обстоятельствах я бы не разрешил их публикацию.




358 Автобиография
торая в ходе этого процесса превратилась в нечто иное, и другой вещью, в которую первая превратилась. Всякий, кто игнорирует указанный процесс, отрицает различие между явлениями и дока зывает, что раз платоновская теория противоречит гоббсовской,
значит, одна из них неверна, говорит вещи, |
не |
соответствующие |
|
действительности. |
|
|
|
Следуя этой логике, я скоро понял, что |
история |
политиче |
|
ских теорий — не история различных ответов |
на |
один |
и тот же |
вопрос, а история проблемы, более или менее постоянно меняю щейся, и решение ее меняется вместе с изменением самой про блемы. Форма полиса не является, как, по-видимому, думал Пла тон, единственно возможным для разумного человека идеалом че ловеческого общества. Она не есть нечто, извечно исходящее с небес и являющееся целью хороших правителей во все времена и во всех странах. Она казалась идеалом человеческого общества лишь грекам платоновской эпохи. Ко времени Гоббса изменились взгляды людей не только на то, какие формы социальной орга низации возможны, но и на то, какие из них желательны. У них были иные идеалы. И, следовательно, представители политической
философии, |
чье дело — дать |
обоснованное выражение |
этих |
иде |
|||
алов, |
имели |
перед собою |
другую |
задачу, |
задачу, требовавшую |
||
для правильного решения других подходов. |
|
|
|
||||
Найдя этот ключ, мне легко было применить его и в других |
|||||||
областях. Нетрудно было понять, что точно так же, |
как |
грече |
|||||
ское |
слово |
не могло |
быть |
адекватно |
переведено |
современ |
|
ным словом «государство» |
(если не сделано предостережение, что |
||
оба |
предмета |
существенно |
отличаются друг от друга, и не сказа |
но, |
в чем состоят различия), так и в этике такое греческое сло |
||
во, |
как |
нельзя адекватно перевести словом «должен», если |
|
оно не включает в себя понятие так называемого «морального обязательства». Существует ли какое-нибудь греческое слово или выражение, чтобы передать подобное понятие? «Реалисты» гово рили, что существует. При этом они ставили себя в смешное по ложение, забывая, что «теории морального обязательства», раз рабатывавшиеся греческими авторами, отличаются от подобных теорий в философии нового времени у таких авторов, как Кант. Но как они узнали, что греческие и кантовские теории касались
одного |
и того |
же предмета? |
Очень |
потому что |
слово |
δει |
(или |
любое другое |
того же |
значения) является |
грече |
ским эквивалентом слова «должен».
Все это напоминает кошмарную историю с человеком, которс му пришло в голову, что слово  — греческий эквивалент слова «пароход». А когда ему указали, что описанные греческими авторами триеры не очень похожи на пароходы, он торжествующе воскликнул: «А я что говорил! Эти греческие философы (или же ,,эти современные философы", в зависимости от того, чью сторону он принял в добром старом споре между древним и новым време-
— греческий эквивалент слова «пароход». А когда ему указали, что описанные греческими авторами триеры не очень похожи на пароходы, он торжествующе воскликнул: «А я что говорил! Эти греческие философы (или же ,,эти современные философы", в зависимости от того, чью сторону он принял в добром старом споре между древним и новым време-


560 |
|
|
Автобиография |
Д л я меня |
стало |
очевидно, что метафизика (как показывает |
|
само |
значение |
этого |
слова, хотя люди все еще употребляют его |
как |
эквивалент |
бесплодная попытка познать |
|
то, что лежит за пределами опыта, но всегда является попыткой выяснить, во-первых, что люди данной эпохи думают об общей природе мира, причем эти представления оказываются предпосыл ками всех их «физик», т. е. конкретных исследований деталей; во-вторых, какими были представления других народов в другие времена и как одна совокупность предпосылок превращалась в другую.
Какие предпосылки лежали в основе физики или естествозна ния того или иного народа в определенный период, это столь же исторический вопрос, как и вопрос о том, какое платье тогда но сили. На него и должны ответить метафизики. И в их обязанно сти не входит постановка следующего вопроса: были ли эти пред посылки вместе с другими верованиями, которых придерживались или придерживаются различные народы, истинными или нет. По следний вопрос всегда оказывался и оказывается вопросом, не имеющим ответа. Данному обстоятельству не приходится удив ляться, если моя «логика вопроса и ответа» чего-нибудь стоит: представления, историю которых должен изучать метафизик, яв ляются не ответами на вопросы, а только их предпосылками. Вот почему разграничение между истинным и ложным к ним неприме нимо. Здесь речь может идти только о разграничении того, что предполагается, и того, что не предполагается. Предпосылкой од ного вопроса может быть ответ на другой вопрос. Верования, которые метафизик стремится исследовать и систематизировать,
суть |
предпосылки |
вопросов, задаваемых естествоиспытателем, но |
не |
ответы на какой бы то ни было вопрос. Мы можем назвать |
|
их |
«абсолютными» |
предпосылками. |
|
Но утверждения, которые любой компетентный метафизик пы |
|
тается выдвинуть |
или опровергнуть, обосновать или пошатнуть, |
|
сами по себе, безусловно, либо истинны, либо ложны, ибо они — ответы на вопросы об истории этих предпосылок. Это и было моим
ответом на довольно избитый вопрос: |
«Как метафизика |
может |
|
стать наукой?» Если под наукой иметь |
в |
виду естественную на |
|
уку, то ответ заключается в том, что |
ей лучше и не пытаться |
||
этого делать. Если же науку понимать как |
организованную |
систе |
|
му знаний, то ответ будет таков: она это сможет сделать, только будучи тем, чем она всегда была, т. е. откровенно претендуя на подобающий ей статус исторического исследования. В этом иссле довании, с одной стороны, верования множества живущих в данное время людей, связанные с пониманием природы мира, представ ляются в виде единого комплекса, образующего некий факт совре менности. Точно так же, как британская конституция в ее ны
нешнем состоянии. С другой |
стороны, здесь исследуются истоки |
этих верований, причем мы |
обнаруживаем, что они возникали в |


