
Книги_по_истории_от_Прокопьева / Kollingvudr_Ideya_Istorii_1980
.pdf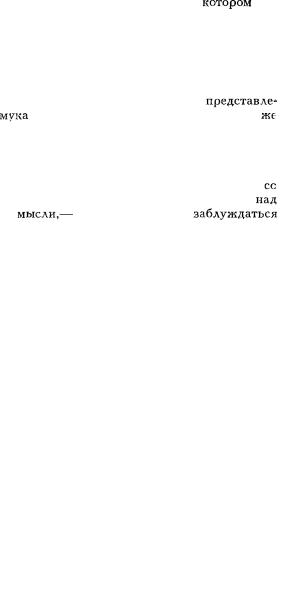

302 |
Идея истории. Часть V |
проблемой, о которой я говорю. Еда и сон — деятельность жи вотного характера, осуществляемая для удовлетворения естест венных потребностей человека. История не занимается такими потребностями, их удовлетворением или неудовлетворением. Историку безразлично, что в доме бедного человека нет пищи, хотя данное обстоятельство может и должно иметь значение для него как для человека, испытывающего определенные чувства по отношению к своим собратьям. Однако, как историк, он может особенно интересоваться махинациями тех людей, которые созда ли такую ситуацию, чтобы обогатиться самим и сделать человека, получающего от них заработную плату, бедным. Историк в равной мере может интересоваться теми действиями, на которые бедного человека толкнул не самый факт голодания его детей, не физио логический факт пустых желудков и рахитичных членов, а его мысль об этом факте.
Мое утверждение также не означает, что человек волен делать все по своему желанию, что в области истории в собственном смысле этого слова, отличающейся от сферы животных потребно стей, человек свободен планировать действия по собственному усмотрению и осуществлять эти планы; что каждый поступает в полном соответствии со своими намерениями и полностью отвеча ет за все их последствия, будучи хозяином самому себе, и тому подобное. Ничто не может быть дальше от истины. В стишке Хенли отражена лишь фантазия больного ребенка, который обна ружил, что может перестать плакать и требовать, чтобы ему дали Луну, вообразив, что он получил ее. Здоровый человек, предпо лагающий заполнить своею деятельностью пустое пространство перед собой и начинающий разрабатывать планы такой деятель ности, знает, что пространство это вовсе не будет пустым к тому моменту, когда он вступит в него. Оно будет заполнено другими людьми, каждый из которых действует, преследуя собственные цели. И даже теперь оно не так пусто, как кажется. Оно напол нено насыщенным раствором деятельности, раствором, достигшим степени насыщения, при которой начинается кристаллизация. Для его собственной деятельности не будет свободного простран ства, если он не спланирует ее таким образом, чтобы она входи ла в щели, оставленные другими.
Рациональная деятельность, которую должен исследовать историк, никогда не свободна от принуждения: человек вынужден смотреть в лицо фактам в той ситуации, в которой он очутился. Чем рациональнее его деятельность, тем сильнее она подчиняется этому принуждению. Быть рациональным — значит мыслить, а для человека, планирующего совершить какой-нибудь поступок, самое важное продумать ситуацию, в которой он находится. По отношению к этой ситуации он отнюдь не свободен. Она являет ся тем, что она есть, и ни он, ни кто-нибудь другой никогда не смогут ее изменить. Ибо, хотя ситуация как таковая и состоит в

304 Идея истории. Часть V
научили так мыслить. Историк считает этот способ мышления дурным, но дурные способы мышления — такие же исторические факты, как и хорошие, и они не в меньшей степени определяют ситуацию, всегда мысленную, в которой находятся люди, кото рым свойствен этот способ мышления. Суровость факта —• в не способности человека думать о своей ситуации иным образом. Принудительность представлений о дьяволах, обитающих в го рах, представлений, возникающих у человека, преодолевающего эти горы, заключается в простом факте, что он не может не верить в дьяволов. Это, конечно, просто суеверие. Но оно — факт, и факт решающий в ситуации, рассматриваемой нами. Человек, страдаю щий от этого суеверия, когда он пытается пройти через горы, страдает не просто за грехи своих отцов, научивших его верить в дьяволов, если вообще эту веру можно назвать грехом; он стра дает потому, что принял эту веру, потому что он разделил с ними их грех.
Если современный историк верит, что в горах нет никаких дья волов, то это тоже только вера, унаследованная им точно таким же образом.
Открытие того, что люди, чьи действия он изучает, свободны в этом смысле слова, представляет собой открытие, которое каж дый историк делает, как только доходит до научного овладения своим предметом. Когда это происходит, историк осознает и свою свободу, т. е. он открывает автономный характер исторической мысли, ее силу решать собственные проблемы собственными мето дами. Он открывает, как не нужно и как невозможно в то же самое время для него, как для историка, передавать эти проблемы на суд естественных наук; он открывает, что, будучи историком, он и может, и должен решить их сам. Одновременно с этим откры тием своей свободы как историка он открывает и свободу чело века как исторического деятеля. Историческая мысль, мысль о
деятельности |
разума, свободна от господства естественных |
наук, |
а деятельность разума — от господства природы. |
|
|
Теснейшая связь между двумя открытиями позволяет нам |
||
сказать, что |
здесь речь идет о разном выражении одного и |
того |
же. Можно было бы сказать, что описание рациональной деятель ности исторического деятеля представляет собою парафраз и замаскированную форму утверждения автономности истории. Или же что описание истории в качестве автономной науки — только завуалированная форма ее определения как науки, изучающей свободную деятельность. Что касается меня, то я бы приветство вал любую формулировку, ибо они показывают, что человек, при бегающий к ним, достаточно глубоко проник в природу истории, чтобы понять: а) что историческая мысль свободна от подчине ния естественным наукам и представляет собой автономную нау ку, б) что рациональное действие свободно от подчинения приро де и создает свой собственный мир человеческих действий, res

306 Идея истории. Часть V
которых претендуют историки. Никто не мог бы и утверждать, что он знает прошлое настолько хорошо, что способен доказать, при
том |
способом, удовлетворяющим как его самого, |
так и |
других, |
что |
подобное притязание историков беспочвенно. |
Отсюда |
следу |
ет, что мы должны сначала прийти к научному, а потому к ав
тономному методу в исторической науке, и лишь тогда мы |
смо |
жем понять свободный характер человеческой деятельности. |
|
Может показаться, что это противоречит фактам, ибо, |
как |
нам, конечно, возразят, многие люди пришли к осознанию свободы человеческой деятельности задолго до того, как произошла рево
люция, |
поднявшая историю |
до уровня науки. На это возражение |
я бы |
дал два ответа. Они |
не являются взаимоисключающими, |
но один из них более поверхностный, а другой, я надеюсь, не сколько более глубокий.
I. Может быть, они и осознавали человеческую свободу, но понимали ли ее? Было ли их осознание знанием, заслуживающим название научного? Нет, конечно, ибо в противном случае они не только были бы убеждены в свободе человека, но и основа тельно познали бы ее. Но тогда не было бы причин для споров, так как их убеждение подкрепилось бы пониманием тех основ, на которых оно покоилось, и они были бы в состоянии сформули ровать их убедительным образом.
II. Даже если революция, благодаря которой история стала
наукой, |
и произошла всего лишь полстолетия назад, нас не |
должно |
обманывать само слово «революция». Задолго до того, |
как Бэкон и Декарт революционизировали естествознание, выявив и сделав общим достоянием принципы, на которых основывались его методы, там и сям появлялись люди, которые пользовались этими самыми методами, одни чаще, другие реже. Как справедли во указали Бэкон и Декарт, их задача состояла в том, чтобы сделать эти методы достоянием обычного интеллекта. То же самое относится и к утверждению о революции в методах исто рической науки, происшедшей в течение последнего полувека. Понятие революции в исторической науке не означает, что беспо лезно было бы искать примеры научной истории до этого времени. Оно означает, что если раньше научная история была редкостью, которую можно было отыскать только в трудах выдающихся лю дей, причем даже у них она появлялась лишь в периоды вдохно вения, а не в результате размеренной работы, то сейчас она стала всеобщим достоянием. Она — то, что мы вправе требовать от каж дого, занимающегося историей; представление о ней так широко распространилось даже среди неученых, что авторы детективных повествований зарабатывают себе на хлеб, создавая сюжеты с помощью ее методов. Спорадический и пульсирующий характер
понимания истины о человеческой свободе в |
семнадцатом столе |
тии мог быть следствием по меньшей мере |
спорадического и |
пульсирующего характера понимания метода научной истории.

Прогресс как продукт исторического мышления |
307 |
§ 7. ПРОГРЕСС КАК ПРОДУКТ ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Термин «прогресс» в том его значении, в каком он применял ся в девятнадцатом столетии, когда он был у всех на устах, ох ватывал две области, которые следует разграничивать: прогресс в истории и прогресс в природе. Для обозначения прогресса в природе так широко пользовались словом «эволюция», что его можно принять за общепринятое значение понятия прогресса в природе. Чтобы не путать две области прогресса, я буду употреб лять термин «эволюция» только для обозначения последнего в отличие от истории, где я буду оперировать выражением «истори ческий прогресс».
«Эволюция» — термин, прилагаемый к природным процессам постольку, поскольку они мыслятся как процессы, порождающие новые видовые формы в природе. Это представление о природе как об эволюции не должно смешиваться с представлением о при роде как о процессе. Если мы примем понятие природного про
цесса, то в нашем распоряжении |
окажутся два возможных подхо |
да к нему: 1) события в |
повторяют друг друга при со |
хранении неизменности вида, и видовые формы остаются постоянными во всем их индивидуальном разнообразии, так что природа в своем движении не производит новых форм, а «буду щее напоминает прошлое»; 2) сами видовые формы претерпевают изменения, причем новые формы возникают путем видоизменения старых. Под эволюцией понимают именно это.
Назвать естественный процесс эволюционным в известном смысле равносильно тому, чтобы назвать его прогрессивным. Ибо если любая видовая форма может возникнуть только как модифи кация другой, уже утвердившейся, то существование данной формы предполагает и существование другой, модификацией ко торой она является, и т. д. Если форма Ъ есть модификация фор мы а,  — Ь и d — с, то формы а, Ь, с, d могут возникнуть именно в таком порядке. Данный порядок является прогрессив ным в том смысле, что он представляет собой ряд членов, кото рые могли возникнуть только в этой последовательности. Это опре деление, безусловно, не связано ни с выводами о причинах возник новения модификаций, ни с выводами о том, являются ли они большими или малыми. В этом смысле слова «прогресс», «прог рессивное» означают лишь определенную упорядоченность, т. е. проявление порядка.
— Ь и d — с, то формы а, Ь, с, d могут возникнуть именно в таком порядке. Данный порядок является прогрессив ным в том смысле, что он представляет собой ряд членов, кото рые могли возникнуть только в этой последовательности. Это опре деление, безусловно, не связано ни с выводами о причинах возник новения модификаций, ни с выводами о том, являются ли они большими или малыми. В этом смысле слова «прогресс», «прог рессивное» означают лишь определенную упорядоченность, т. е. проявление порядка.
Но прогресс в природе, или эволюция, часто принимался за нечто большее, чем простой порядок; нередко имелась в виду доктрина, согласно которой каждая новая форма — не только мо дификация предыдущей, но и некоторое ее усовершенствование, Говоря об усовершенствовании, мы предполагаем определенный критерий оценки. Этот критерий достаточно ясен, когда речь



Идея истории. Часть V
заменить собственный опыт в этих целях. Но практика показыва ет, что нет ничего более тяжелого для молодого поколения в из меняющемся обществе, для поколения, создавшего свой, новый образ жизни, чем с сочувствием понять жизнь предшествующего поколения. Оно смотрит на эту жизнь как на совершенно бес смысленное зрелище. Кажется, что какая-то инстинктивная сила, побуждающая его освободиться от родительского влияния и вне сти в жизнь то изменение, на которое оно слепо решилось, за ставляет это поколение воздерживаться от всяких проявлений симпатии к образу жизни своих отцов. Здесь нет никакого под линного сравнения между двумя образами жизни, а значит, нет И оценки, исходя из которой один лучше другого. Здесь нет, следовательно, никакого представления об изменении как о прогрессе.
По этой причине исторические изменения в образе жизни об щества очень редко мыслятся как прогрессивные даже поколением, осуществляющим их. Оно совершает их, подчиняясь слепому стремлению разрушить то, что оно не понимает, разрушить как дурное и заменить чем-то еще •— хорошим.  прогресс — не замена плохого хорошим, это замена хорошего лучшим. Чтобы по
прогресс — не замена плохого хорошим, это замена хорошего лучшим. Чтобы по
нять изменение как прогресс, человек, |
осуществляющий |
его, дол |
жен думать о том, что он устраняет, |
как о хорошем, и |
хорошем |
в нескольких определенных отношениях. Но это он может сделать, только если знает, чем был старый образ жизни, т. с. при нали чии исторического знания прошлого своего общества, хотя он и живет в созидаемом им настоящем. Историческое знание — про сто воспроизведение опыта прошлого в сознании современного мыслителя. Только таким способом два образа жизни могут пре
бывать одновременно в одном |
и |
том |
же сознании для сравнения |
их относительных достоинств, |
так |
что |
человек, выбирающий один |
из них и отвергающий другой, может знать, что он при этом выиг рывает и что теряет, и прийти к выводу, что он выбрал лучшее.
Короче, революционер только тогда может считать |
свою револю |
цию прогрессом, когда он вместе с тем является |
и историком, |
т. е. человеком, который действительно воспроизводит в собствен  исторической мысли жизнь, которую он тем не менее от вергает.
исторической мысли жизнь, которую он тем не менее от вергает.
Теперь давайте рассмотрим упомянутое изменение не с точки зрения людей, которых оно непосредственно касается, а с точки зрения историка, извне. Можно было бы надеяться, что, занимая беспристрастную и свободную от предубеждений позицию, он
будет в состоянии оценить более или |
менее объективно, |
было ли |
||
данное изменение прогрессивным |
или |
нет. Но это — трудное |
дело. |
|
Он только обманет самого себя, |
если |
ухватится за тот |
факт, |
что |
теперь вылавливают десять рыб вместо прежних пяти, |
и |
исполь |
зует его в качестве критерия прогресса. Он обязан |
также при |
|
нять в расчет условия и последствия этого изменения. |
Он |
должен |
