
Книги_по_истории_от_Прокопьева / Kollingvudr_Ideya_Istorii_1980
.pdf

ft
Идея истории. Часть V
/истории, если мы зададим им верные вопросы. Так, в моем рас сказе дочь священника сказала констеблю, что она убила Джона Доу. Как и научный историк, он начинает с того, что внимательно прислушивается к ее утверждению — до того момента, пока не перестает рассматривать ее заявление как заявление вообще, т. е. как истинное или ложное описание совершенного убийства, и начинает рассматривать самый факт ее заявления как нечто такое, что может оказаться полезным следствию. Именно поэтому он знает, какие вопросы ему следует задать в связи с этим заяв лением, вопросы, начинающиеся со слов: «А почему она расска зала мне всю эту историю?» Историк ножниц и клея заинтересо ван, так сказать, в «содержании» высказываний, в том, что они сообщают. Научный историк — в самом факте, что они были сделаны.
Высказывание, которое слушает или читает историк,— гото вое, законченное высказывание для него. Но высказывание, ут верждающее, что высказывание определенного рода делается кемто, не является готовым, законченным высказыванием. Если исто рик говорит себе: «Я теперь читаю или слушаю высказывание
содержания»,— он сам делает |
некое утверждение. Но |
это не заимствованное утверждение, оно |
автономно. Он делает |
его, основываясь на собственном мнении. И именно это автоном ное утверждение представляет собой исходную точку мысли науч ного историка. Основанием для вывода констебля, что дочь свя щенника подозревает в убийстве Ричарда Роу, были не ее слова:
«Я убила Джона Доу»,— а его |
собственное высказывание о |
том, |
что дочь священника сказала |
ему, что она убила Джона |
Доу. |
Если научный историк приходит к своим выводам не на осно вании имеющихся у него законченных высказываний, а исходя из своей самостоятельной констатации факта, что такие выска зывания были сделаны, то он может приходить к заключениям даже в том случае, когда у него нет никаких подобных высказы ваний. Предпосылками его доказательства становятся его собст
венные |
автономные высказывания, и нет никакой |
необходимости |
в том, |
чтобы они были высказываниями о других |
высказываниях. |
Вернемся еще раз к нашему примеру с Джоном Доу. Пред посылки, на основании которых инспектор из Скотланд-Ярда сде лал вывод о невинности Ричарда Роу,  его автономными суждениями, не основывающимися ни на каком авторитете, кроме его собственного. Ни одна из этих предпосылок не была выска зыванием о высказывании, сделанном кем-то другим. Самым важ ным в доказательстве невиновности Ричарда Роу было то, что, хотя он и загрязнил свою обувь, идя от дома священника, ника ких следов грязи не было обнаружено в кабинете Доу, а обстоя тельства убийства были таковы, что исключали всякую возмож ность для Ричарда снять или почистить свою обувь. Каждый из
его автономными суждениями, не основывающимися ни на каком авторитете, кроме его собственного. Ни одна из этих предпосылок не была выска зыванием о высказывании, сделанном кем-то другим. Самым важ ным в доказательстве невиновности Ричарда Роу было то, что, хотя он и загрязнил свою обувь, идя от дома священника, ника ких следов грязи не было обнаружено в кабинете Доу, а обстоя тельства убийства были таковы, что исключали всякую возмож ность для Ричарда снять или почистить свою обувь. Каждый из  элементов доказательства в свою очередь был заключением
элементов доказательства в свою очередь был заключением


264 Идея истории. Часть V
истории, и людьми, которые, хотя и не опровергали полностью правомерность методов ножниц и клея, все же полагали, что история может обойтись и без них. По моим воспоминаниям, эта дискуссия все еще была жива в академических кругах нашей страны 30 лет назад, хотя и тогда от нее попахивало чем-то архаичным. Все суждения в этом споре, насколько я помню, были
чрезвычайно путаными, и философы той эпохи |
не обратили на |
эту дискуссию ни малейшего внимания, хотя она |
касалась вопро |
са, представляющего большой философский интерес. Здесь они упустили великолепную возможность проделать полезную работу. У меня осталось впечатление, что дискуссия завершилась самым жалким компромиссом. Сторонники истории ножниц и клея, при няв в принципе, что «неписьменные источники» могут дать цен ные сведения, продолжали настаивать на том, что их ценность весьма ограничена и может проявиться только тогда, когда их используют как вспомогательные средства, дополняющие «письмен ные источники». Да к тому же, по их мнению, они относились к таким низким предметам, как торговля или производство, кото рые не могут интересовать историка, если он хоть в какой-то степени джентльмен. Все это на практике означало, что историки, воспитанные в духе истории ножниц и клея, начали, очень робко на первых порах, осознавать возможность истории совершенно ново го типа. Но когда они попытались использовать открывшуюся возможность, стало ясно, что их крылья еще настолько некрепки, что они способны лишь на первые, самые робкие полеты.
X . В о п р о с и о с н о в а н и е
Если история означает историю ножниц и клея, когда историк в своих познаниях зависит от имеющихся у него готовых выска
зываний, а тексты, содержащие |
эти высказывания, называются |
его источниками, то легко дать |
определение источника. Источ |
ник — это текст, содержащий |
или высказывания о |
данном предмете. Такое определение имеет известную практиче скую ценность, потому что позволяет разделить всю существую щую литературу, коль скоро историк определил область своих интересов, на тексты, которые могут служить ему источниками и потому должны рассматриваться, и тексты, которые не могут ему служить в этом качестве, и потому их можно игнорировать. Все, что ему остается делать, так это, просматривая библиотечную пол ку или же собственную библиографию данного периода, задавать себе при виде каждого названия один и тот же вопрос: «Может ли данное издание содержать в себе что-то интересное по моему предмету?» Если он самостоятельно не находит ответа, в его рас поряжении оказывается целый ряд специальных вспомогательных средств. К ним прежде всего относятся предметные указатели, специализированные или тематические указатели литературы. Но




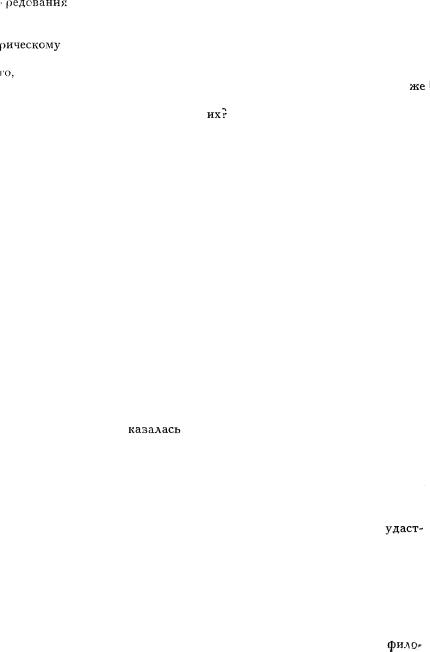
О |
Идея истории. Часть V |
 проблема, решение которой предлагается автором. Он дол жен обдумать эту проблему самостоятельно, выяснить, какие пути ее решения могли быть предложены в то время, и установить, почему данный конкретный философ выбрал именно такое реше ние, а не иное. Это и означает воспроизведение мыслей иссле дуемого автора в собственном сознании. И ничто иное не сможет сделать нашего ученого исследователем
проблема, решение которой предлагается автором. Он дол жен обдумать эту проблему самостоятельно, выяснить, какие пути ее решения могли быть предложены в то время, и установить, почему данный конкретный философ выбрал именно такое реше ние, а не иное. Это и означает воспроизведение мыслей иссле дуемого автора в собственном сознании. И ничто иное не сможет сделать нашего ученого исследователем  указанного автора.
указанного автора.
По-моему, нельзя отрицать, что эти примеры при всей их нео пределенности и недостаточности действительно обращают наше внимание на основную черту  мышления. В обоих случаях точность описания в общем плане внутренней работы, проделываемой историком, бесспорна. Но эти примеры все же нуж но развернуть и обстоятельно пояснить. И это, по-видимому, лучше всего сделать, отдав их на суд воображаемого критика.
мышления. В обоих случаях точность описания в общем плане внутренней работы, проделываемой историком, бесспорна. Но эти примеры все же нуж но развернуть и обстоятельно пояснить. И это, по-видимому, лучше всего сделать, отдав их на суд воображаемого критика.
Такой критик мог бы начать с утверждения, что вся эта тео рия неопределенна. Из нее вытекает либо слишком мало, либо слишком много. Воспроизвести некий опыт либо вновь продумать какую-нибудь мысль, мог бы продолжать наш предполагаемый
критик, означает |
одно из двух: либо воспроизводимые опыт и |
I мысли похожи на |
те, которые воспроизводятся, либо же они тож |
дественны в буквальном смысле этого слова с ними. Но ни один индивидуальный опыт не может быть полностью тождествен дру гому, поэтому, по-видимому, данная теория имеет дело только с отношением подобия. Но тогда доктрина, утверждающая, что мы знаем прошлое лишь постольку, поскольку воспроизводим его, ока зывается всего лишь одной из версий старой и дискредитиро ванной теории познания, основывающейся на принципе копиро вания познаваемого объекта. Эта теория тщетно пытается объяс нить, каким образом познаются объекты (в данном случае прош
лый |
опыт или акт мысли), заявляя, что познающий копирует |
их в |
своем сознании. С другой стороны, если мы предположим, |
что опыт может быть воспроизведен с абсолютной тождествен ностью, то мы получим только непосредственное тождество между
историком и |
человеком, которого |
он пытается понять, в той мере, |
в какой речь |
идет о конкретном |
воспроизводимом опыте. Объект |
(в данном случае прошлое) стал бы просто составной частью субъекта (в данном случае современности, собственной мысли ис торика), и вместо того, чтобы выяснить вопрос, как познается прошлое, мы должны были бы заявить, что познаваемо не прош лое, а только настоящее. При этом можно было бы спросить: а разве сам Кроче не признал этого своей доктриной о совре менности истории?
Здесь возникает два возражения, которые надо рассмотреть поочередно. Я полагаю, что человек, выдвигающий первое их них, исходит из следующего понимания опыта. В любом опыте, п>> край ней мере когнитивном, существуют акт и объект, а два различных
