
Журнал неврологии и психиатрии / 2010 / NEV_2010_12_060
.pdf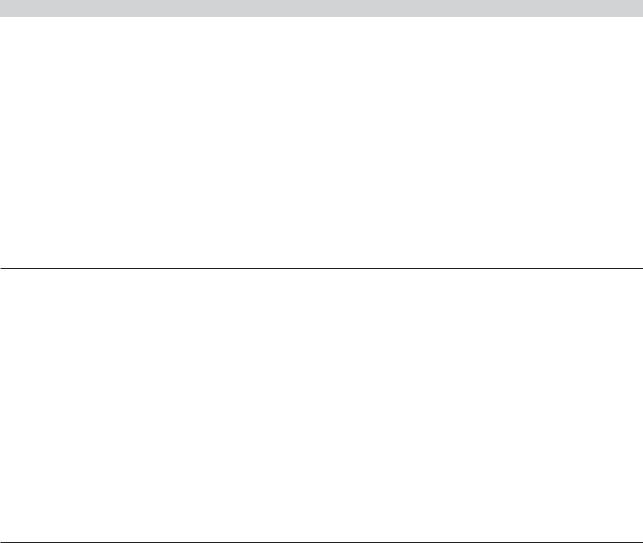
ЛЕЧЕНИЕ НЕРВНЫХ И ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Клинические особенности формирования и возможности терапии посттравматических когнитивных расстройств
И.В. ЛИТВИНЕНКО1, А.Ю. ЕМЕЛИН, С.В. ВОРОБЬЕВ, В.Ю. ЛОБЗИН
Clinical features of the formation and possibilities of treatment of posttraumatic cognitive disturbances
I.V. LITVINENKO, A.YU. EMELIN, S.V. VOROBYOV, V.YU. LOBZIN
1Кафедра нервных болезней и кафедра психиатрии Военно-медицинской академии, Санкт-Петербург
Исследовали терапевтическую эффективность акатинола мемантина при посттравматических когнитивных нарушениях по сравнению с действием пирацетама в процессе лечения в течение 24 нед 41 больного (20 акатинолом мемантином и 21 пирацетамом), 30 из которых перенесли тяжелую ЧМТ, 11 более легкую. Оценка влияния терапии проводилась по данным клинического обследования, нейропсихологического тестирования, КТ и МРТ в течение 6 мес. Установили, что акатинол мемантин оказывал выраженный положительный эффект, который распространялся на значительный спектр когнитивных нарушений, при этом влияние акатинола мемантина носило стойкий и постепенно нарастающий характер, действие пирацетама касалось только некоторых когнитивных функций и было кратковременным (в течение 1 мес). Терапию как пирацетамом, так и акатинолом мемантином больные хорошо перенесли.
Ключевые слова: ЧМТ, когнитивные расстройства, психоорганический синдром, терапия, акатинол (мемантин), пирацетам.
We studied the efficacy of akatinol memantine compared to that of piracetam in the treatment of 41 patients with posttraumatic cognitive disturbances (20 patients were treated with akatinol memannine and 21 patients with piracetam) during 24 weeks. Ten patients had a severe traumatic brain injury (TBI) and 11 patients had mild TBI. Treatment efficacy was assessed during 6 months using the data of clinical examination, neuropsychological testing, CT and MRI. Akatinol exerted a distinct positive, stable and continuously effect on a broad spectrum of cognitive disturbances while the effect of piracetam was observed only for some cognitive functions and was short-term (during 1 month). Both drugs were well-tolerated by patients.
Key words: cranial-brain trauma, cognitive disturbances, psychorganic syndrome, treatment, akatinol memantine, piracetam.
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одной из |
мя инвалидность вследствие нейротравматизма выходит на |
|
наиболее актуальных проблем клинической неврологии. |
1-е место среди всех заболеваний, а число последствий |
|
По данным Всемирной организации здравоохранения во |
травматических поражений головного мозга, которые яв- |
|
многих странах отмечается неуклонное увеличение числа |
ляются причиной частичной или полной нетрудоспособ- |
|
ЧМТ [2, 40]. Это связывают с повсеместным широким вне- |
ности, превышает половину всех случаев [16]. |
|
дрением технических средств в быту и на производстве, а |
Одним из важнейших проявлений посттравматиче- |
|
также значительным распространением автомобильного |
ской энцефалопатии, в значительной степени определяю- |
|
транспорта. В результате проведенного ретроспективного |
щим ее течение, является наличие у пациентов когнитив- |
|
эпидемиологического исследования было показано, что в |
ных нарушений, которые могут значительно осложнять |
|
странах Европы наблюдается до 150—300 случаев ЧМТ на |
картину травматической болезни [10]. Среди причин воз- |
|
100 000 населения ежегодно [56]. В США частота обраще- |
никновения когнитивных нарушений у лиц в возрасте |
|
ний по поводу ЧМТ в медицинские учреждения в течение |
младше 50 лет ЧМТ находятся на 3-м месте. В среднем у |
|
года по оценкам разных авторов колеблется от 175 до 400 |
3—7% лиц, перенесших тяжелую ЧМТ, развивается де- |
|
человек на 100 000 населения, из них около 85 человек го- |
менция [9]. Последствия перенесенной травмы мозга |
|
спитализируются [43, 45, 55]. Общее число больных, пере- |
имеют кроме медицинской высокозначимую социальную |
|
несших ЧМТ, весьма велико. Так, в 2003 г. эта цифра со- |
составляющую [29]. Связанные с ними экономические |
|
ставила 1,565 млн случаев [54]. В России количество ЧМТ |
потери обусловлены, с одной стороны, расходами на ле- |
|
составляет от 130 до 400 случаев на 100 000 населения в за- |
чение перенесших ЧМТ больных и последующую их реа- |
|
висимости от региона и года проведения исследования [26, |
билитацию, с другой стороны, с высокими трудопотерями |
|
30, 32]. В крупных городах эта цифра достигает 8,65 на 1000 |
и непрямыми затратами, направленными на социальную |
|
жителей [17, 19]. Ряд авторов считают, что в настоящее вре- |
адаптацию пострадавших [3, 4, 14]. |
|
|
|
|
© Коллектив авторов, 2010 |
e-mail: 1litvinenkoiv@rambler.ru |
|
Zh Nevrol Psikhiatr Im SS Korsakova 2010;110:12:60 |
|
|
60 |
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 12, 2010 |

ПОСЛЕДСТВИЯ ЧМТ
Развитие когнитивных нарушений, их течение и исходы определяются большим количеством как прямых, так и опосредованных факторов.
Кпрямым факторам относят тяжесть и характер перенесенной травмы, а также локализацию нейроанатомических изменений и степень их выраженности. Эти факторы приводят к повреждению мозговых структур, отвечающих за реализацию когнитивных функций. Вместе с тем нарушение высшей психической деятельности может происходить опосредованно вследствие развития ряда патологических процессов, возникающих в процессе развития изменений, вызванных ЧМТ. Подобные изменения рассматриваются в рамках вторичных звеньев патогенеза травмы и включают в себя отек и набухание головного мозга, дислокацию мозговых структур вследствие формирующейся гематомы, нарушение ликвородинамики, сосудистые расстройства и др. [12, 13, 22]. Особая роль отводится нарушению мозгового кровообращения. Было показано [20, 31], что во время травмы в результате воздействия целого комплекса факторов происходит нарушение ауторегуляции тонуса сосудов, приводящее в конечном итоге к ишемии вещества головного мозга. Кроме того, были выявлены значительные нарушения со стороны проницаемости капилляров центральной нервной системы, что является в значительной мере следствием дисфункции эпителия [31, 37]. Изменения могут затрагивать ультраструктурный уровень организации нейронов, биохимические и физиологические клеточные процессы, вплоть до развития дистрофических процессов в нервных клетках и сосудах головного мозга. Последние в значительной степени обусловлены развитием дисфункции синаптических образований [24, 44, 47]. Описанные изменения могут сохраняться значительный период времени после ЧМТ, а также развиваться спустя определенный срок после нее.
Копосредованным факторам, способствующим формированию когнитивной недостаточности и влияющим на степень их тяжести, относят наличие у пациента сопутствующей патологии внутренних органов и систем, в том числе цеpебpоваскуляpных расстройств, выраженность иммунологических и нейроэндокринных нарушений. Большое значение придается влиянию генетических факторов, преморбидным особенностям личности и эмоционального реагирования. Признается также влияние возраста и профессии, а также качества и полноты лечения в остром периоде ЧМТ [23].
При так называемых «легких» ЧМТ (сотрясения и ушибы головного мозга легкой степени) проявляется комплексное действие различных факторов. У больных с такими травмами во многих случаях первоначально наступает временная компенсация травматической болезни за счет действия церебральных механизмов регуляции и адаптации. Но в последующем в 70% случаев возможна декомпенсация, степень выраженности которой зависит как от тяжести самой травмы, так и от адекватности проведенных терапевтических и профилактических мероприятий [10]. Часто причиной такой декомпенсации является недооценка значимости тяжести ЧМТ. Представление о том, что при легкой травме сотрясение головного мозга является функционально обратимым состоянием, в настоящее время подвергается обоснованной критике. На основании исследований, проведенных за последнее время, было установлено, что и при легких ЧМТ возникают
значимые ультраструктурные изменения нейронов, которые рассматриваются как вариант диффузного аксонального повреждения [29]. При неадекватной организации лечения в остром периоде, отсутствии динамического врачебного наблюдения, неправильной реабилитации больных и ошибках в организации труда и быта пациентов возникшие в начале болезни неврологические синдромы могут оказаться не только стойкими, но возможно их прогрессирование в отдаленном периоде.
Не существует единой общепринятой классификации посттравматических когнитивных нарушений, как и единства терминов, которыми обозначаются такие нарушения. В отечественной неврологии и психиатрии наиболее часто используется термин «психоорганический синдром», который отличается прогрессирующим течением. Формирование данного синдрома отмечается не только после тяжелой, но и после легкой травмы. Он часто проявляется спустя годы после перенесенной ЧМТ. Так, было отмечено увеличение частоты развития данного синдрома у больных с давностью ЧМТ свыше 5 лет с 19,3% в начале болезни до 31,8% [19].
Психоорганический синдром рассматривается в рамках группы психопатологических синдромов, возникающих при разных органических поражениях головного мозга [28]. Клинически он характеризуется сочетанием интеллектуально-мнестических и аффективных нарушений. В классическом варианте комплекс входящих в этот синдром симптомов обозначают триадой Вальтера— Бюэля (Walter—Buel, 1951), состоящей из снижения памяти, интеллекта и недержания аффекта (эмоциональная лабильность).
В клинической практике наиболее часто выделяют следующие признаки психоорганического синдрома: 1) нарушения памяти, в первую очередь фиксационную и прогрессирующую амнезию; 2) нарушения внимания, особенно пассивного, снижение или невозможность охватить ситуацию целиком, ухудшение ориентировки в окружающем, при тяжелых состояниях — в собственной личности; 3) замедление темпа мышления, обеднение речи; 4) торпидность, безынициативность, аспонтанность; 5) нарушения праксиса: в первую очередь утрачиваются вновь приобретенные навыки, затем сложные, в конце — навыки самообслуживания; 6) утрату критики к окружающему и к себе; 7) астенические проявления; 8) аффективные нарушения; 9) заострение черт характера, затем его нивелировку [5].
Согласно МКБ-10, возникшие после ЧМТ когнитивные нарушения рассматриваются в рамках посткоммоционного (постконтузионного) синдрома (рубрика F07.2). Для этого синдрома характерно наличие полиморфной картины интеллектуального дефицита, который зачастую, сочетается с различными эмоционально-аффективными нарушениями. Пациенты предъявляют жалобы на упорную головную боль, ухудшение памяти и внимания, частые головокружения, шум в ушах, ухудшение функций органов слуха, обоняния и вкуса, быструю утомляемость, нарушение сна, раздражительность, депрессию, аффективную лабильность, апатию. Часто определяются признаки вегетативной дисфункции [33].
Для диагностики посткоммоционного синдрома необходимо наличие следующих критериев: 1. Отсутствие расстройств сознания и достаточных данных об альтернативной обусловленности личностных или поведенческих
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 12, 2010 |
61 |

ЛЕЧЕНИЕ НЕРВНЫХ И ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
расстройств. 2. Амнестические сведения о травме головы с потерей сознания перед развитием симптомов в период до 4 нед. 3. Минимум 3 признака из числа следующих: 1) жалобы на головную боль, головокружение, общее недомогание, утомляемость, непереносимость шума; 2) эмоциональные изменения: раздражительность, эмоциональная лабильность, некоторая степень депрессии и/или тревоги; 3) трудности в сосредоточении внимания и при выполнении умственных нагрузок, нарушения памяти; 4) бессонница; снижение толерантности к стрессу, нагрузкам, алкоголю; 5) озабоченность вышеперечисленными симптомами и страх хронического поражения мозга до степени ипохондрических сверхценных идей.
При определении выраженности когнитивных нарушений их подразделяют на легкие, умеренные и деменцию различной глубины.
Для легких когнитивных нарушений характерно наличие жалоб на снижение памяти, концентрации внимания, ухудшение эффективности выполнения профессиональных праксисов. Однако следует иметь в виду, что не все пациенты предъявляют подобные жалобы. Очень часто они могут быть выявлены только при выполнении нейропсихологических тестов, особенно направленных на способность концентрации внимания и скорость психомоторных реакций, а также при проведении тестов, предусматривающих выполнение задания в ограниченное время [18].
Умеренные когнитивные нарушения являются более глубокой степенью расстройств. При их наличии больные практически всегда предъявляют жалобы на нарушение внимания, трудности запоминания и воспроизведения информации, ухудшение эффективности исполнения других высших корковых функций. Изменения в когнитивной сфере становятся заметными и для окружающих. Родственники часто отмечают ухудшение способностей в бытовой и профессиональной деятельности больных. Общепринятыми критериями умеренных когнитивных нарушений являются критерии, предложенные R. Petersen и соавт. в 1999 г. и модифицированные в 2004 г. (их полное изложение дано в публикации S. Altero и соавт. [35]. Они включают: 1) жалобы на повышенную забывчивость или снижение умственной работоспособности, подтверждаемые помощником пациента (родственниками); 2) сведения от пациента или его близких о снижении когнитивных функций в сравнении с имевшимися ранее возможностями пациента; 3) объективные свидетельства мнестических или других когнитивных нарушений по сравнению с возрастной нормой; 4) когнитивные расстройства не должны приводить к утрате профессиональных способностей или навыков социального взаимодействия, хотя может быть легкое ухудшение в сложных и инструментальных видах повседневной и профессиональной деятельности; 5) диагноз деменции не может быть поставлен. В соответствии с критериями шкалы тяжести деменции (CDR) умеренные когнитивные нарушения соответствуют стадии сомнительной деменции (CDR 0,5), а в соответствии со шкалой общего ухудшения функций (GDS) — стадии умеренного ухудшения памяти [42, 52].
Диагноз деменции выставляют в соответствии с критериями, рекомендованными МКБ-10 и DSM-IV [21, 34]: А. Прогрессирующие множественные нарушения со следующими проявлениями: 1. Нарушение памяти. 2. Одно или более из следующих когнитивных нарушений: апрак-
сия, афазия, агнозия, нарушение способности к синтезу, абстрагированию, действию. Б. Когнитивные нарушения вызывают существенные затруднения в социальной и трудовой адаптации. В. Данные анамнеза и общего обследования свидетельствуют об органическом поражении головного мозга. Г. Когнитивный дефект не связан с делирием (т.е. развивается на фоне ясного сознания).
Что касается органического субстрата когнитивных нарушений, то в исследованиях ряда авторов было показано, что при механическом повреждении головного мозга часто поражаются такие структуры, как гиппокамп и кора, в которых имеется скопление глутаматных рецепторов, играющих существенную роль в обеспечении пластичности головного мозга и формировании механизмов памяти [11]. Глутамат является одним из главных возбуждающих нейромедиаторов, действующих в тканях головного мозга. В физиологических условиях он выполняет важную функцию по реализации многих биохимических процессов в ЦНС, выступая в качестве важнейшего нейротрансмиттера. Но в условиях гипоксии и энергодефицита глутамат может действовать и как нейротоксин [50]. При механической травме происходит избыточный выброс глутамата, что приводит к активной гиперстимуляции глутаматных рецепторов, в частности NMDA-под- типа. При этом запускаются реакции глутамат-кальцие- вого каскада, вследствие чего наблюдается резкое увеличение внутриклеточного содержания кальция [13]. В свою очередь это ведет к активации ряда кальций-зависимых процессов внутри клетки, сопровождающихся неконтролируемым увеличением концентрации свободных радикалов, оказывающих повреждающее действие на ee различные структурные элементы [27]. Кроме того, избыточное интрацеллюлярное накопление кальция создает предпосылки для дестабилизации функции митохондрий, что приводит к разобщению процессов окислительного фосфорилирования и повышению уровня катаболических процессов. Все это в конечном итоге может закончиться необратимым повреждением мембранных структур и гибелью клетки. В литературе данный процесс носит название «глутаматной эксайтотоксичности» [7, 38, 49].
После перенесенной травмы создаются предпосылки для рассогласования деятельности механизмов, участвующих в поддержании клеточного и тканевого гомеостаза [31]. Рядом ученых высказывается мнение, что в условиях сформировавшейся патофизиологической системы возникает возможность для протекания дезинтегративных процессов, приводящих к вторичным нейродегенеративным изменениями и формированию прогрессирующего неврологического дефицита. Субстратом для подобных изменений служат избыточность (или недостаточность) определенных биохимических реакций, протекающих в скомпрометированной клетке. Именно одним из возможных проявлений таких реакций становится возникновение пролонгированного потока кальция, не наблюдающегося в физиологических условиях, который сам по себе не является летальным [15]. Было показано, что при травматическом поражении головного мозга возможно возникновение морфофункциональных изменений NMDAрецепторов за счет модификации их субъединиц, приводящее к повышению сенсибилизации рецепторов к глутамату. Эти изменения приводят к тому, что увеличивается период нахождения кальциевого канала в открытом состоянии, и как следствие этого, значительно возрастает
62 |
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 12, 2010 |

ПОСЛЕДСТВИЯ ЧМТ
концентрация кальция внутри клетки. Следствием данных процессов является развитие дезинтегративных реакций в клеточных органеллах и появление отсроченных повреждений нервной клетки, ее гибель [48].
Изложенные представления свидетельствуют о том, что одной из важнейших задач терапии последствий ЧМТ становится коррекция вызванных эксайтотоксичностью изменений, а также их профилактика путем нормализации глутаматергической передачи на физиологическом уровне, достаточном для нормального функционирования головного мозга. [6, 8, 53]. Препаратом, способным оказывать необходимое действие, является акатинол мемантин — 1-амино-3,5-диметил-адамантан. Он сочетает свойства низкоаффинного неконкурентного антагониста NMDA-рецепторов при сохранении физиологической синаптической передачи через них. Это свойство акатинола мемантина связывают с его способностью проявлять вольтажзависимое взаимодействие с ионными каналами NMDA-рецепторов, что приводит к тому, что при низковольтажном возбуждении, характерном для ряда патологических состояний, мемантин оказывает блокирующее действие на ионные каналы, предотвращая активацию глутаматных рецепторов. В то же время при возникновении физиологического высоковольтажного возбуждения препарат освобождает канал, способствуя активации рецепторов. В ходе проведенных экспериментальных исследований было показано, что акатинол мемантин защищает нейроны от нейротоксических воздействий глутамата, а также демонстрирует позитивный эффект на моделях обучения и памяти [36]. Согласно современным представлениям, положительный терапевтический эффект акатинола мемантина обусловлен улучшением межнейрональной передачи информации и связан с повышением уровня сигнала к шуму. Ожидаемый эффект от применения мемантина основывается также на экспериментальных данных, показавших значительное уменьшение нейрональной гибели в СА2- и СА3-областях гиппокампа после травмы при его назначении [51]. Особый интерес имеют данные о нейропротективных свойствах мемантина при различных состояниях, в том числе после ЧМТ [49, 57].
Целью настоящей работы было исследование терапевтической эффективности акатинола мемантина при посттравматических когнитивных нарушениях. В качестве препарата сравнения был выбран пирацетам, который является стандартизованным ноотропным препаратом при назначении пациентам с последствиями перенесенных ЧМТ [1, 25].
Материал и методы
Проведенное исследование было открытым рандомизированным контролируемым. В исследование был включен 41 пациент: 29 мужчин и 12 женщин, которые в зависимости от полученной терапии были разделены на 2 группы.
Основную группу составили 20 пациентов (14 мужчин, 6 женщин). Они получали акатинол мемантин, который назначался по следующей схеме: первые 7 дней — по 5 мг препарата 1 раз в сутки утром, последующие 7 дней — по 5 мг дважды в день (утром и в 18.00), в течение следующих 7 дней — 10 мг утром и 5 мг вечером, с 4-й недели. И далее больные получали по 10 мг препарата 2 раза в день. Максимальная суточная доза акатинола мемантина составляла 20 мг.
Вконтрольную группу вошел 21 больной (15 мужчин, 6 женщин). Пациентам контрольной группы проводилось лечение пирацетамом в дозе 2400 мг в сутки. В обеих группах общая продолжительность курса лечения составляла 24 нед.
Распределение больных по группам проводилось случайным образом. Достоверных различий между пациентами обеих групп по полу, возрасту, уровню образования и тяжести перенесенной ЧМТ не было.
Пациенты включались в исследование, если соответствовали следующим критериям: 1) наличие клинических признаков посттравматической энцефалопатии; 2) ЧМТ в анамнезе не менее чем за 6 мес до включения в исследование; 3) возраст больных старше 18 лет; 4) получение информированного согласия от больного или опекающих его лиц; 5) наличие посттравматических изменений по данным методов нейровизуализации (КТ или МРТ); 6) общий балл по шкале краткой оценки психического статуса — MMSE [39] ниже 26; 7) достаточный для участия в исследовании образовательный уровень больного. Пациенты не включались в исследование, если у них определялись следующие критерии: 1) наличие эпилептических припадков, пароксизмальной активности по данным ЭЭГ;
2)оценка по шкале депрессии Гамильтона (НАМ-D) более 18 баллов; 4) оценка по шкале депрессии Бека более 26 баллов; 5) наличие клинических или лабораторных данных, свидетельствующих о тяжелых или нестабильных соматических заболеваниях (печеночная и почечная недостаточность с увеличением трансфераз, креатинина в 2 раза выше нормативных показателей); 6) возможное наличие других заболеваний, протекающих с когнитивными и аффективными расстройствами (гипотиреоз, болезнь
Альцгеймера, В12-дефицитная анемия, тяжелая депрессия); 7) прием в течение 1 мес до включения и во время проведения исследования антидепрессантов, нейролептиков, антихолинэстеразных препаратов.
Входе исследования применялись следующие методики и шкалы: 1) клиническая оценка неврологического статуса; 2) краткая шкала оценки психического статуса — Mini-Mental State Examination (MMSE); 3) шкала деменции Маттиса [46]; 4) шкала HAM-D; 5) шкала Бека для оценки депрессии [41]; 6) набор нейропсихологических тестов: батарея тестов на лобную дисфункцию — Frontal Assessment Battery (FAB), тест рисования часов, S-тест;
7)шкала регистрации побочных эффектов; 8) нейровизуализационные методы: рентгеновская компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ); 9) электрокардиография (ЭКГ); 10) лабораторные исследования: общий и биохимический анализы крови, исследование уровня гормонов щитовидной железы (Т3, Т4, ТТГ).
Первоначально проводился скрининговый визит, в ходе которого определялось соответствие больного критериям включения. После этого назначался период, свободный от фармакотерапии, продолжительностью не менее 14 дней. По истечении этого срока проводился визит «исходный уровень», в период которого проводили неврологическое обследование и нейропсихологическое тестирование больных. В дальнейшем для сравнительной оценки эффективности проводимой терапии визиты больных проводились на 4-й, 12-й и 24-й неделе от начала лечения.
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета статистических программ SPSS
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 12, 2010 |
63 |

ЛЕЧЕНИЕ НЕРВНЫХ И ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
v.10 методами непараметрической статистики (критерий согласия χ2, критерий Уилкоксона с поправкой Бонферрони).
Результаты и обсуждение
В группах преобладали пациенты, перенесшие тяжелую ЧМТ, — 30 (73,2%) человек. Остальные 11 (26,8%) человек перенесли более легкую ЧМТ. В 2 случаях было сочетание нетяжелой ЧМТ с тяжелыми внечерепными повреждениями, кроме того, в 9 случаях травма была повторной. У пациентов, перенесших тяжелую ЧМТ, наблюдались ушибы головного мозга тяжелой степени, сдавление головного мозга гематомой и проникающие ранения. У 24 пациентов в остром периоде было выполнено оперативное вмешательство. В 29 случаях травма была изолированной, в 12 сочеталась с повреждениями внутренних органов. Время от момента получения травмы до включения в исследование в среднем составило 2,5 года с 95% доверительным интервалом (ДИ) от 1,5 лет до 3,4 года. В 1 случае с момента травмы прошло около 20 лет. У 11 (26,8%) пациентов, перенесших тяжелую ЧМТ, с момента травмы до включения в исследование прошло от 6 мес до 1 года.
Во время исходного визита все пациенты предъявляли жалобы на снижение памяти, внимания, увеличение времени и сложности при принятии решений, трудности при планировании каких-либо мероприятий, общую слабость, повышенную утомляемость. Среди других жалоб наблюдались: головные боли (57,9% больных), раздражительность, вспыльчивость, нарушения сна (47,4%), трудности при ориентировке в незнакомом месте (42,1%), значительное снижение настроения (31,5%).
При неврологическом обследовании у всех пациентов была выявлена очаговая симптоматика различной степени выраженности. Двигательные нарушения наблюдались у всех больных и варьировали от рефлекторного до глубокого пареза. Координаторные нарушения были в 73,7% случаев, поражения черепных нервов — в 68,4%, симптомы орального автоматизма в 57,9%, чувствительные расстройства — в 26,3%. Кроме того, у всех пациентов был выявлен астенический синдром и у 84,2% — признаки вегетативно-сосудистой неустойчивости.
При КТ или МРТ во всех случаях наблюдались признаки умеренной внутренней гидроцефалии, которые сочетались с расширением субарахноидальных пространств. У больных, перенесших тяжелую ЧМТ (30 человек), были обнаружены участки пониженной плотности при КТ или изменения интенсивности сигнала при МРТ, что свиде-
тельствовало об имевших место контузионных очагах. В большинстве случаев структурные изменения располагались в лобных и височных долях.
После окончания курса терапии у 75% больных (15 наблюдений), получавших акатинол мемантин, произошло субъективное улучшение состояния. Пациенты отмечали улучшение кратковременной памяти, концентрации внимания, а также повышение уровня повседневной активности. В 20% случаев (4 больных) существенного эффекта отмечено не было. В 1 случае пациент отмечал прогрессирующее ухудшение состояния. В контрольной группе, получавшей пирацетам, показатели были следующими: субъективное улучшение отмечали 12 (57,1%) больных, у 7 (33,3%) пациентов улучшения не наблюдалось и у 2 (9,6%) пациентов отмечалось прогрессирование заболевания.
При анализе результатов, полученных в ходе проведения нейропсихологического тестирования, через 1 мес после начала терапии акатинолом мемантином отмечено значительное улучшение суммарных показателей когнитивных функций. На 12-й неделе приема препаратов различия между группами больных были статистически значимыми.
Обобщенная оценка показателей пациентов, получавших акатинол мемантин, по шкале Маттиса приведена в табл. 1. Уже через 4 нед после начала терапии определялось достоверное улучшение показателей по разделам «концептуализация» и «память». Через 12 нед улучшение было достоверным по всем разделам за исключением раздела «праксис». В последующем, в течение 24 нед после начала лечения, состояние когнитивной сферы оставалось стабильным, а также сохранялась некоторая тенденция к дальнейшему улучшению.
Оценивая результаты нейропсихологического тестирования у пациентов с последствиями ЧМТ до лечения, обращает на себя внимание, что когнитивные функции были наиболее изменены по разделам «инициации— персеверации», «концептуализация» и «память». Данный факт свидетельствовал о преимущественном поражении связей префронтальной коры с гиппокампальной областью, а также о поражении собственных нейронов гиппокампа. Наиболее значимая положительная динамика у пациентов, получавших акатинол мемантин, наблюдалась по разделам «концептуализация» и «память», что указывало на способность препарата осуществлять регуляцию когнитивных процессов в области передних отделов лобных долей и медиобазальных структур височных долей головного мозга.
У пациентов, получавших пирацетам, получены иные результаты. Положительная динамика наблюдалась после 4 нед терапии лишь по разделам «внимание» и «инициа-
Таблица 1. Динамика состояния когнитивных функций по шкале деменции Маттиса у больных (n=20), леченных акатинолом (М±SD)
Раздел шкалы, баллы |
Исходный уровень |
4-я неделя |
12-я неделя |
24-я неделя |
Внимание |
32,6±1,3 |
34,3±1,4 |
35,7±0,6* |
35,3±1,1* |
Инициации—персеверации |
29,7±5,2 |
30,7±5,9 |
32,5±4,9* |
33,1±4,6* |
Праксис |
4,6±1,4 |
4,7±1,3 |
4,2±1,4 |
4,5±1,6 |
Концептуализация |
32,1±5,4 |
37,5±1,5* |
38,0±1,7* |
38,2±1,9** |
Память |
17,9±3,8 |
20,9±4,4* |
21,5±4,0* |
22,3±2,7** |
Суммарный балл |
116,9±10,3 |
128,9±10,0 |
131,9±8,2* |
133,4±8,7* |
Примечание. Различия с исходным уровнем достоверны: * — р<0,05; ** — p<0,01.
64 |
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 12, 2010 |

ПОСЛЕДСТВИЯ ЧМТ
Таблица 2. Динамика состояния когнитивных функций по шкале деменции Маттиса у больных (n=21), леченных пирацетамом (М±SD)
Раздел шкалы, баллы |
Исходный уровень |
4-я неделя |
12-неделя |
24 неделя |
Внимание |
33,4±1,3 |
35,9±1,1* |
34,7±1,9 |
33,8±1,3 |
Инициации—персеверации |
28,7±4,5 |
34,7±5,9* |
32,5±4,9 |
31,3±5,6 |
Праксис |
4,3±1,6 |
4,6±1,3 |
4,2±1,4 |
4,1±1,6 |
Концептуализация |
35,1±4,8 |
36,5±2,5 |
35,8±2,7 |
35,2±3,2 |
Память |
17,6±4,3 |
19,6±4,9 |
19,5±4,1 |
18,9±3,7 |
Суммарный балл |
119,1±11,8 |
131,3±10,7* |
126,7±10,2 |
123,3±8,7 |
Примечание. * — различия с исходным уровнем достоверны, р<0,05.
ции и персеверации». Кроме того, на завершающей ста- |
При оценке влияния препаратов на состояние эмоцио- |
дии исследования отмечалось постепенное истощение |
нальной сферы было установлено, что у больных, получав- |
эффекта действия препарата, что проявлялось отсутстви- |
ших акатинол мемантин, наблюдалась отчетливая положи- |
ем статистически достоверных изменений к 24-й неделе |
тельная динамика в отношении депрессивных проявлений |
терапии пирацетамом (табл. 2) по сравнению с исходным |
по шкале HAM-D. Данные изменения становились досто- |
уровнем. Было отмечено также незначительное улучше- |
верными с 4-й недели лечения и сохранялись на протяже- |
ние памяти, однако эти изменения были статистически не |
нии всего срока наблюдения. В то же время по шкале Бека |
достоверны (p=0,06). |
не отмечалось существенных различий между исходным |
В результате проведенного анализа данных, получен- |
уровнем и результатами теста, проводимого в процессе |
ных с использованием таких шкал, как MMSE, FAB, а так- |
клинического наблюдения. При интерпретации получен- |
же S-теста и теста рисования часов у больных, получавших |
ных данных необходимо учитывать тот факт, что шкала Бе- |
акатинол мемантин, установлено статистически достовер- |
ка является субъективной шкалой оценки депрессивного |
ное улучшение суммарных показателей. При этом положи- |
синдрома. Вследствие этого отсутствие по ней статистиче- |
тельная динамика по шкале MMSE наблюдалась через |
ски значимой положительной динамики могло быть связа- |
12 нед после начала приема препарата. Установить стати- |
но с формированием более критичной оценки пациентов к |
стически достоверное улучшение по отдельным пунктам |
своему состоянию при терапии акатинолом мемантином. В |
шкалы не удалось. В то же время наиболее значимые изме- |
контрольной группе больных, получавших пирацетам, ста- |
нения были зафиксированы по разделам, отражающим |
тистически значимых различий не было получено на про- |
ориентировку во времени и месте, выполнение 3-этапной |
тяжении всего 24-недельного исследования. |
команды, счет и воспроизведение после интерференции. |
Больные обеих групп хорошо переносили терапию. |
При анализе данных, полученных с помощью шкалы |
Нежелательные явления наблюдались редко — у 1 больно- |
FAB и теста рисования часов, достоверное улучшение по- |
го, леченного акатинолом мемантином (беспокойство), и |
казателей установлено к 24-й неделе исследования. В то |
у 2 пациентов в контрольной группе (тревожность и воз- |
же время положительная динамика была отмечена начи- |
буждение). Клинически значимых изменений со стороны |
ная с 4-й недели лечения. Что касается использования |
лабораторных показателей крови и ЭКГ не было получено |
S-теста, то улучшение показателей также отмечалось, на- |
ни в одном случае. |
чиная с 4-й недели, а достоверные различия наблюдались |
Таким образом, в ходе проведенного исследования |
к 12-й неделе терапии. |
установлена способность акатинола мемантина положи- |
В контрольной группе больных, получавших пираце- |
тельно влиять в течение 24 нед на когнитивные функции у |
там, при проведении тестирования по шкалам MMSE, |
больных, перенесших ЧМТ. Особенно эффективно дей- |
FAB, тесту рисования часов, S-тесту, статистически до- |
ствие препарата проявлялось на такие показатели когни- |
стоверных различий ни на одном из проведенных визитов |
тивных функций, как память, возможность к обучению, а |
не было. |
также на способности к обобщению, увеличение активно- |
Обобщая результаты, полученные в ходе исследова- |
сти (инициаций и персевераций) и темп мыслительных |
ния в обеих группах пациентов, нужно отметить, что пи- |
процессов. Статистически значимое улучшение наблюда- |
рацетам оказывал определенный положительный эффект |
лось через 12 нед после начала приема препарата, хотя за- |
на ряд когнитивных функций. В то же время это действие |
метное улучшение показателей было выявлено уже на |
наблюдалось только в течение 1-го месяца назначения |
ранних этапах терапии. |
препарата и носило нестойкий характер. Эти данные сви- |
Учитывая полученные результаты, у больных с пост- |
детельствуют о нецелесообразности длительных (более |
травматическими когнитивными расстройствами курс те- |
1 мес) курсов лечения пирацетамом у данной категории |
рапии акатинолом мемантином должен составлять не ме- |
больных. При назначении акатинола мемантина наблю- |
нее 3 мес, что способствует достижению клинически зна- |
дался более выраженный положительный эффект, кото- |
чимого положительного эффекта. Безопасность приема |
рый распространялся на значительный спектр когнитив- |
пациентами акатинола мемантина, а также хорошая его |
ных нарушений, включая зрительно-пространственные |
переносимость позволяют рекомендовать препарат для |
расстройства, лобные функции, память. Кроме того влия- |
лечения не только в стационарных, но и амбулаторных |
ние акатинола мемантина носило стойкий и постепенно |
условиях под динамическим наблюдением врача поли- |
нарастающий характер. |
клинического звена. |
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 12, 2010 |
65 |

ЛЕЧЕНИЕ НЕРВНЫХ И ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЛИТЕРАТУРА
1.Авруцкий Г.Я., Нисс А.И. Фармакология ноотропов. М 1989; 112—118.
2.Бадалян Л.О. Неврологические аспекты закрытой черепно-мозговой травмы. Вестн АМН СССР 1984; 12: 12—16.
3.Боева Е.М., Гришина Л.П. Врачебно-трудовая экспертиза, социальнотрудовая реабилитация инвалидов вследствие черепно-мозговой травмы. Методические рекомендации для врачей ВТЭК. М 1991; 22.
4.Борохов Д.З. К вопросу о медицинской демографии и ее месте среди других медико-биологических дисциплин. Журн сов здравоохр 1990; 9: 38—41.
5.Виленский О.Г. Последствия черепно-мозговых травм. Киев: Здоров'я 1971; 111.
30.Старченко А.А. Клиническая нейрореаниматология. ООО СанктПетербургское медицинское изд-во 2002; 672.
31.Шанько Ю.Г., Танин А.Л., Наледько А.Н. и др. Современные представления о механизмах патогенеза повреждений мозга и нейропротекторной терапии. Ars Medica 2009; 3: 13: 97—105.
32.Шебашева Е.В. Клинико-нейрофизиологические корреляты адаптационных нарушений у лиц, перенесших легкую боевую черепномозговую травму: Дис. … канд. мед. наук. Казань 2009; 127.
33.Шток В.Н., Левин О.С., Борисов Б.А. и др. Справочник по формулированию кинического диагноза болезней нервной системы. М: МИА 2006; 520.
6.Гаврилова С.И. и др. Акатинол-мемантин — модулятор глютаматерги34. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of
ческой системы в лечении деменций альцгеймеровского типа. Журн |
Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV). Washington: American Psy- |
клин и соц психиат 1995; 2: 78—89. |
chiatric Association 1994; 143—147. |
7.Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. М 2001; 327. 35. Artero S., Petersen R., Touchon K. et al. Revised criteria for mild cognitive
8.Дамулин И.В. Новая нейропротективная и терапевтическая стратегия при деменциях: антагонист NMDA-рецепторов Акатинол Мемантин. РМЖ 2001; 9: 25.
9.Дамулин И.В. Вторичные деменции (когнитивные расстройства при травматических и опухолевых поражениях головного мозга, при инфекционных и аутоиммунных заболеваниях). М: ММА им. И.М. Сеченова 2009; 37.
10.Емельянов А.Ю. Травматическая энцефалопатия: Автореф. дис. … д-pa мед. наук. Ст-Петербург 2000; 42.
11.Ещенко Н.Д. Биохимия психических и нервных болезней. СтПетербург: СПбУ 2004; 200.
12.Заваденко Н.Н., Гузилова Л.С., Семенов П.А. Хронические посттравматические головные боли и их профилактическая терапия у подростков. Consilium medicum 2009; 11: 2: 38—41.
13.Кондратьева Е.А., Боровикова В.Н., Кондратьев С.А. и др. Роль ривастигмина (экселона) в лечении последствий черепно-мозговой травмы. Журн неврол и психиат 2009; 109: 1: 55—58.
14.Коновалов А.Н., Лихтермана Л.Б., Потапова А.А и др. Клиническое руководство по черепно-мозговой травме. М: Антидор 1998; 2: 676.
15.Крыжановский Г.Н. Общая патофизиология нервной системы. М: Медицина 1997; 352.
16.Курако Ю.Л., Букина В.В. Легкая закрытая черепно-мозговая травма. Киев: Здоровья 1989; 160.
17.Лебедев Э.Д., Могучая О.В., Куликова Т.Н. Эпидемиология острых травм черепа и головного мозга в Ленинграде и Ленинградской области. Журн вопр нейрохир 1991; 5: 33—37.
18.Левин О.С. Диагностика и лечение деменции в клинической практике. М: МЕДпресс-информ 2010; 256.
19.Макаров А.Ю. Последствия черепно-мозговой травмы и их классификация. Неврол журн 2001; 2: 38—41.
20.Медведев Ю.А., Закарявичус Ж. Рефрактерность постгеморрагической констриктивно-стенотической артериопатии к вазодилатационной медикаментозной терапии (морфологические аспекты). Нейрохирургия 2002; 2: 16—22.
21.Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. Десятый пересмотр (МКБ-10). Т. 1 (часть 1). Женева: ВОЗ 1995; 315: 510—511.
22.Мякотных В.С., Таланкина Н.З., Боровкова Т.А. Клинические, патофизиологические и морфологические аспекты отдаленного периода закрытой черепно-мозговой травмы. Журн неврол и психиат 2002; 102: 4: 61—65.
23.Одинак М.М. Невропатология сочетанной черепно-мозговой травмы: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. Ст-Петербург 1995; 44.
24.Одинак М.М., Корнилов Н.В., Грицанов А.И. и др. Невропатология контузионно-коммоционных повреждений мирного и военного времени. Ст-Петербург: МОРСАР АВ 2000; 432.
25.Одинак М.М., Емельянов А.Ю., Емелин А.Ю. Черепно-мозговая травма. В кн.: Военная неврология. Ст-Петербург: ВМедА 2004; 189— 219.
26.Орехова Г.Г. Роль организационных технологий в оказании медицинской помощи больным с последствиями черепно-мозговой травмы: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. М 2008; 48.
27.Румянцева С.А., Болевич С.Б., Силина Е.В., Федин А.И. Антиоксидантная терапия геморрагического инсульта. М: Медицинская книга 2007; 70.
28.Рустанович А.В., Шамрей В.К. Семиотик и диагностика психических расстройств. Ст-Петербург: ВМедА 1995; 80.
29.Стародубцев А.А., Стародубцев А.И. Клиническая картина травматической энцефалопатии и ее динамика у людей молодого возраста, перенесших сотрясение головного мозга. Неврол журн 2008; 4: 15— 19.
impairment: validation within a longitudinal population study. Dement Geriat Cong Dis 2006; 22: 5/6: 465—470.
36.Danysz W., Parsons C.G. The NMDA receptor antagonist memantine as a symptomatological and neuroprotective treatment for Alzheimer’s disease: preclinical evidence. Int J Geriat Psychiat 2003; 18: 1: 23—32.
37.Dietrich W.D., Alonso O., Halley M. Early microvascular and neuronal consequences of traumatic brain injury: a light and electron microscopic study in rats. J Neurotrauma 1994; 11: 3: 289—301.
38.Doble A. The role of excitotoxicity in neurodegenerative disease: implications for therapy. Pharmacology and Therapeutics 1999; 81: 3: 163—221.
39.Folstein M.F., Folstein S.E., McHugh P.R. A practical method for grading the cognitive state of patients for clinician. J Psychiat Res 1975; 12: 2: 189— 198.
40.Goldstein M. Traumatic brain injury: a silent epidemic. Ann Neurol 1990;
27:3: 327.
41.Hamilton M. Development of rating scale for primary depressive illness. Br J Soc Clin Rsychol 1967; 6: 278—296.
42.Hughes C.P., Berg L., Danziger W.L. et al. A new clinical scale for the staging of dementia. Br J Psychiat 1982; 140: 566—572.
43.Kraus J., McArtur D. Epidemiologic aspects of brain injury. Neurol Clin 1996; 14: 2: 435—450.
44.Laird M.D., Vender J.R., Dhandapani K.M. Opposing Roles for Reactive Astrocytes following Traumatic Brain Injury. Neurosignals 2008; 16: 154— 164.
45.Maas A.I.R., Stocchetti N., Bullock R. Moderate and severe traumatic brain injury in adults. Lancet Neurol 2008; 7: 728—741.
46.Mattis S. Dementia Rating Scale. Geriatric psychiatry. A handbook for psychiatrist and primary care physicians. New York 1976; 108—121.
47.Norris C.M., Scheff S.W. Recovery of afferent function and synaptic strength in hippocampal CA1 following traumatic brain injury. J Neurotrauma 2009;
26:12: 2269—2278.
48.Osteen C., Giza C., Hovda D. Injury-induced alterations in N-methyl-d-as- partate receptor subunit composition contribute to prolonged (45)calcium accumulation following lateral fluid percussion. Neuroscience 2004; 128: 2: 305—322.
49.Palmer G. Neuroprotection by NMDA receptor antagonists in a variety of neuropathologies. Curr Drug Targets 2001; 2: 3: 241—271.
50.Parsons C., Danysz W., Hesselink M. et al. Modulation of NMDA receptors by glycine--introduction to some basic aspects and recent developments. Amino Acids 1998; 14: 1—3: 207—216.
51.Rao V., Dogan A., Todd K. et al. Neuroprotection by memantine, a noncompetitive NMDA receptor antagonist after traumatic brain injury in rats. Brain Res 2001; 17: 1: 96—100.
52.Reisberg B., Ferris S.H., de Leon M.J., Crook T. The Global Deterioration Scale for assessment of primary degenerative dementia. Am J Psychiat 1982;
139:1136—1139.
53.Rogawski M. What is the rationale for new treatment strategies in Alzheimer’s disease? CNS Spectr 2004; 7: 5: 6—12.
54.Rutland-Brown W., Langlois J.A., Thomas K.E., Xi Y.L. Incidence of traumatic brain injury in the United States, 2003. J Head Trauma Rehabil 2006;
21:6: 544—548.
55.Sosin D., Sniezek J., Waxweiler R. Trends in death associated with traumatic brain injury, 1979 through 1992. Success and failure. JAMA 1995; 273: 22: 1778—1780.
56.Tagliaferri F., Compagnone C., Korsic M. et al. A systematic review of brain injury epidemiology in Europe. Acta Neurochir 2006; 148: 3: 255—268.
57.Wenk G., Zajaczkowski W., Danysz W. Neuroprotection of acetylcholinergic basal forebrain neurons by memantine and neurokinin B. Behav Brain Res 1997; 83: 1—2: 129—133.
66 |
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 12, 2010 |
