
Пайман А. История русского символизма
.pdf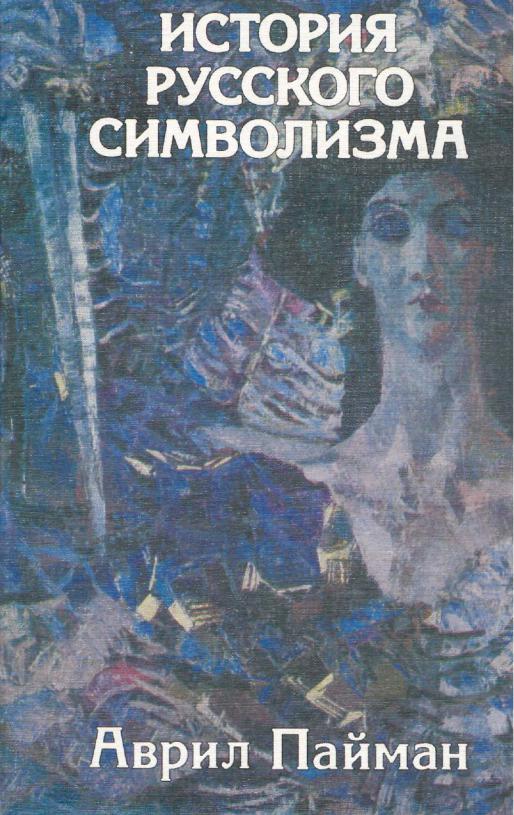

А. Пойман (начало 60-х гг., Ленинград)
Аврил Пойман — крупный английский ученый в области истории русской литературы, доктор философии, член Британской Академии. Известна как глубокий специалист в изучении эстетической и философской мысли, а также культуры серебряного века. Ее книги "Двенадцать" Александра Блока", двухтомная биография Александра Блока, "История русского символизма", изданные у нее на родине, в Великобритании, с момента их появления прочно вошли в европейский научный и интеллектуальный обиход, став основательным исследовательским подспорьем для всех, кто интересуется русской культурой, судьбой России XX века.
А. Пойман родилась в 1930 году на северо-востоке Англии в г. Хартлпуле (графство Дарем). 1949—1952 годы — учеба в Кембриджском университете в Школе современных и средневековых языков (русская и немецкая литература, история, культура, языки).
1953—1958 годы — аспирантура при Кембриджском университете (научный руководитель — Н. Е. Андреев). За диссертацию "Д. С. Мережковский и истоки русского "декаданса" (1892—1905)" присуждена степень доктора философии.
1959—1961 годы — стажировка в Ленинградском университете у известного ученого Д. Е. Максимова, работа над книгой об А. Блоке в архивах Пушкинского Дома, ЦГАЛИ, Библиотеки им. Ленина (рукописный отдел), ВТО.
1963—1974 годы — став женой русского художника Кирилла Константиновича Соколова, живет в Москве, занимается исследовательской работой и художественными переводами.
1980—1996 годы — преподает русский язык и литературу в Университете Дарема. С 1996 года — член Британской Академии.
На русском языке публикуется с 1961 года — в академических изданиях "Русская литература", "Международные связи русской литературы"; в Бло-ковских сборниках (Тартуский университет); в журнале "Вопросы литературы".

УДК 82.09 ББК 83.3(2) П12
Avril Pyman
A history of Russian Symbolism Cambridge University Press, 1994
Авторизованный перевод Перевод с английского В. В. Исакович
Пайман Аврнл
П12 История русского символизма / Авторизованный пер. Пер. с англ. В. В. Исакович. — М.: Республика, 2000. — 415с.
ISBN 5—250—01809—2
Книга Аврил Пайман впервые была издана в Великобритания Кембриджским университетом и получила широкое признание авторитетных исследователей. Это — первая история русского символизма, охватывающая все аспекты феномена рус-ской культуры — поэзию, прозу, живопись, философию. Автор сумела передать живое ощущение психологической атмосферы того времени, рассказать о сложном и противоречивом периоде ясно, увлекательно, доверительно, сочетая богатейшую информацию с изложением теоретических положений и литературным анализом.
Это изящно описанное путешествие по одной из самых ярких эпох русской культуры заслуживает внимания широкого читательского круга.
ББК 83.3(2) |
|
© Издательство "Республика", 2000 ISBN 5—250—01809—2 |
© Cambridge University Press, 1994 |
ПРЕДИСЛОВИЕ
Работа над этой книгой велась на протяжении двенадцати лет, и за это время рукопись не раз претерпевала изменения. Первоначальной ее основой послужили материалы, собранные автором для докторской диссертации на тему "Д. С. Мережковский и истоки русского "декаданса" (1892—1905)" (Кембридж, 1958). С тех пор моя работа была посвящена в основном русской литературе XX века, и я убедилась, насколько необходима книга по истории русского символизма в целом. Издательство "Кембридж Юниверсити Пресс" заключило со мной договор на такую книгу. Однако после работы над темой о первоистоках сим-
волистского движения у меня сохранился стойкий интерес к оставшимся без ответа вопросам, поставленным мыслителями fin de siecle. Новые публикации произведений, относящихся к этому периоду, а также исследований, ему посвященных, в особенности поток свежих материалов об Андрее Белом и Павле Флоренском, вновь пробудили этот интерес. Они подкрепили также и мое убеждение, что литературное движение, именовавшее себя русским символизмом, не было имитацией символизма французского, первым воспользовавшегося указанным термином и начавшего соответствующие технические эксперименты. Скорее, оно составляло часть более широких европейских попыток выразить мировоззрение конца века и разрешить вопросы, им затронутые. Как говорит Шестов, "самые важные и значительные мысли, откровения являются на свет голыми, без словесной оболочки: найти для них слова — особое, очень трудное дело, целое искусство"1.
Мыслителям, всем существом чувствовавшим, сколь тонок слой традиций гуманистического Просвещения, казалось необходимым сосредоточить духовные искания вне пределов мира чистого разума, "отворить окна" и двигаться с полной свободой "в безбрежности". Делать это позволяло искусство. Здесь даже "несказанное", идеально рассчитанная пауза могли быть значимыми. Поскольку искусство неизбежно субъективно и часто намеренно избегает определенности, оно позволяло выйти за границы сиюминутной осязаемой достоверности. Слова, краски, звуки и формы можно было использовать не для того, чтобы чтото объяснить, но чтобы подсказать, вызвать отклик, пробудить память, заронить предчувствие.
Поначалу солидное большинство, считавшее, что у искусства нет философской задачи, что оно должно ограничиваться лишь полезным
или декоративным, служа развлечением для серьезных людей, занятых "реальной жизнью", дружно высмеивало символистов (как в России, так и в других странах). Убеждение символистов, что для художника мир прозрачен, а искусство способно заглянуть дальше и глубже научно установленной истины, казалось детским, безответственным и явно дестабилизирующим. Сначала отдельные личности, а потом маленькие тесно сплоченные группы медленно и с мучительным трудом выковывали новый язык, в котором само слово было "символичным", равным чему-то большему, нежели себе самому, ощущавшим свои корни и способным к росту, изменению, преображению. Из этих разрозненных групп родилось энергичное литературное движение, которое, набирая силу, подобно реке влилось в море русской литературы, успев образовать могучую дельту, пронизанную сетью многочисленных протоков. Так возникли акмеизм, футуризм в различных его разновидностях, неореализм и орнаментальная проза, ранние образцы русской литературы абсурда...
Это размежевание попросту отделило друг от друга, углубило и усилило различные течения, некогда бок о бок прокладывавшие себе путь в русле общего потока. Акмеизм одомашненный, утонченный, прозрачный подчеркивал ту "тоску по мировой культуре", которая с самого начала давала о себе знать в символистском бунте против утилитаризма и упрощенческой веры в прогресс. Футуризм — романтичный, примитивный и громкоголосый — продолжал исследовать материю языка, корни и магическую силу слова, а также вел поиски новой поэтики, способной выразить дух больших городов, новой науки и техники. Формализм — по сути своей не столько творческое, сколько критическое направление, стремившееся анализировать и определять явления искусства, — делал главный упор на форме и структуре. Неореалисты развивали мысль, что каждый символ имеет в своей основе конкретную деталь, воспринятую свежо и субъективно. Орнаментальная проза, отчасти родственная неореализму, стремилась придать новую энергию языку, прибегая для этого к неологизмам, архаизмам, провинциальному говору и диалектизмам. Абсурдисты довели до логического конца спор символистов со сторонниками строгой причинно-следственной связи явлений, рационализма и догматизма, позволяя себе причудливые ужимки и прыжки, исчезая в пучине, чтобы энергично вынырнуть на поверхность и снова скрыться в глубине... Даже "реалистический символизм" Вячеслава Иванова, горячо поддержанный Белым и переживший на два-три года "кризис символизма", по прошествии времени видится как всегб лишь один из многочисленных рукавов дельты, хотя и можно предположить, что этот рукав был главным руслом, позволившим выжить идее "выявления в действительности иной, более действительной действительности", извечно недостижимой и неподвластной искусству цели движения.
Прослеживая историю символизма вплоть до 1910 года, когда ему впервые был брошен вызов изнутри, а его вожди стали значительно больше внимания уделять собственному творчеству, нежели движению как таковому, я старалась как бы набросать карту этой реки от ее истока до дельты, нанести на нее протоки. Именно такой эмпирический подход предопределил структуру книги.
Поскольку я обращаюсь в первую очередь не к ученым, а к изучающим русскую литературу читателям, я попыталась один за другим представить портреты главных героев, прежде чем показать, как соотносится их творчество. Хронология, прилагаемая в конце книги, призвана уточнить представление о последовательности событий в русской литературной жизни, связанных с развитием символизма, дать ответ на вопросы, которые могут, естественно, затуманиться благодаря такому методу изложения. Особенно это относится к главам, где речь идет о группе петербургских символистов и их московских коллегах, дебют которых принято считать началом движения. Брюсов опубликовал два первых
сборника "Русских символистов" в 1894 году, тогда как первые стихотворения Гиппиус в "новой манере", написанные раньше, увидели свет лишь в 1895 году. Борьба за символистскую эстетику, начатая в 1892 году в лекциях Мережковского "О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы" и продолженная затем на страницах "Северного вестника", интенсивно велась в "Мире искусства" еще до того, как Брюсов достиг зрелости и признания как художник, а также прежде чем у него появились достаточные финансовые рычаги, позволившие объединить петербургских и московских символистов вокруг издательства "Скорпион" и на страницах выпускаемого этим издательством альманаха "Северные цветы". "Весы", начавшие выходить в 1904 году — последнем году существования "Мира искусства" и "Нового пути", — хотя и сыграли важнейшую роль, были основаны все-таки после литературного дебюта так называемого второго поколения русского символизма (Вячеслава Иванова и Белого в 1902-м и Блока в 1903 году). Функция этого журнала заключалась прежде всего в том, чтобы оценивать и разъяснять "новое искусство", а не быть его первопроходцем и популяризатором.
Итак, если говорить об общей композиции предлагаемой книги, она определялась подходом автора к предмету, — подходом не столько критика, сколько хроникера. Я видела свою задачу в том, чтобы представить идеи, прозаические сочинения и поэзию как творчество живых людей в определенный период истории, в реальных условиях России того времени.
Моя цель состояла в том, чтобы познакомить новое поколение читателей с давними спутниками и друзьями: пусть их голоса, звучащие в контексте того времени, сами говорят за себя.
Пользуясь случаем, автор выражает благодарность издателям английского оригинала "Истории русского символизма" — "Кембридж Юниверсити Пресс" за разрешение выпустить русский вариант этой книги.
ПРОЛОГ
Вырождение или возрождение? Европейский fin de siecle и его русские провозвестники
Напрасно так мало обращают внимания на декадентов, это болезнь времени, и она заслуживает серьезного отношения.
Лев Толстой
Чтобы уяснить, каким образом до широкой русской публики в начале девяностых годов прошлого века дошли первые слухи о декадентстве — недомогании европейской культуры, подготовившем почву для символизма, возникновение русского символизма следует рассматривать в тесной связи с современным ему искусством и литературой. И тогда в этом контексте символизм предстанет перед нами полным жизни новым ростком на дереве европейской культуры.
Во второй половине XIX века Европа достигла небывалого прогресса в науке, промышленности, технике. Небольшой сравнительно континент стал оказывать заметное влияние на самые различные сферы жизни всего остального мира, насаждая собственную веру, навязывая собственные законы и распространяя собственную культуру. Однако задолго до катаклизмов XX века уже давало о себе знать в обществе некое гнетущее чувство, росло ощущение тревоги. Достоевский определил это просто: "все подорвано". Его ученик, Василий Розанов, сформулировал схожую мысль так: "Жизнь иссякает в своих источниках". Макс Нордау, один из самых стойких защитников позитивизма и прогресса, назвал это "легким нравственным подташнивани-ем"1.
Причина? Среди множества причин, пожалуй, основная
—кризис веры. Когда речь идет конкретно о России, следует помнить, что крайний восточный бастион Европы пережил эпоху веры, не был затронут Ренессансом, но зато, в лице образованных высших классов общества, в полной мере испытал на себе влияние Просвещения, что, впрочем, на первых порах почти никак не сказалось на деятельности православной церкви и на народных массах. Подобная аномалия породила своеобразный разлом в культуре, просуществовавший вплоть до революции 1917 года. Русская интеллигенция, возникшая в первой половине XIX века, когда начали заявлять о себе разночинцы, оказалась стоящей по обоим краям этого разлома. В сфере культуры даже выходцы из народа, духовенства или купеческого "темного царства" находились на той же стороне, что и правящие классы. Если же говорить о политике, то даже правящая верхушка была противницей статус-кво и желала — а может, ей только казалось, что желала,
—видеть народ сильным, исполненным достоинства. Писатели и художники серебряного века, как представители интеллигенции, по-прежнему зависли над трещиной, которая на
рубеже столетия грозила быстро превратиться в пропасть. Индивидуально каждый из них в полной мере испытывал на себе западноевропейский кризис веры, но, подобно Версилову у Достоевского, они чувствовали, что, поскольку они — русские, у них остается возможность вернуться к народной вере.
Материалисты, конечно, находили желательным воспитывать народ в духе присущего им самим атеизма. Однако либеральным прогрессистам-агностикам материализм казался грубым, они видели в нем угрозу культуре и примыкали к другим философским системам — идеализму или позитивизму. Временно и хаотичность "незнания" и возможность веры аккуратно отодвигались за пределы познания, однако при этом царила твердая убежденность
втом, что человечеству не обойтись без "нравственного закона". Для многих эта убежденность покоилась на "категорическом императиве" Канта либо на его позднейших модификациях. Отсюда и еще сохранившееся благоговение перед "звездным небом над головой", думать о котором было незачем, поскольку какая-либо мера точности при подобных размышлениях явно исключалась.
На какое-то время это даже привело к известной самоуверенности: прикладная наука дала человеку такую власть над окружающей средой, о которой раньше не приходилось и мечтать, и власть эта все более и более возрастала. Мало кто сомневался, что человечество сумеет использовать эту власть в интересах большинства. Религия оставила в людских душах начатки нравственности, которая теперь должна была проявиться в разумной заботе о ближних. "Альтруизм, проповедуемый на все лады новым поколением, — это и есть любовь, провозглашенная Христом, но в высшей, усовершенствованной форме", — писала Анна Павловна Философова,
хозяйка одного из петербургских светских салонов и филантропка радикальных 60-х годов прошлого века2.
Между тем в 1898 году именно в доме Анны Павловны разместился центр первого журнала серебряного века "Мир искусства"; а мир Анны Павловны был уже миром Шопенгауэра,
Бодлера и "Человека из подполья" Достоевского. "Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить"3,
— восклицает "Человек из подполья". Для современников Достоевского это заявление мнилось знаком нравственной патологии, но поколению, пришедшему ему на смену, оно
казалось всего лишь честным. "Человек, — говорил Фридрих Ницше,
— есть нечто, что должно превзойти"4. С увяданием веры альтруизм перестал быть в почете. Почему, спрашивается, мы должны помогать слабым? Для того лишь, чтобы уютнее себя чувствовать морально? Считалось, что перекладывание бремени с одних плеч на другие по инициативе общества или под его нажимом заглушит инициативу, подавит в человеке веру
всебя и приведет к тирании слабых над сильными, а значит, к общему подрыву человеческой жизнеспособности. Тем не менее противоположный вариант — общество, живущее по законам джунглей, — был слишком страшным, чтобы помышлять о нем всерьез. Неудивительно, что столь пугающие альтернативы вызывали резко отрицательную, подчас эскапистскую реакцию.
Ницше писал: "Ты никогда больше (...) не успокоишься уже в бесконечном доверии <(...) нет
больше разума в том, что свершается, ни любви в том, что свершится с тобой, — сердцу твоему уже закрыто пристанище, где ему было что находить..."5. Потерявшие всякую ориентировку люди начали на ощупь искать кратчайшие пути к утраченным незыблемым ценностям.
Некоторые проявляли очевидную склонность укрыться на Парнасе, сознательно отдавая миру искусства предпочтение перед миром природы. Другие искали выход в возврате к причудливым культам, в спиритизме и столоверчении. Люди с более научным складом ума изучали возможности, заложенные в древних культурах, в религиях Востока и мечтали о возрождении мифа, возникшего в те времена, когда человечество пребывало в большей гармонии с миром природы. Климат культуры был насыщен утонченным атавизмом, менее жизнестойким и потенциально более пагубным, чем призыв романтиков "назад, к природе". Натуры ранимые и наделенные неустойчивой психикой поэкспериментировали с наркотиками, алкоголем, половыми извращениями и всеми иными видами "зла", не подлежащими немедленной и неотвратимой каре закона. За всем этим нередко скрывалось упорное желание доказать
существование Высшего Добра, так сказать, "от противного": "Aimes-tu les damnes, dites, connais-tu 1'irremissible?"6
10
Такова была негативная реакция на кризис морали и религии. Наука и философия античности указывали другое, более катастрофическое, но и более положительное направление поисков. Поскольку в то время получило распространение мнение, что наша зеленая и густонаселенная планета возникла в результате взрыва на Солнце, то находились люди, с волнением и надеждой вспоминавшие учение Платона о "бесконечности" материи, которой еще можно придать новые формы, — его доктрину о космосе как порождении хаоса.
Так родился новый вид ностальгии — тоска по далекому будущему, которому суждено возникнуть после некоей грандиозной катастрофы. Это настроение проявлялось в различных формах — апокалипсических предчувствиях, национальном мессианстве всех цветов и оттенков, рождении таких понятий, как "раса господ" и "Сверхчеловек", тяготении к какой-то новой, более жизнеспособной культуре, которую можно будет создать вслед за катастрофой. Упования марксизма на "отмирание государства" в перспективе после победы социалистической революции имели немало схожего с подобными волюнтаристскими культами, хотя он и отрицал их "мистицизм".
Само признание этоса революции предполагало готовность приветствовать диссонанс, пусть лишь как необходимую прелюдию к гармонии, и в первые годы существования русского декадентства призыв Рембо изменить жизнь казался вполне совместимым с призывом марксистов изменить общество, хотя иные поэты и находили формулу Рембо более радикальной. Как то и другое сочеталось в их сознании, можно видеть из рассказа Осипа Мандельштама о предпринятом им после революции 1905 года паломничестве через опустошенные деревни и все еще тлевшие усадьбы прибалтийских баронов на могилу Ивана Коневского, "утренней жертвы русского символизма", который утонул в реке Аа летом 1901 года. Мандельштам, романтически настроенный юноша, любивший поэзию Бальмонта, но носивший в кармане "Эрфуртскую программу", чувствовал, что с политическим трактатом в руках он ближе к своему другу и предшественнику, чем если бы "поэтизировал на манер Жуковского".
"Я весь мир почувствовал хозяйством, человеческим хозяйством... Да, я слышал с живостью настороженного далекой молотилкой в поле слуха, как набухает не ячмень в колосьях, не северное яблоко, а капиталистический мир набухает, чтобы упасть"7.
Ну а что будет, если старый мир падет? Что тогда? Победит ли человек смерть, болезнь, личные трагедии, свои собственные недостатки? И можно ли считать даже справедливое и материально преуспевающее общество вершиной человеческих чаяний? Дмитрий Мережковский, один из первых идеологов русского декадентства, символизма или модернизма (эти термины употреблялись последовательно по времени, а часто и как равнознач-
п
ные для обозначения одного и того же явления), писал, что избавить человека от социальной несправедливости — все равно что избавить чахоточного от зубной боли. Это попросту освободит его сознание и чувства от отвлекающего раздражителя и позволит с большей остротой ощутить муку смертности человека в пустоте никем не сотворенного и лишенного какой-либо цели бытия.
Тех, кто упорствовал в постановке этих вечных, проклятых вопросов ("детских вопросов", как характеризовал их Александр Блок), подобные искания вели к трагедии. Лев Шестов в свое время писал, что в области трагедии даже позитивисты признают возможность следствия без причины. Здесь юридическая вина заменяется иррациональной, но не лишенной смысла концепцией "трагической вины". Трагический герой может быть уничтожен обществом, но судить его вправе только боги. "Безнадежность, — писал Шестов, — торжественнейший и величайший момент в нашей жизни. До сих пор нам помогали — теперь мы предоставлены только себе. До сих пор мы имели дело с людьми и человеческими законами — теперь с вечностью и отсутствием всяких законов"8. В конечном итоге этот путь, пролегающий через "отсутствие всяких законов", должен был вновь привести к признанию нравственного императива, то ли в форме трагического мужества, то ли экзистенциального выбора, то ли
приятия Креста Христова со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Такой переход от развенчания старых ценностей к утверждению новой, к тому же для многих "абсурдной" этики требовал времени, и общество, зиждущееся на рационализме и вере в прогресс, расценивало подобный путь как ретроградный. В годы, предшествовавшие рождению символизма, европейская литература сосредоточивала свое внимание на описании жизни и роли человека в обществе. Литература, особенно в России, считалась достойной интереса мыслящего человека лишь при условии, что она преследовала полезные цели, а в формальном отношении придерживалась рамок рационалистической доказательности и реалистического или сатирического описания. На чтение лирической поэзии смотрели как на занятие, простительное кисейным барышням и влюбленным юнцам. Поэтому вряд ли можно удивляться тому, что литературные критики в России, как и повсюду в Европе, противились настроениям fin de siecle как таковым и заодно всем формам искусства, долженствующим не только выразить, но и преодолеть подобные настроения.
Пожалуй, наиболее решительно к оказанию противодействия новому направлению в искусстве призывал Макс Нордау, венгерский еврей-полиглот, проживавший в Париже, писавший по-немецки, занимавшийся медициной и сочетавший интерес к криминальной психологии с большой любознательностью по части литературы и живописи. Этот просвещенный "универсальный человек" одним из первых диагностировал и начал борьбу
12
с болезнью "вырождения" — термин, заимствованный им из трудов по судебной психиатрии его друга, Чезаре Ломброзо, профессора Туринского университета.
Нордау определил тему своей книги "Entartung" ("Вырождение", 1892) как патологическое состояние, не противоречащее наличию таланта или даже гениальности. Появление патологии в искусстве второй половины XIX века он считал симптоматичным для социальной болезни, получившей во Франции (а затем и во всех других цивилизованных странах) название психологии "fin de siecle", хотя правильнее было бы назвать ее "fin de race" ("конец расы") или даже "fin de classe" ("конец класса"). Симптомы вырождения, по Нордау, — это нездоровая нервозность, моральный кретинизм, "циклические" состояния депрессии и экзальтации, мистицизм, ребячливость, атавизм, интеллект, ослабленный настолько, что уже не способен мыслить причинно-следственными категориями, крайний субъективизм, порой переходящий в самовлюбленность, сочетающуюся с тенденцией объединения в группы и шайки. Все это, настаивал он, отклонения от нормы, типичные для криминального сознания и хорошо известные судебным психиатрам. Извращенные наклонности дегенерата-художника в отличие от дегенерата-преступника, утверждал Нордау, проявляются не в реальных преступлениях, а в том, что художник заражает здоровый организм общества своими опасными мечтами и стремлениями. Для этого он пользуется техникой и приемами, подсказываемыми его больным сознанием. Это — синестезия, ассоциативное мышление и невнятная музыкальность сумасшедшего, играющего словами ради их звучания, не заботясь о содержании. Все эти приемы напрямую связаны с теорией и практикой символизма.
Нордау обрушился на известное предисловие Теофиля Готье к "Цветам зла" Бодлера и, в частности, на утверждение, что поэзия не может "занять место наряду с наукой или нравственностью, если она не хочет обречь себя на гибель". С наивностью человека дофрейдистской эпохи он настаивал, что на протяжении жизни тысяч сменявших друг друга поколений нравственность превратилась в организованный инстинкт. Обществу грозит опасность, когда уважаемые люди вроде газетных критиков становятся на сторону художников-выродков. Необходимо создать союз "нравственного оздоровления", "членами которого состояли бы руководители и учителя народа, профессора, писатели, депутаты, судьи {...} Такой союз мог бы оценивать всякое художественное и литературное произведение с точки зрения его целомудрия".
Между тем влияние таких выродков, и в частности Бодлера, предостерегал Нордау, стало господствующим не только среди французов, но также и среди части англичан и, пусть в меньшей степени, среди немцев, хотя в Германии художники дольше оставались защищенными, нежели в других цивилизованных странах Запада, благодаря слабому развитию крупной промышленности
13
и отсутствию больших городов в собственном смысле этого слова, в то время как ни Скандинавия, ни Северная Америка, ни Россия (хотя она-то, надо полагать, была еще более отдалена от заразы цивилизации, чем Германия) не могут быть признаны полностью невосприимчивыми к болезни вырождения. Нордау заклеймил Ибсена как "нравственного кретина", а в Толстом видел избалованного вельможу, до того глупого, что он завидует не столько здоровому рассудку крестьянина, сколько его простой вере, и задает детские вопросы, на которые нет и не может быть ответа, вроде: "Зачем я живу?", хотя всем здравомыслящим людям давно известно, что жизнь цели не имеет.
Из русских сравнительно здоровым признается Тургенев. Английские прерафаэлиты вызывают у Нордау не меньшее возмущение, чем Оскар Уайльд. Атавизм своих современников Нордау толковал попросту как зверскую жестокость, начиная с "графомана" Вагнера, все особенности искусства которого, по его мнению, указывают путь не вперед, а в далекое прошлое, и кончая Ницше, мечтающем о свободно рыскающем хищном звере. Впрочем, Нордау по-своему был не менее безжалостен, чем Ницше. Если справедливо, как то осмеливаются утверждать некоторые критики, что дегенеративная психопатическая восприимчивость жизненно необходима деятелю искусства, значит, заявлял он, человечество будет продолжать строить общество, основанное на добре, без искусства, хотя это, несомненно, разрушит многие приятные иллюзии.
"Наука, — писал Нордау, — не колеблясь объявила многие вероучения субъективным заблуждением человека; она, следовательно, еще менее будет колебаться признать искусство болезненным, если факты убедят ее в этом"9.
Я так подробно остановилась на Нордау не только потому, что его книга может служить как бы "отрицательным сводом" космополитических истоков русского символизма, а взгляды автора типичны для так называемой "либеральной цензуры" как в России, так и в Западной Европе, но еще и потому, что книга "Entartung" встревожила и непосредственно повлияла на старейшину русской народнической критики Н. К. Михайловского, который поместил рецензию на первое немецкое издание книги Нордау в январском номере журнала "Русское богатство" за 1893 год. Оценку Толстого, данную автором, Михайловский отверг, но он горячо согласился с тем, что простых граждан надлежит защитить от очень незначительного меньшинства, от открыто увлекающихся "новыми течениями"... Убеждения старого радикала находились в полном согласии с идеей Нордау, согласно которой право осуществлять непреклонный бойкот должно принадлежать не полицейским и даже не церкви, а литературным критикам и всем здоровым нравственно людям10.
Уже в следующем номере журнала Михайловский почувствовал себя обязанным применить право бойкота по отношению к одному русскому автору и сделал это, как он, без сомнения,
14
искренне считал, чтобы оградить здоровую юность своей страны. Его выступление немедленно привлекло широкий интерес к первому серьезному анализу "новых течений" в России. Автором этого анализа был его же бывший ученик, молодой поэт и эссеист Дмитрий Сергеевич Мережковский.
По мнению Михайловского, тот факт, что Мережковский опубликовал за собственный счет две лекции, прочитанные им 7 и 14 декабря 1892 года в Санкт-Петербурге — "О причинах упадка и о новых течениях
современной русской литературы",
—заслуживает сожаления. Особенно скорбит он потому, что автор лекций, стяжавший себе известность среди народников как критик и поэт, счел возможным опубликовать в том же
1892 году в консервативном издательстве Суворина первый сборник своих стихов и дать ему названье "Символы"11.
Трудно было ожидать от Михайловского, только что защищавшего Толстого от Нордау, признания, что существующие в России условия способны стихийно породить литературный декаданс. "Мы еще слишком молоды, чтобы до такой степени извериться в жизни и до такой степени ее бояться, — писал он.
—Во Франции и вообще в Европе не одни символисты возвращаются к мистике. Там есть еще "маги", "необуддисты", "теософы" и другие разные". Художественным выражением этих тенденций служат символизм и импрессионизм. "Но одно дело — Франция,
— подчеркивал Михайловский, — и другое дело — Россия"12. Хотя поэзия Мережковского символистской была только по наименованию, настроения "конца века" она отражала. Кроме того, название сборника
декларировало намерения автора и говорило о его солидарности с французской школой, незадолго до того удостоившейся довольно сочувственного отзыва Зинаиды Венгеровой во влиятельном журнале "Вестник Европы"13.
8 своем полемическом ответе на брошюру Мережковского Михайловский отметил эту связь. Он признавал, что в развитых капиталистических странах, таких, как Франция, появление символизма и других симптомов культурного истощения, например крайнего индивидуализма и эстетства, оправдано как выражение "возмущения". Но против чего возмущался г-н Мережковский здесь, в сельской примитивной России?
По сути дела, Мережковский возмущался конечно же людьми, подобными Нордау в Европе и в России, которые считали, что без искусства вполне можно обойтись, определяли веру как субъективную ошибку, а нравственность как предрассудок настолько "полезный", что его следует защищать палками и дубинками. Он протестовал против целой породы людей, которых его будущий союзник Василий Розанов в статье, написанной также в 1892 году, окрестил печальными утилитаристами двух последних веков, безрадостными устроителями человеческого счастья14. Мережковский возмущался также филантропами, чью любовь к ближним Николай Минский — как и он, народник-отступник — назвал "показной, не жгучей, их самих не сжегшей любовью"15.
15
Однако, протестуя, Мережковский не выступал в качестве поборника современного искусства, подающего голос из-за границы. "Непростительная ошибка — думать, что художественный идеализм какое-то вчерашнее изобретение парижской моды, — писал он. — Это возвращение к древнему, вечному, никогда не умиравшему"'6.
Другой бывший союзник, Аким Волынский, мгновенно отреагировал на то, что Мережковский употребляет здесь слово "идеализм" не в философском смысле, а с наивностью институтки, в качестве собирательного термина: у Мережковского, возмущается критик, "идеализм" — "погоня за неиспытанным, неуловимым, темным и подсознательным, это любовь к народу, основанная на пламенной и глубокой субъективности, а не на утилитарном политико-экономическом расчете"17.
Мережковский отстаивал новые технические приемы в искусстве потому, что три главных элемента нового искусства — "мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности" — позволяют выражать не только то, что лежит по эту сторону явлений, не только залитую ярким светом твердую почву науки, но и "глубину священного незнания", ночь, из которой все мы вышли и в которую должны неминуемо вернуться.
Здесь налицо признание кантовской теории познания (вместе с отчаянным желанием уйти от нее), заслуживающее брошенного Волынским упрека в вольном употреблении слова "идеализм". Мережковский считал, что Кант воздвиг циклопическую постройку, — плотину между жизнью, которую мы можем наблюдать и понимать, и смыслом жизни. Для людей типа Нордау и Михайловского, немало внимания уделившим вопросу о расширении границ науки и совершенствовании общества, кантовская постройка была защитной ширмой. Однако Мережковскому, как выразителю новых поисков в искусстве, она казалась скорее глухой стеной. По мнению молодого критика, задача современного искусства состояла в исканиях за пределами мира чистого разума, где всегда и неизбежно господствует закон причинности. Если абсолютной истины невозможно достигнуть с помощью дедуктивного процесса, то относительность символов позволяет по крайней мере приблизиться к ней. Иллюстрируя свою мысль, Мережковский упоминал сохранившиеся в Парфеноне следы барельефа, изображающего нагого юношу, который ведет молодого коня и спокойно и радостно мускулистыми руками укрощает его. Ритмические пропорции скульптуры передают идею родства человека с миром природы и его главенствующей роли в нем. Происхождение и назначение человека стихийно и гармонично символизировала красота скульптурной группы. "Символы должны естественно и невольно выливаться из глубины действительности", — поясняет он. Иными словами, символизм состоит не в том, чтобы объяснять одно известное
