
книги2 / 261
.pdf
Д. В. Мухетдинов Мухаммад ʻАбдо и всемирно-историческая миссия ислама 321
в обществе то же место, какое разум занимает вустройстве отдельного человека. Египетский мыслитель резюмирует свое понимание призвания пророка следующим образом:
«[Пророки] наставляют разум к познанию Аллаха и Его атрибутов; равным образом они указывают на ту границу, у которой следует остановиться [искателям] сего знания, не теряя уверенности в [словах] Аллаха и дарованных Им силах. Они объединяют [людей] истины [в вере] в единого, не имеющего сотоварищей Бога, общаются с одним лишь Ним; они понуждают свои души устремляться к [Аллаху] во всех делах и отношениях, напоминают [народам] о величии [Всевышнего], устанавливая для них различные виды поклонений — напоминание для забывчивых и очищение для богобоязненных, поддержка для слабых и уверенность для несомневающихся. [Господни посланники] снимают противоречия, [возникающие] между умами и страстями, выгодами и удовольствиями: они, руководствуясь велением Аллаха, разрешают споры и своею проповедью блюдут всеобщее благо и частный интерес, восстанавливают дружелюбие между людьми и открывают им тайну любви, говоря о том, что [именно любовь] объединяет общество. [Избранники Бога] обязывают [правоверных] сражаться с [греховностью] душ и впускать [добродетель] в сердца, они учат тому, что необходимо хранить чужие права, не забывать о своих и не преступать пределов [Закона]; они обязывают сильных помогать слабым, разумных— заблудшим, а мудрецов — невеждам » 15.
Пророки отваживают и мотивируют, напоминая людям о том, что им доступно не только крайнее падение, но ивеличественное возвышение. Пророк — это единение особенного и универсального в одном лице, а потому, если он входит в сознание верующих конкретного духовно-историческо- го мира как объективная данность, то способен обеспечивать связующие человека наставляющие смыслы. Пророк, по словам ʻАбдо, как бы очерчивает, прорисовывает общую сферу действия, практическую сферу, в которой человек обретает опору, становится по-настоящему особенным исознательным, а не расползается на мимолетные страсти, случайные склонности, благие и порочные душевные порывы без какого -либо единящего центра. Гегель в таком случае говорит о нравственности. С тем же успехом можно говорить о совести, потрясенной совести человека, осознающего свою
15 Абдо М. Трактат о единобожии. С. 155–156.

322 |
I. Исследования |
|
|
связь с абсолютным. Та║вā, которую нередко переводят как «богобоязненность» (хотя Ф. Рахман предложил более глубокий и точный по смыслу перевод — «богоосознание»), близка к такому пониманию совести. Речь идет не о чем -то исключительно внутреннем, но о чем -то мироориентирующем, не удовлетворяющемся пребыванием внутри себя. Таква проявляет себя в упорной любви, поддержке слабых, защите справедливого социального порядка, солидарности, житейском уме (в пределах, свободных от эгоцентризма), великодушии, свободной мысли (не вольнодумстве!). Она освобождает человека для исполнения им своего предназначения.
Предназначение это, согласно ʻАбдо, не подразумевает требования от каждого совершить нечто «небывалое», сотворить нечто «нетленное» и «самоценное». Нетленное, вечное, самоценное — это вещи, которые уже окружают человека и уже образуют его блаженство, когда от случая к случаю становятся содержанием его разума (как деятельного, так и теоретического). Задача человека, скорее, заключается в том, чтобы избавиться от всего наносного, лишнего, мешающего подступиться. Милость Божья, образно говоря, не сокрыта в недрах бытия, а находится на расстоянии вытянутой руки. Пророческая религия в описании ʻАбдо служит становлению свободного духа человека, придавая людям дисциплинированность, вкоторой они нуждаются по мере развития разума. Она не устанавливает заслон между разумом человека и объективным сущим, которое может быть «объективно разумным», а, напротив, обеспечивает переход разумности от субъективной (прежде всего— индивидуально -личностной) сферы кобъективной (к целостной взаимосвязи свободных разумов, вовлеченных впроизводство общих норм, правил, установлений). Религия, взятая в качестве живого элемента духовной жизни, учит человека дисциплинированности, т. е. напоминает о стоящем над ним Законе и Законодателе.
Этот конструктивный опыт подчинения расширяется вобщесоциальное пространство. И здесь, как полагает ʻАбдо, разумный знает, что неисполнение повеления правителя влечет за собой конкретные результаты, несущие угрозу ослушавшемуся 16. Однако само подчинение оставлено на совесть
16 Следующий пример приводитсяʻАбдо для оправдания наличия учеловека ответственности за самостоятельный выбор, добровольность которого не снимается никаким, даже самым достоверным знанием о необходимом: «Упрямый человек достоверно знает, что добровольное непослушание эмиру с неизбежностью влечет за собой наказание правителя, однако он решается на бунт иполучает [заслуженное] наказание; его знание, соответствовавшее действительности, никак не повлияло на его выбор, оно не смогло ни запретить ему [совершить преступление], ни подтолкнуть кнему» (Абдо М. Трактат о единобожии. С. 93).

Д. В. Мухетдинов Мухаммад ʻАбдо и всемирно-историческая миссия ислама 323
гражданина, как и поклонение — целиком на совесть верующего. Именно поэтому в перспективе мысли ʻАбдо невозможно обосновать никакую «богословскую этику» подчинения правителям, которая предписывала бы подчиняться или не подчиняться им без обращения к инстанции разумной оценки. Даже если во множестве случаев неподчинение несет вред связности социальной ткани, все -таки подчинение не может быть навязано в качестве общего рецепта, поскольку порой оно противоречит совести верующего. И даже если это «ложная совесть», вытекающая из духовной гордыни, все равно человек не сможет найти более авторитетного критерия, чем внутренний голос разума, осмыслившего актуальные общественные нормы («объективный дух»).
Итак, пророческая религия, согласно ʻАбдо, способствует процветанию человеческого общежития, но она является лишь одним из факторов исторического становления цивилизационной целостности. Для того чтобы осуществить свой потенциал, она должна быть встроена в системную взаимосвязь установок человеческого сознания, привычек, норм права, государственного устройства, искусства, общественных институтов, говоря по-гегелевски, в «объективный дух». Само появление пророческой религии, даже наиболее совершенной из них— ислама , не гарантирует того, что из среды соотнесения субъективного и объективного, точки их взаимного образования, культурного центра она не превратится в средство для эгоистичных властолюбцев, стремящихся к самореализации в политической или интеллектуальной сфере.
Приходит на ум еще одна интуиция Гегеля: конститутивным моментом государства в «восточных культурах» может оказаться голая борьба за власть, а не координация всех прочих общественных подсистем и человеческих индивидов 17. По сути, об этом же говорит и ʻАбдо, а его призыв вернуться к чистой религии времен Пророка и благочестивых предков, избавив унаследованную религию от многочисленных слоев чужого властолюбия и ограниченности, есть призыв к возвращению религии центрального статуса в культуре 18. Иначе говоря, это призыв к ее трансформации в ту среду, где продуктивно смыкаются культурные нравы, индивидуальная нравственность, институты, разум, особенности его практической
17 Ср. яркий пример Индии:Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. С.202–203.
18 Возвращение пророческому посланию центрального места в культуре равнозначно возвращению общества к своей внутренней разумности: «То, о чем мы рассуждали выше, доказывает нужду человеческого мира в [пришествии] посланников, занимающих в [людском обществе] место разума в[человеческом существе]» (Абдо М. Трактат о единобожии. С. 156).

324 |
I. Исследования |
|
|
и теоретической позиции, отличающие данную историческую единичность, и устремление ко всеобщему. Но речь идет уже не о том всеобщем, из которого мы все вышли, а о том, которое было бы обогащено опытом конкретного исторического развития и в этом опыте достигло бы самопонимания — понимания себя как уникального исторического агента с присущим тому всемирно-историческим горизонтом. Лишь та традиция, которая по-настоящему пережила историческое развитие и прошла в своем становлении цепь уникальных событий, обретает материал для «разумного освоения» и простор для «реализации своей свободы», т. е. для наиболее разумного (из всех возможных) устроения цивилизационного целого. Отсюда не следует, что таковым разумным устройством окажется какое -то партикулярное единственное. Все зависит от того, как именно в ходе истории снимется напряжение между «единичным» отдельного народа (или единичным «религиозной традиции») и его всемирно-исторической ориентацией, включая тягу к объективности и желание предоставить другим народам (традициям) язык для самопонимания. Никакие философ- ско-исторические принципы (а спекулятивная теология ʻАбдо имеет свое диалектизируемое философско-историческое содержание) не позволяют предсказать организацию будущего социально-политического и культур- но-исторического «идеального» образования.
ʻАбдо может предоставить лишь неопределенную дескрипцию этого общества: речь идет о мире, где каждый добровольно занимает подходящую ему меру, с совестью подходит к выполнению своих дел и поддерживает открытой возможность дальнейшего общественного развития. Египетский мыслитель пишет: «Единственными основаниями [общества] остаются верование итрадиции, основывающиеся на религии. Религиозный фактор есть, следовательно, сильнейший фактор [становления] общественных и частных нравов, он овладевает душами сильнее, чем отличительное их свойство — разум » 19. ʻАбдо имеет в виду, что подлинно единящей основой социума может быть лишь нечто неабстрактное, далекое от умозрения, непосредственно чувствуемое («бытийное чувство», говоря его словами). Религиозность, воля к вере и склонность к поклонению — общая природа души, одной из способностей которой является разум. Это обстоятельство одновременно усмиряет неадекватные притязания разума, т. е. делает его разумным, и рождает проблемы.
Религия не является «разумной» всегда ипо умолчанию, однако, убежден ʻАбдо, наш долг поддерживать ее максимальную разумность, если мы желаем сохранить религию вкачестве медиатора между нашим индивидуальным
19 Абдо М. Трактат о единобожии. С. 165.

Д. В. Мухетдинов Мухаммад ʻАбдо и всемирно-историческая миссия ислама 325
разумом (со всей целокупностью присущей ему субъективной жизни)
иобщественным порядком, т. е. если мы желаем сохранить нашу субъективность продуктивной в образовании объективных отношений. Речь идет
ио таких объективных отношениях, как добродетели (мы уже говорили об основной из них — упорстве), посредством которых человек позитивно отчуждает себя от замкнутости в наличном порядке. Добродетели, имеющие идеально-нормативное бытие, объективны (с точки зрения встроенности в социальную ткань), поскольку обеспечивают крепкую связь многообразия индивидов в публичном пространстве. Это нечто личностное и выходящее за пределы личности в одно и то же время, т. е. «общее место», завоеванная всеобщность, не стирающая уникальность человека, — скорее, нечто образующее ее.
Отметим, что философия истории Гегеля была нужна нам лишь в качестве парадигмального примера «глобальной истории», без тематизации которой остались бы непонятны все метания и заботы ʻАбдо, убежденного в отсталости исламской цивилизации по причине плохого, неразумного обращения с религией. Мы уверены, что самое культуррелятивистское историческое исследование, если оно способно сообщить нам значимую информацию, содержит в себе (пусть неявно) некоторую модель всемирноисторического контекста. Любая локальная история подразумевает сопутствующую версию-схему глобальной истории, в стержневых своих характеристиках остающуюся квазигегельянской (пусть и не гегелевской, пусть и многократно подвергшей ревизии гегелевский европоцентризм). Разные линии развития единичных традиций по особенному пути производят свою неповторимую исторически-действующую «всеобщность», т. е. ту плоскость, в которой индивид обретает форму благодаря смычке случайных исторических обстоятельств и их содержания, возвышенного до необ- ходимо-универсального.
Полное возвышение случайного до необходимо-универсального, упраздняющее всякое напряжение между локальным иглобальным, было бы «эсхатологическим событием». Это то, о чем следовало бы молчать, но над чем каждый духовно-исторический культурный мир по-своему работает, если сохраняет достаточную внутреннюю целостность. Центральным элементом цивилизационной целостности является такая координация всех ее значимых элементов, которая продолжает обеспечивать возможность перевода сязыка одной партикулярной традиции на язык другой. Вэтом переводе свершается нечто всемирно-историческое, традиции растождествляются и демонстрируют собственное отличие от неподвижной природы через участие в них свободных разумов. Свободный разум обладает мощью (отпущенной ему Творцом) преодолевать собственную ограниченность и межчеловеческую

326 |
I. Исследования |
|
|
рассогласованность, расширяя пространство (меж)культурного согласова-
ния, а значит, и образовывающей, воспитывающей добродетели, ин-фор-
мирующей объективной связи. Чужая ментальность становится предметом нашей рефлексии и перестает быть только духовной субстанцией, прорываясь к материи, наличному миру. В таком самопревосхождении, в таком сверх-себя-бытии воплощают себя дух, все возможные наброски разума, все манифестированные в нашей практике идеи, некий опосредующий осмысливаемый переход между «еще не» и «уже», «свободой» и «природой», покоем и движением, верой идеяниями, наконец. Таков способ бытия действительной исторической традиции.
Как мы видим, религиозный фактор общественного развития, окотором упоминал ʻАбдо, является не просто изолированной религией, но религией в ее многочисленных связях с сопряженными реалиями, институциями, культурными формами — словом, объективными историческими факторами, образующими ту или иную характерную «разумность». Так, общественное благополучие и процветание зависят от религии, действенность которой зависит, в свою очередь, от целого ряда условий: от такой, казалось бы, банальности, как хорошее знание верующими языка своего Писания, от сопротивления политической манипуляции религией, от общего уровня образованности, от господствующего умонастроения — подражательного (таклидного) или критического. Эпохи, в которые господствует таклидное умонастроение (при всей фактической невозможности абсолютного таклида, начисто лишенного творческой составляющей), не могут стать порой ренессанса, возрождения. После сказанного в главе уже нет нужды подробно останавливаться на том, что обновление (тадждид) веры Мухаммад ʻАбдо связывает со всесторонним религиозным возрождением.
Религиозное возрождение он понимает вполне в духе классической традиции: он признает классические мазхабы, заслуги исламских философов и мутакаллимов, хотя и не отказывает себе в возможности их резко покритиковать при случае; он даже признает допустимость (но не обязанность!) следовать за кем-то, если ты пытаешься при этом осознать аргументы своего авторитета и обрести внутренний мотив следования, отграничивающий его от механических внешних действий, которые мог бы исполнить неотличимый от человека автомат. Размышления ʻАбдо на страницах «Рисāлат ат-тав╝ӣд» несут на себе следы отчасти ашаритского и во многом матуридитского богословия (например, в вопросе сотворенности словесного выражения Корана и вечности его смыслов 20). «Неомутазилитом» ʻАбдо называли идейные противники, акцентируя его
20 См. разбор этой темы в статье Р. Виланд в данном сборнике.

Д. В. Мухетдинов Мухаммад ʻАбдо и всемирно-историческая миссия ислама 327
чрезмерную, на их взгляд, защиту рациональности, терпимое отношение к философам и личную склонность к апофатическому богословию (впрочем, его трактат, несомненно, гармонично сочетает оное с богословием катафатическим), а также настойчивое повторение мотива обязательной справедливости. Единственным серьезным основанием для причисления ʻАбдо к лагерю неомутазилитов в строгом смысле слова является его высказывание в самом первом издании «Рисāлат ат-тав╝ӣд», где упомянут «сотворенный Коран». Опираясь на последующие издания трактата и отсутствие каких-либо сторонних свидетельств того, что египетский мыслитель когда-либо разделял именно мутазилитскую концепцию сотворенности, современные исследователи предпочитают говорить о неудачной формулировке 21. По совету друзей ʻАбдо спокойно исключил данное выражение из более поздних изданий своей работы.
Да, в учении ʻАбдо видны элементы так называемого интеллектуального салафизма — явный след влияния ал-Афгани, однако он никогда не преступал черты умеренности: так, теолог оставлял за верующими право на индивидуальное толкование возможности чудес. Его отношение ксуфизму, несмотря на критику некоторых его внешних форм, оставалось относительно мягким (по сравнению с огромным числом исламских модернистов) 22. Под интеллектуальным салафизмом мы подразумеваем установку, которая носила прежде всего не политический, а научно-методический характер. Интеллектуальный салафизм ʻАбдо прослеживается во фразеологии в духе «очистить ислам от наслоений», «вернуться вэпоху Пророка и первых двух праведных халифов», «избавить религию от нововведений», «преодолеть слепое подражание», «освободить ислам от сект и подразделений» и т. д. Тем не менее египетский мыслитель никогда не говорил о буквальном возвращении в прошлое — подобно тому, как христиане вправе ссылаться на благой опыт первохристианских общин, на «золотой век» вистории церкви, мусульманский богослов имеет право вводить свое нормативно-регулирую- щее понятие «идеальной общины времен жизни Пророка, его сподвижников и их последователей». Такое историческое соотнесение выглядит столь
21 Hildebrandt T. Waren Ǧ̌amāl ad-Dīn al-Afġ̇ānī und Muḥammad ʿAbduh Neo-Muʿtazi- liten? // Welt des Islams. 2002. 42.P. 207–262. Отметим, что даже такой ярый сторонник неомутазилизма, как Харун Насутион, не характеризуетʻАбдо как однозначно мутазилитского мыслителя, но лишь подчеркивает, что кмутазилизму близки отдельные аспекты его учения: Nasution H. The Place of Reason in ‘Abduh’s Theology. P. 253–267. Подроб-
нее см.: Мухетдинов Д. В. Ислам в Индонезии: обновленческое движение. М., 2023.
22 См.: Меликова Л. Шейх Мухаммад Абдо и его связь с тасаввуфом // Проблемы восточной философии. 2016. 21–22. С. 41–52.
328 |
I. Исследования |
|
|
понятным и естественным, что становится ясно: основная причина страха перед «салафитской» идеологией — это сопряженность ряда ее версий с диспозитивом глобального насилия, а не сам призыв обращаться за помощью к праведным предшественникам (ас-салаф а╕-╕āли╝).
Никто не станет спорить с тем, что на уровне общественного сознания
иорганизации государственных и надгосударственных институтов террор, который осуществляется от имени групп, называющих себя мусульманами (и, будем честны, себя таким образом идентифицирующих), стал поистине всемирно-историческим фактором. Во многом наличие исходящей от него угрозы задает внутреннюю «телеологию» и тенденции развития множества общественных отношений. Страх перед радикализацией молодых мусульман, обнаруживающих в «мировом джихаде» (или, точнее, псевдоджихаде) экзистенциальное наполнение собственной жизни, может иметь
именее эксплицитные, часто протекающие бессознательно следствия — например, укрепление пресловутого культурного релятивизма и бесконечного покаяния, ничего не меняющего ни в сознании, ни в материальном положении его адресатов. Уже сейчас можно сделать вывод, что одной исламской глобальности можно противопоставить только другую исламскую глобальность (здесь неважны схоластически выстроенные и политически мотивированные случаи вывода всех радикалов из ислама; речь идет
онекоторой исторической «манифестации» духа в горизонте, который агенты этой манифестации понимают как всемирно-исторический исламский горизонт). В фундаменте исламской традиции лежит принцип универсальности и подлинной историчности: этого не могут не осознавать (сбольшей или меньшей ясностью) сами мусульмане и не включать осознание этого положения в самопонимание исламской культуры. Поэтому описание сложившегося всемирно-исторического момента без выделения его внутреннего исламского измерения, без прояснения характера всемирно-историче- ского горизонта, присущего исламу— т. е. его описание без нередуктивного вписывания локальных традиций ислама в общий проект современности — приведет к негативным последствиям.
Это приведет к тому, что исторический ислам, раздробленный на множество групп и течений, будет раз за разом возвращаться как вытесненный
объект актуальной всеобщей истории. Для эффективного противодействия терроризму, говорящему от лица ислама, требуется действительно качественное изменение понимания того, что ныне составляет всемирно-историче- ский горизонт множества отдельных культур. Требуется переформатирование философско-исторического дискурса, реальных связей смусульманскими организациями и неформальное (т. е. серьезное и содержательное) укрепление исламских смыслов в публичном поле. Причем подразумевается такое
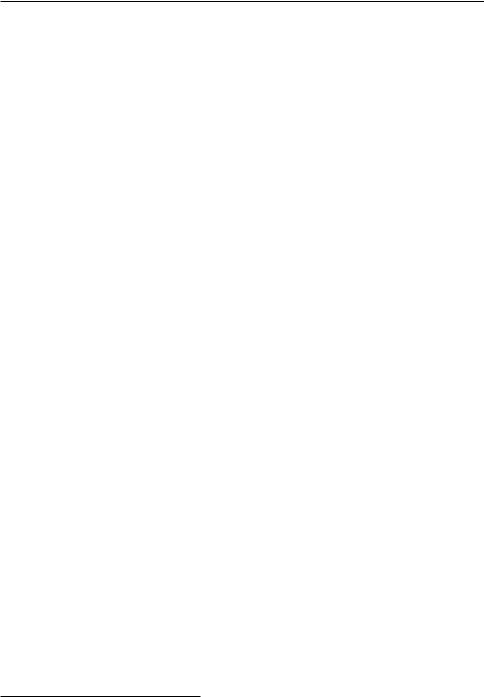
Д. В. Мухетдинов Мухаммад ʻАбдо и всемирно-историческая миссия ислама 329
укрепление, которое не подобно тому, что реализуется в случае очередных идеологем «мультикультурализма», которые люди просто терпят; нет, необходимо расширение образцов нашего «мультинатурализма» (термин бразильского антрополога Вивейруша де Кастру 23), т. е. перспектив понимания испособов обращения с природной данностью — иными словами, перспектив становления свободы, путей преодоления культурной инерции. Речь не идет об оправдании кого бы то ни было. Речь идет о снижении числа деструктивных общественных связей и о повышении числа продуктивных, если свершится приведение осознания масштаба собственной цивилизации как все- мирно-исторического явления, свойственного мусульманам, в соответствие с признанием этого осознания европейцами в качестве среды для самопонимания. Можно сказать, что даже без формального принятия ислама европейцы способны осуществить некоторое становление в рамках исламской универсальности, сопровождаемое проживанием этого опыта как самоценного опыта разумения и применения свободы. От степени интенсивности и многоуровневости этого становления зависит актуальный облик «всеобщей истории», т. е. дорефлексивно принимаемая в качестве «благой» и «разумной» телеология цивилизационного развития. Это преобразование не должно носить искусственного характера, а значит, оно во многом зависит от упорства самих мусульман — от их умения предложить миру иную универсальность в сцеплении центральных категорий сознания и общественной жизни. Для ʻАбдо такой исходной, принципиальной универсальностью ислама является выстраивание целостности исторической жизни вокруг согласованных веры и разума. И вера, и разум имеют предназначение друг в друге, однако не смешиваются и не меняются местами.
Крайности и преувеличения в вопросе соотношения веры и разума, по мнению ʻАбдо, были главной причиной внутренних раздоров мусульманской общины. Именно они препятствовали полноценной цивилизационной интеграции ислама в исторически динамичный, целостный и открытый иному мир (прежде всего — культурно-религиозному иному), охватывающий проявлениями своего духа целый универсум. ʻАбдо критикует противостояние крайних рациональных теологов и ханбалитских буквалистов за их неспособность понять позиции друг друга, за неспособность перевести спор
вдискуссию о наиболее корректном словоупотреблении. Так, египетскому мыслителю было очевидно, что Ахмад ибн Ханбал, еженощно возглашавший Коран своим голосом, признавал сотворенность (словесного) Корана
втом же самом смысле, в котором это делали ашариты и матуридиты, хотя
23 Вивейруш де Кастру Э. Каннибальские метафизики. Рубежи постструктурной антропологии. М., 2017.

330 |
I. Исследования |
|
|
предпочитал делать акцент на несотворенных смыслах Писания инеразрывной связи между словесной формой и данными смыслами 24. Иначе говоря, очень многие вероучительные разногласия внутри исторического ислама (это лишь один пример) были обусловлены либо политическими причинами, либо фанатической преданностью формуле, едва ли сопровождаемой желанием отступить или пойти на небольшой компромисс, поскольку осмысленность для занятия более умеренной позиции постоянно вытеснялась как слабость и малодушие.
Что касается политических конфликтов, то это обычный исторический феномен, который, по мнению ʻАбдо, должен минимизироваться в исламском обществе. По самой своей природе (если сохраняется общая вероучительная основа) политические конфликты со временем будут преодолены, исчерпаны, оставлены, попросту завершены в ту или иную пользу, и люди смогут осторожно вернуться к определенному политическому единству. К сожалению, утверждает ʻАбдо, в исламской традиции все пошло несколько иначе: вместо того, чтобы отступать перед лицом стержневого вероучительного минимума, уникальной религиозности, собственно и делающей мусульманина участником всемирной истории, политические конфликты были теологизированы и расширены в сферу вероубеждения. Для разных групп перечень признаков, необходимых для того, чтобы считаться истинным мусульманином, варьировался всвоем объеме и пунктах; тем не менее значительная часть этих критериев появилась уже после рождения в мире арабо-мусульманского гения. Если раньше бытие мусульманином не требовало соответствия некоторым сектантским критериям, то и сейчас не требует, а критерии эти — лишь маркеры партийной принадлежности в той самой смешанности политического ирелигиозного, окоторой говорил Гегель.
Как мы видим, отсутствие четкой дихотомии религиозного / светского (впрочем, в некоторых отношениях она является проблемной и для европейской традиции) не мешает при осуществлении конкретных исторических описаний в качестве причины указывать именно политические или узкорелигиозные (т. е. вероучительные) расхождения. Кроме того, ислам знает различие му‘āмалāт и ‘ибāдат, а также не считает получение правоверным награды в ином мире достаточным основанием, чтобы отказывать в подобающей награде в этом мире (например, выплата работнику по договору). В этом контексте ʻАбдо может вполне осмысленно сформулировать и формулирует свой тезис, согласно которому упадок мусульманской общины связан с неверностью мусульман собственной религии. Кому -то покажется, что это всего лишь апологетическое оправдание ad hoc, однако
24 Абдо М. Трактат о единобожии. С. 69.
