
Экзамен зачет учебный год 2023 / Корпоративное право в ожидании перемен сборник статей к 20-летию Закона об ООО
.pdf
Оспаривание решений общих собраний участников (акционеров)
11.Оспаривание отрицательных решений собраний является допустимым как в случае, когда провозглашенное решение отличается от реально принятого (если бы подсчет голосов был произведен в соответствии с законом и уставом), так и при наличии злоупотребления правом со стороны мажоритария, благодаря голосу которого было принято отрицательное решение собрания. В обоих случаях к суду может быть обращено требование не только о признании недействительным решения собрания, но и о провозглашении положительного решения собрания.
Однако в целях юридической определенности возможность предъявления такого требования в суд должна считаться ограниченной сроком давности, аналогичным сроку на оспаривание решения. Кроме того, в таком судебном процессе должны иметь возможность принять участие все участники с правом заявлять возражения относительно действительности решения.
12.Имеются серьезные перекосы в судебной практике в части предельного срока на предъявление требования об оспаривании решения общего собрания участников, поскольку суды произвольно ввели несколько видов де-факто объективных сроков, притом что объективный предельный срок уже установлен в законе (п. 5 ст. 181.4 ГК РФ).
Целесообразно обсуждение вопроса о том, чтобы применительно
кхозяйственным обществам был установлен иной, более короткий объективный предельный срок. В качестве компромиссного подхода можно было бы рассмотреть возможность введения сокращенного объективного срока на оспаривание решений, связанных с наиболее значимыми корпоративными действиями, которые могут существенно повлиять как на само общество, так и на третьих лиц (например, эмиссия облигаций, увеличение уставного капитала, реорганизация).

Р.В. Макин,
магистр юриспруденции (РШЧП) АБ «Инфралекс», ИЦЧП им. С.С. Алексеева
ОБОРОТ ДОЛЕЙ В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ:
РЕГУЛИРОВАНИЕ НА МОМЕНТ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА ОБ ООО,
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
С момента принятия в 1998 г. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО) претерпел существенные изменения практически по всем значимым вопросам, относящимся к регулированию оборота долей. Так, был изменен режим совершения сделок в период жизни сторон (сделки inter vivos), а также сделок на случай смерти (mortis causa), порядок легитимации участников общества, допустимые запреты и ограничения при передаче долей и т.д. Кроме того, в законодательстве появились совершенно новые институты, например: возможность добросовестного приобретения доли, восстановление корпоративного контроля над долей и т.д.
Всвязи со значимостью внесенных законодателем изменений
внастоящей статье будет проанализировано регулирование правоотношений, касающихся оборота долей, в ретроспективе и с учетом актуальной редакции Закона об ООО1. Отдельно будут рассмотрены некоторые актуальные проблемы, обусловленные действующими нормами законодательства, а также предложены их решения.
Вкратце обозначим методологию анализа, использованного при подготовке настоящей статьи, и построение самой статьи.
Внастоящее время система регулирования оборота долей в ООО
восновном базируется на изменениях, внесенных в Закон об ООО Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 312-ФЗ «О внесении из-
1 Здесь и далее «актуальная редакция» Закона обозначается как Закон об ООО.
272

Оборот долей в обществе с ограниченной ответственностью
менений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 312). В связи с этим когда мы говорим о первоначальной редакции Закона об ООО1, имеем в виду регулирование, действовавшее до Закона № 312. Впрочем, уже после вступления в силу Закона № 312 в Закон об ООО законодателем также был внесен ряд изменений2, однако с учетом их меньшего объема данные изменения специально не анализировались.
Что касается построения статьи, то вначале излагается законодательный материал, имевшийся до вступления в силу Закона № 312, затем приводится действующее регулирование оборота долей, далее рассматриваются некоторые проблемы в связи с действующей редакцией Закона.
1. Передача доли inter vivos
Закон об ООО знает две разновидности сделок inter vivos: (1) сделки по передаче доли лицу, которое является участником общества, и (2) сделки по передаче доли лицу, которое на момент совершения сделки не являлось участником общества.
Позиция законодателя в части сделок inter vivos значительно изменилась с момента принятия Закона об ООО, причем как в части оформления процедуры передачи, так и в части «материальных» условий передачи долей. Рассмотрим порядок совершения сделок inter vivos применительно к вопросу об условиях таких сделок.
1.1.Первоначальная редакция Закона об ООО
Впервоначальной редакции Закона об ООО правила о передаче доли inter vivos отличались в зависимости от того, кто должен был стать приобретателем доли. В том случае, если приобретателем доли (по договору купли-продажи или по иному основанию) становился один или несколько участников, согласия общества или других участников не требовалось (п. 1 ст. 21), хотя уставом могло быть предусмотрено противоположное правило (п. 1, 8 ст. 21). Если общество решало вос-
1 Здесь и далее используется термин «первоначальная редакция Закона об ООО».
2 См., например: Федеральный закон от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
273

Р.В. Макин
пользоваться правом на установление обязанности получения согласия на передачу доли одному или нескольким участникам, законодатель расценивал в качестве согласия отсутствие отказа общества или участников в согласовании совершения сделки (п. 8 ст. 21).
Что касается передачи доли inter vivos третьим лицам, то нормы законодательства значительно отличались. Во-первых, в законе была установлена норма общедозволительного характера о том, что продажа или уступка доли третьим лицам допускается, если это не запрещено уставом общества (п. 2 ст. 21 Закона об ООО). При этом законодатель устанавливал норму защитного характера в отношении участников,
всоответствии с которой участники пользовались преимущественным правом покупки доли по цене предложения третьему лицу и пропорционально размеру своих долей (п. 4 ст. 21 Закона об ООО). Во-вторых,
взаконе допускалась возможность получения согласия общества или иных участников на уступку доли третьим лицам иным образом, чем продажа (п. 5 ст. 21 Закона об ООО).
1.2.Актуальная редакция Закона об ООО
Вчасти, касающейся отчуждения доли inter vivos в пользу одного или нескольких участников общества, законодатель оставил прежнее регулирование без изменений1.
Аналогичным образом законодатель не стал менять общие контуры системы регулирования сделок inter vivos с третьими лицами, оставив и возможность запрета уставом отчуждения долей третьим лицам (абз. 2 п. 2 ст. 21 Закона об ООО), и обязанность по соблюдению режима права преимущественной покупки доли другими участниками (п. 4 ст. 21 Закона об ООО). Вместе с тем законодатель в значительной степени изменил детали регулирования порядка осуществления права преимущественной покупки доли.
Во-первых, были внесены изменения относительно цены приобретения доли при реализации преимущественного права. В законе теперь установлено, что цена доли участника, желающего передать ее (долю) третьему лицу, определяется по цене, предлагаемой третьему лицу, либо по цене, заранее определенной в уставе (абз. 1 п. 4 ст. 21
1 Так, в п. 2 ст. 21 Закона об ООО в актуальной редакции закреплена презумпция свободного отчуждения доли в ООО одному или нескольким участникам общества. В абз. 2 п. 10 Закона установлено, что отсутствие отказа в предоставлении согласия на отчуждение доли одному или нескольким участникам приравнивается к получению такового.
274

Оборот долей в обществе с ограниченной ответственностью
Закона об ООО). В данной части законодатель также указал, что цена приобретения доли может быть определена как в твердой денежной сумме, так и в зависимости от одного из установленных в уставе критериев (стоимость чистых активов, балансовая стоимость активов, чистая прибыль и т.д.) (абз. 3 п. 4 ст. 21 Закона об ООО).
Во-вторых, установлено, что преимущественное право приобретения может распространяться не на всю долю (часть планируемой к отчуждению доли), но на ее часть (часть части доли, которую участник планирует продать третьему лицу) (абз. 5 п. 4 ст. 21 Закона об ООО).
В-третьих, в актуальной редакции Закона об ООО закреплено, что участники могут приобрести долю (часть доли) непропорционально размеру долей (абз. 6 п. 4 ст. 21 Закона об ООО).
1.3.Некоторые проблемные вопросы в связи
сактуальной редакцией Закона об ООО
Возможность участника, желающего продать долю третьему лицу, отказаться от сделки с участником при реализации им преимуществен-
ного права приобретения доли
На практике одним из проблемных вопросов является ситуация, когда имеется третье лицо, готовое приобрести долю за определенную сумму, но участники общества также выражают согласие реализовать свое преимущественное право. При этом выходящему участнику заранее понятно, что хотя участники и желают приобрести долю, их финансовые способности ограничены и имеется риск неоплаты ими покупной стоимости доли либо имеют место какие-то другие обстоятельства (например, личная неприязнь). В этом случае у выходящего члена компании может возникнуть желание отказаться от сделки с участниками компании, желающими, в свою очередь, реализовать право преимущественной покупки.
Ответ на данный вопрос зависит от надлежащей правовой квалификации предложения участника о приобретении его доли остающимися в компании лицами. Как видно из текста закона, законодатель использует термин «оферта» (п. 1 ст. 21 Закона об ООО), что явным образом отличается от терминологии, используемой в законодательстве применительно к непубличным акционерным обществам (НПАО). В отношении последних законодатель оперирует термином «извещение»1,
1 В соответствии с п. 4 ст. 7 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) акционер, намеренный осуще-
275

Р.В. Макин
а судебная практика отказалась квалифицировать такие извещения в качестве оферт1.
Кроме того, применительно к ООО законодатель говорит, что иные участники (общество) совершают именно акцепт оферты (абз. 1, 3 п. 5 ст. 21 Закона об ООО). Иными словами, применительно к ООО
законодатель, судя по всему, не считается с тем, что выходящему участнику может быть по каким-то причинам неинтересно продавать долю остающимся членам корпорации, но обязывает его это делать2.
С другой стороны, как представляется, в уставе могут содержаться положения, которые бы гарантировали интерес выходящего участника в получении исполнения от остающихся в обществе участников. В частности, ничего не мешает предусмотреть обязанность предоставления со стороны участников, реализующих преимущественное право, обеспечения исполнения обязательства по оплате стоимости доли вы-
ствить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом непубличное общество, устав которого предусматривает преимущественное право приобретения отчуждаемых акций.
1 См., например: п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.06.2009 № 131 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном праве приобретения акций закрытых акционерных обществ» (далее – Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 131), постановления Тринадцатого ААС от 13.07.2017 № 13АП-7353/2017, 13АП-7233/2017, 13АП-7232/2017 по делу № А5681736/2016; ФАС Северо-Кавказского округа от 05.06.2013 по делу № А32-10775/2012.
2 Если буквально толковать положения п. 4 ст. 7 Закона об АО, то для НПАО получается противоположный ответ: выходящий акционер может принять предложение действительных акционеров, если оно покажется для него более выгодным. С логической точки зрения такое решение одной и той же спорной ситуации для достаточно похожих между собой корпоративных образований (ООО и НПАО) можно объяснить только если тем, что законодатель расценивает НПАО как некое промежуточное звено между
ООО (где нужно максимальным образом не допустить третье лицо в число участников и сделать общество еще более закрытым по сравнению с НПАО) и АО (где по общему правилу получение лицом статуса участника является свободным).
Впрочем, нельзя не отметить, что предложенное российским законодателем решение для НПАО имеет аналоги на Западе. В частности, некоторые испанские авторы, комментирующие положения Закона об обществах с ограниченной ответственностью 1995 г. (Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada), который в части оборота долей практически идентичен действующему Закону о компаниях (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital), отмечали, что в испанской доктрине нет ясности относительно последствий того, что общество представляет предложение о приобретении доли выходящего участника. В том случае, когда общество представило его, участник вправе отказаться от его принятия. Более подробно см.: La sociedad de responsabilidad limitada / Campuzano A.-B. Valencia: Tirant lo Blanch, 2009. P. 251–252 (автор комментария – A. Corrales).
276

Оборот долей в обществе с ограниченной ответственностью
ходящего участника. Например, в уставе может быть предусмотрено условие о предоставлении поручительства по такому обязательству. Ничего не мешает закрепить в уставе и условие о предоставлении участником, реализующим преимущественное право, банковской гарантии выходящему участнику.
Границы права определить в уставе цену приобретения доли в рамках
реализации преимущественного права
Как было указано выше, законом установлено право участников заранее определить цену приобретения доли выходящего участника, которая отличается от цены предложения третьему лицу. В связи с появлением этой нормы в законе появляется вопрос, можно ли установить какие-либо границы при осуществлении участниками своего права на закрепление в уставе заранее определенной цены? Например, можно ли говорить о том, что положения устава о заранее определенной цене являются ничтожными, если установлено, что доля должна быть продана за 1 руб., хотя на момент совершения сделки ее действительная стоимость многократно превышает данную цену? Другой вариант – когда цена приобретения является заведомо завышенной?
Некоторые российские авторы со ссылкой на реформированные положения Закона об АО (абз. 3 п. 3 ст. 7) допускают возможность игнорирования судом положений устава ООО о заранее определенной цене, если на момент осуществления преимущественного права такая цена существенно ниже рыночной стоимости доли1.
Хотя данное положение и может применяться по аналогии, как представляется, его применение должно быть ограничено весьма редким перечнем случаев2.
1 См., например: Кузнецов А.А. Пределы автономии воли в корпоративном праве: краткий очерк. М.: Статут, 2017. С. 111–112.
2 В американской практике вопрос несоразмерности стоимости отчуждаемой доли ее реальной стоимости был предметом рассмотрения судов еще в середине XX в. Как утверждают американские авторы, суды разных штатов очень неохотно идут на признание недействительными положений уставов, в которых закреплена такая формула определения цены отчуждаемой доли, в результате применения которой участнику выплачивается сумма, намного меньшая рыночной стоимости доли. Как правило, признание недействительными положений уставов в части закрепления такой формулы определения цены осуществляется лишь в том случае, если есть дополнительные обстоятельства, такие как обман (fraud). Более подробно см., например: Andre T. J.Jr. Restrictions of the transfer of shares: a search for a public policy // Tulane law review. Vol. 53. 1978–1979. P. 787–788; Rands W. Closely held corporations: restrictions on stock transfers // Commercial law journal. No 84. 1979. P. 465.
277
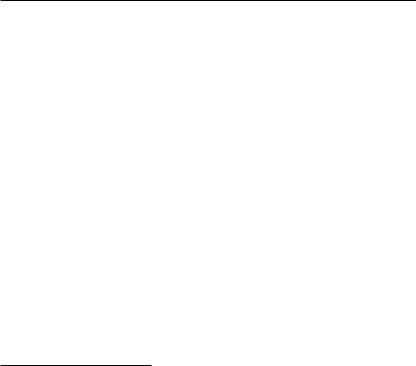
Р.В. Макин
Это связано с тем, что автономия воли участников по данному вопросу должна быть проигнорирована как можно в меньшем количестве случаев (идеально – лишь в случае нарушения свободной воли сторон). Немаловажно в этом контексте обратить внимание на то, что принятие положений о заранее установленной цене осуществляется участниками единогласно, т.е. участники своей свободной волей соглашаются установить для себя подобные ограничения (п. 4 ст. 21 Закона об ООО).
Из буквального толкования норм Закона об ООО также можно вывести желание законодателя сохранять силу за такими положениями устава. Это связано с тем, что закон указывает единственным ограничителем реализации права покупки доли по заранее определенной цене то обстоятельство, что данное право должно быть предоставлено всем участникам, а не кому-либо одному (абз. 7 п. 4 ст. 21 Закона об ООО)1, 2.
В связи с этим, как представляется, условие о заранее определенной цене суд может игнорировать лишь в тех случаях, когда участники, закрепляя его в уставе, не могут обосновать преследование какой-либо бизнес-цели (например, необходимость сосредоточиться на развитии компании, вывода ее из предбанкротного состояния и т.п.).
Кроме того, в рамках поставленного вопроса есть отдельная проблема и со сроком, в течение которого может действовать указан-
1 Иными словами, в данной части одни участники не должны быть дискриминированы по отношению к другим участникам (см.: Степанов Д. Реформа законодательства об ООО: к принципу свободы договора в корпоративном праве. Ч. II // Корпоративный юрист. 2009. № 7 (здесь и далее если в источнике не приведена ссылка на страницу, этот источник взят из СПС «КонсультантПлюс»)).
2 Нельзя не отметить, что проанализированное ограничение вызывает вопросы с учетом того, что в НПАО допускается возможность установления заранее определенной цены приобретения акций в пользу одного или нескольких участников (п. 3, 8 ст. 7 Закона об АО). Аналогичное право предусмотрено также и для участников хозяйственных партнерств (ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах»).
Представляется, что в ряде практических случаев подобная императивная формулировка законодательства может несколько затруднить положение участников ООО и вряд ли может быть оправданна с точки зрения предпринимательских интересов. Например, учрежденное ООО занимается венчурным бизнесом, а его участникам принципиально важно, чтобы в течение некоторого времени состав участников был стабильным, и участники в течение этого времени вкладывали бы средства исключительно в развитие бизнеса. В этом случае установление чрезмерно заниженной цены за долю выходящего участника будет вполне отвечать данному предпринимательскому интересу, и его вряд ли стоит оценивать каким-либо иным образом, чем то, что таким способом остающиеся участники гарантируют сохранение контроля над компанией и возможность вкладывать средства в ее развитие в дальнейшем.
278

Оборот долей в обществе с ограниченной ответственностью
ное условие о заранее определенной цене продажи доли выходящего участника. Как представляется, при ответе на данный вопрос следует исходить из того, в какую сторону осуществлялось отклонение заранее определенной цены от рыночной стоимости доли. В том случае, если заранее определенная цена является явно заниженной по отношению к рыночной стоимости, то, как представляется, такое условие может служить аналогом экономического принуждения к тому, чтобы участник компании «вечно» пребывал в этом статусе, в связи с чем не может быть поддержано во всех случаях1. Как следствие, действие такого условия должно быть ограниченным.
По этому поводу в литературе предлагается ограничить действие такого условия предельным возможным сроком действия условия о запрете отчуждения долей2. Полагаем, что данный подход хотя и выгодно отличается простотой для правоприменителя и участников оборота, все же может быть признан оправданным лишь в ограниченном перечне случаев, а именно в тех, когда заранее ясно, что ограничение цены покупки доли не требуется больше чем на указанный срок.
Однако в целом ряде случаев срок, на который ограничение цены за долю объективно требуется, либо невозможно предугадать (например, если у организации преддефолтное состояние и неизвестно, сколько времени потребуется на ее вывод из этого состояния), либо заранее ясно, что такой срок превышает предельно возможный срок запрета на отчуждение долей (пять лет) (например, если общество реализует проект в сфере сельского хозяйства, в котором, как правило, возврат инвестиций осуществляется в более продолжительный срок по сравнению с иными сферами). В связи с этим, как представляется, заранее определенное условие о размере стоимости доли могло бы действовать дольше. Единственным ограничителем здесь является бизнес-цель, которую участники преследовали при введении такого условия.
Что касается заранее определенной завышенной цены, то, как представляется, оснований для ее ограничений сроком нет, поскольку участники компании (сама компания) всегда вправе отказаться от акцепта доли выходящего участника по такой цене.
1 Более подробно см.: Кузнецов А.А. Указ. соч. С. 90–91.
2 Более подробно см. там же. С. 91.
Иными словами, по мысли А.А. Кузнецова, предельный срок действия условия о заранее произведенной оценке стоимости доли выходящего участника может быть признано законным, если условие действует не более пяти лет (по аналогии с п. 5 ст. 7 Закона об АО).
279

Р.В. Макин
Возможность приобретения части доли выходящего участника
Из текста Закона об ООО следует, что закон допускает осуществление права преимущественного приобретения в рамках двух вариантов: (1) участник планирует осуществить продажу всей доли третьему лицу, и в ответ на это остающиеся участники реализуют свое право преимущественного приобретения и (2) участник дробит свою долю, планирует продать ее часть третьему лицу, а остающиеся участники осуществляют приобретение той части, которая идет на продажу. Вместе с тем имеется вопрос относительно возможности осуществления права преимущественного приобретения части доли, предназначенной на продажу, а не всей доли (части доли), если участники закрепили это в уставе компании1.
Для большей наглядности поставленный вопрос можно проиллюстрировать следующей ситуацией.
Например, имеется ООО с четырьмя участниками, каждый из которых обладает 33,3% долей в уставном капитале. Один из участников желает выйти из компании, продав свою долю третьему лицу. В уставе
ООО закреплено право остающихся участников осуществить преимущественное право как в отношении всей доли выходящего участника, так и в отношении ее части. В результате остающиеся участники приобретают 30%-ную долю выходящего участника.
Как видно из данной ситуации, осуществление остающимися участниками своего преимущественного права приводит к тому, что оставшаяся в руках у участника доля (3,3%) де-факто не имеет никакой инвестиционной ценности, поскольку вряд ли удастся найти третье лицо, которое бы согласилось приобрести долю, зная, что оно, по сути, будет лишено возможности осуществлять управление компанией2. С другой
1 Мы считаем, что внесение такого условия возможно в связи со сделочной природой устава. Среди авторов, придерживающихся аналогичного мнения, можно назвать Е.В. Глухова (см.: Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного предприятия. М.: М-Логос, 2017 [электронное издание]).
2 В зарубежной практике также обратили внимание на данную проблему. В частности, в испанском праве считается, что участника, планировавшего передать долю третьему лицу, нельзя в рамках реализации права преимущественного приобретения обязать передать остающимся в обществе участникам часть доли. Такое решение связано с защитой интересов выходящего участника, поскольку, с одной стороны, это повлечет изменение его договоренностей с третьим лицом – предполагаемым приобретателем доли, в том числе в части цены за долю, а с другой – ухудшит положение участника в обществе, который может остаться в обществе с гораздо меньшей долей, чем изначально. Впрочем, императивный характер нормы, запрещающей приобретение части доли выходящего участника, остается под вопросом. Более подробно см.: Gandara L.F. Derecho de sociedades. Vol. II. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010. P. 1378.
280
