
Dukhovnaya_kultura_Kitaya_Tom_3_-_Literatura_Yazyk_i_pismennost
.pdf
низма. Отражением подобных концепций явилась антологическая книга |
Изучение |
|
Л.Д. Позднеевой «Атеисты, материалисты, диалектики Древнего Китая» |
классической |
|
(1967). Концепция реализма, перенесенная на памятники древней и сред |
литературы |
|
невековой литературы, способствовала забвению многих продуктивных |
|
|
идей, высказанных ранее, и размыванию складывающегося терминологи |
|
|
ческого словаря описания, поскольку квалификации вроде «народный поэт», «феодальная литература», «литература аристократических верхов и угнетенных низов»
были не более чем абстрактными определениями. В синологии возникли соответствующие концепции генезиса литературных явлений и соответствующие квалификации литературных фактов. К примеру, Цюй Юань (340–278 гг. до н.э.), поэт жрец, становился «первым народным поэтом» Китая, мифологический рассказ III–VI вв. — «воплощением фантазии народа», архаичная новелла династии Тан (618–907) — «реалистическим рассказом». Подобные идеи отражены в работах Н.Т. Федоренко (1956), О.Л. Фишман (предисловие к «Танским новеллам» 1955 г.), Л.З. Эйдлина (раздел классической литературы в кн.: Сорокин В.Ф., Эйдлин Л.З. Китай ская литература... М., 1969). Проблема литературного процесса снималась сама собой или же рассматривалась как «углубление реализма». Подобная ситуация в синологии сложилась отчасти потому, что в 50 е годы в КНР формировалась своя филологическая школа, развивавшая не без советского влияния сходные идеи в литературоведении, правда, марксизм ленинизм был допол нен идеями Мао Цзэ дуна, а концепция «всеобщего и вечного реализма» — романтизмом. Для китайского литературоведения стали типичны высказывания: «основы мифа — это реализм, а его форма — романтизм». Отечественная синология стала ориентироваться на китайскую филоло гию в отношении не только источников, что естественно, но и идей. Но эта же ситуация привела к «переводческому ренессансу» и необычайно возросшей популярности китайской литературы
вРоссии. Были переведены основные романы средневекового Китая — «Троецарствие» Ло Гуань чжуна, «Речные заводи» Ши Най аня, «Сон в красном тереме» Цао Сюэ циня и другие основные драматические и поэтические произведения. «Переводчик с китайского» становится профессией (В. Панасюк, Л. Черкасский, Л. Эйдлин, Г. Ярославцев и др.). По подстрочникам ра ботали известные поэты, например: А. Ахматова, А. Гитович, А. Адалис, А. Штейнберг. В пере водной литературе был достигнут высокий профессиональный уровень, который стал нормой для переводов с китайского. В этот же период создаются и разные течения в переводческой прак тике: некоторые, к примеру Л.З. Эйдлин, предлагают переводить стихом без рифмы, другие — Б.Б. Вахтин, Л.Е. Черкасский, Г. Ярославцев — настаивают на рифме. Активная переводческая деятельность китаистов способствовала введению в сферу литературоведения новых имен и но вых памятников, что выразилось в новом качестве иссле дований и привело к формированию новых направлений
внауке. Изучению китайской литературы и культуры не
мало способствовало создание 4 томного «Большого ки тайско русского словаря» коллективом китаистов под ру ководством и редакцией И.М. Ошанина (1983–1984). Уже в 60 е годы в некогда целостном «страноведческом» лите ратуроведении обозначилось несколько направлений:
1)историко литературное, исследующее генетические истоки явлений литературы, проблемы взаимосвязи миро воззрения — базовых идей конфуцианства, даосизма, буд дизма — и литературы. Направление сочетает «портретное описание» деятелей литературы с культурно историче ским исследованием текста;
2)ритуально мифологическое, сочетающее исследование обряда с мифологическим литературоведением и рассмат ривающее миф как нарратив;
3)фольклорное, включающее изучение как устного и пись менного фольклора и его жанров, входящих в состав лите ратуры (сказ шошу, пинхуа, хуабэнь), так и влияния фольк
181

|
|
|
|
|
|
Китайская |
лора на литературу и обратного влияния письменной литературной тра |
|
|
литература |
диции на фольклорное творчество; |
|
|
в России |
4) теоретическое — как исследующее традиционную теорию литера |
|
|
|
туры, теорию традиционных искусств и драмы, так и разрабатывающее |
|
|
|
теоретические проблемы литературного процесса в Китае; |
|
|
|
5) текстологическое, связанное с описанием и научной публикацией |
|
|
|
письменных памятников, в том числе литературы. Это особое направление в течение полувека возглавлял Л.Н. Меньшиков.
Всинологическом литературоведении шел процесс освоения общих теорий литературоведения при одновременном стремлении найти собственные парадигмы культуры и литературы Китая.
Внаибольшей степени эта ситуация проявила себя в спорах о «Возрождении в Китае». В работе Н.И. Конрада «Запад и Восток» (1966) была выдвинута идея типологических параллелей между литературами Востока и Запада, и одной из этих параллелей стало Возрождение. Концепция развивалась на материале китайской средневековой словесности и в тех рамках, которые на том уровне изучения материала были ученому доступны. Основная аргументация тезиса строилась на полемических произведениях (написанных в жанрах бессюжетной прозы) Хань Юя (768– 824), который был инициатором «возвращения к древности» (фу гу). В истории китайской лите ратуры это была попытка воссоздания стилевых норм в духе древней словесности (гувэнь), созданной философами и историками династий Цинь и Хань. Другой аргумент тезиса осно вывался на беллетристической прозе эпохи Тан — так называемой танской новелле, достаточно архаичной, во многом еще фольклорной литературной форме, языком которой был классиче ский письменный язык вэньянь. Как известно, итальянское Возрождение, которое у Н.И. Кон рада было моделью для идеи «Возрождения на Востоке», базировалось на принципах гуманизма, а в литературе — на новой итальянской новелле, языком которой был разговорный язык. Ни идеи Хань Юя, возрождающие классическое конфуцианство, ни движение «возвращение к древности», ни танская новелла, героями которой часто были волшебные существа (недаром она называется чуаньци — «повествование об удивительном»), — ничто не могло быть типоло гической аргументацией в пользу существования «Возрождения в Китае» в IX в. Развернув
182

шаяся полемика не решила этой проблемы, с одной стороны, из за от |
Изучение |
|
сутствия концепции цивилизационных моделей в литературах Востока, |
классической |
|
с другой — по причине недостаточно разработанной идеи типологических |
литературы |
|
параллелей литературного процесса. |
|
|
М и ф о л о г и я. Активное исследование мифа в синологии наметилось уже |
|
|
к 60–70 м годам XX в.: сказался интерес к мифологии в самом Китае и в
западной синологии, зародившийся еще в 20 е годы. В России сложилось несколько направ лений в изучении мифа — от этнографического подхода до исследования отдельных памятни ков. Одна из первых работ по мифологии принадлежит Н.Т. Федоренко — статья «Тематическое своеобразие китайской мифологии» (1967). Попытка дать структурные контуры китайского мифа как целостного явления культуры была сделана И.С. Лисевичем в статье докладе «Мо делирование мира в китайской мифологии и учение о пяти первоэлементах» (1969) и в статьях «Пространственно временная циклизация мифов о культурных героях» и «Древнекитайские представления о космогенезе» (1998). Характерной особенностью русской мифологической школы было стремление рассматривать проблему комплексно. Так, космогонической симво лике мифа и его месте в орнаменте посвящена статья Л.П. Сычева «Китайский декор как часть единой системы космогонических символов» (1977). Археологическое направление в мифоло гии представлено работами В.В. Евсюкова, основная из которых — «Мифология китайского неолита» (1988). Э.М. Яншиной принадлежит раздел «Мифология» в книге «Литература Древнего Востока» (1971), перевод «Шань хай цзина» («Каталог гор и морей», 1977), монография «Форми рование и развитие древнекитайской мифологии» (1984), в которой автор особо останавли вается на солярных и лунарных мифах и отдельных мифологических мотивах (богоборческих, отделения неба от земли и т.п.). В 1980 г. была опубликована статья этнографа Г.Г. Стратановича «Фуси» (об этимологии имени Фу си), возрождающая традиции лингвистического анализа ми фа. В 1979 г. вышла книга Б.Л. Рифтина «От мифа к роману...», с которой начинается мифоло гическое литературоведение в России. Большое значение для изучения китайской мифологии имела двухтомная энциклопедия «Мифы народов мира», в издании которой принимали участие китаисты Б.Л. Рифтин, Л.Н. Меньшиков, Э.С. Стулова, С. Кучера. Мифологическое литерату
183

|
|
|
|
|
|
Китайская |
роведение стало составной частью исследования истоков сюжетосло |
|
|
литература |
жения и нарратива, становления портретного описания в литературе. |
|
|
в России |
Ф о л ь к л о р. Обращение к мифологии вело к исследованиям фольк |
|
|
|
лора, так как именно в фольклоре мифологический нарратив становится |
|
|
|
словесным искусством. Изучение фольклора началось еще в 50 е годы, |
|
|
|
вначале по отдельным сюжетам, впоследствии по общим проблемам. |
|
|
|
В эти годы обсуждается проблема генезиса и взаимодействия письменных форм литературы
ифольклора, издаются переводы фольклорных текстов — «Эпические сказания народов Южно го Китая» (1956) и «Китайские народные сказки» (1957, 1959, 1972). Изучение китайских сказок в сравнении с русскими впервые начал Б.Л. Рифтин в статье «О чертах национальной специфики китайских народных сказок» (1957). Не без влияния отечественной фольклористики в синологическое литературоведение пришли более точные методы анализа, поскольку фольк лористика является весьма формализованной наукой со сложившейся методикой описания сюжета и мотива. Влияние новой для синологии методологии обнаруживается в публикации «Дунганские народные сказки и предания» (1977), в разделе которой «Источники и анализ сюжетов дунганских сказок» Б.Л. Рифтин исследует мотивы этих сказок в сопоставлении с ки тайским материалом, пользуясь каталогами сюжетов мирового фольклора Аарне–Томпсона
икитайской сказки В. Эберхарда. В этой работе исследователь выступил и как собиратель живого фольклора дунган. В 90 х годах он собирал мифы и предания тайваньских аборигенов
инаписал книгу на китайском языке «От мифа к быличке. Сравнительное исследование мифов
исказок аборигенов Тайваня» (Тайчжун, 1998; доп. изд. Пекин, 2001). Изучение фольклора по казало, что письменный вариант фольклорных сюжетов такая же неотъемлемая часть китайской средневековой литературы, как мифы — древней; выявившееся соотношение «фольклор–лите ратура» стало служить основанием при определении стадиальности сюжета и образа и позволило рассматривать средневековую литературу как особый период литературного процесса. В науке возникло фольклористическое литературоведение и был поставлен вопрос об обратном влиянии письменной литературы на стихию устного творчества. Впервые эта проблема была исследована Б.Л. Рифтиным в работе 1970 г. «Историческая эпопея и фольклорная традиция в Китае (Устные
икнижные версии „Троецарствия“)». Сравнивая роман «Троецарствие» с существующими запи сями сказов по роману, он показал, какие части сюжета были перенесены из истории или других
письменных источников, а какие принадлежали ав тору романа и сказителям.
Изучение фольклора (его устных и письменных форм) способствовало расширению представлений о географических пространствах взаимодействия ли тератур Китая и Монголии, Китая и Кореи, Китая и Вьетнама, вследствие чего в синологии наметилась тенденция к созданию сравнительной фольклористи ки. Так, Б.Л. Рифтин в 70 е годы записывает повест вования монгольских сказителей хурчи (исполните ли сказов на сюжеты китайских романов) и ставит вопрос о судьбе китайского романа в Монголии (см., например, соответствующие статьи в сб.: Литератур ные связи Монголии. М., 1981). Кроме преданий са мих китайцев он анализирует предания дагурские, солонские, народов и и бай в статье «„Путешествие на Запад“ и народные предания» (опубл. в кн. на кит. яз.: Рифтин о китайской классической прозе. Тай бэй, 1997). Изучению традиции буддийского народ ного повествования в книжной литературе посвяще ны работы Л.К. Павловской. В детальном анализе ее трудов «Заново составленное пинхуа по истории Пя ти династий» (1984) и «Шихуа о том, как Трипитака
184

Великой Тан добыл священные книги» (1987), сопровождающем полный |
Изучение |
|
перевод обоих произведений, Павловская определяет их как «народный |
классической |
|
роман», возводит истоки образа одного из главных героев, Сунь У куна, |
литературы |
|
к «Рамаяне», а также доказывает связь сюжетов «Шихуа...» и «Путешествия |
|
|
на Запад» У Чэн эня. Исследованию системы жанров китайской просто |
|
|
народной литературы посвящена монография Н.А. Спешнева «Китайская простонародная литература. Песенно повествовательные жанры» (1986); в работе, богато ил
люстрированной текстами, создается панорамная картина становления этого вида искусства. П р о з а. Активное исследование древней прозы, в состав которой кроме беллетристики — древ них повестей и жизнеописаний, представляющих собой обработку исторических свидетельств, входят исторические «жизнеописания» Сыма Цяня (145? — ок. 86 гг. до н.э.), философские
ирелигиозные притчи, началось в 60 е годы XX в. Древнему периоду китайской литературы посвящен ряд работ Л.Д. Позднеевой: статьи «Проблема источниковедческого анализа древ некитайских философских трактатов» (1958) и «Ораторское искусство и памятники древнего Китая» (1962), сборник переводов «Атеисты, материалисты, диалектики Древнего Китая» (1967). В какой то мере отражением тех же идей и одновременно новых подходов к изучению лите ратуры древнего Китая стали работы Л.Е. Померанцевой: «Ораторское искусство и философ ские школы» (1971), «Поздние даосы о природе, обществе и искусстве („Хуайнань цзы“ — II в. до н.э.)» (1979), «Человек и природа в „Хуайнань цзы“ и художественный стиль эпохи» (1983). Исследовательскую работу в области древней литературы стимулировало издание памятников древней прозы в серии «Библиотека всемирной литературы». Популярным обобщением всего, что было сделано и переведено, являются «Древние памятники китайской литературы» Н.Т. Федоренко (1978) и статья Н.И. Конрада «Древнекитайская литература» для 1 го тома «Ис тории всемирной литературы» (1983). Особое место в изучении древней словесности принад лежит исследованиям и переводам памятников философской прозы (см.: Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. М., 1972–1973). Исследовательской работе немало способствовали издания антологий древнекитайской литературы: «Пурпурная яшма» (1979), «Из книг мудрецов» (1987), «Бамбуковые страницы» (1994).
Литературоведы медиевисты заявили о себе в российской синологии уже в 60 е годы. Станов лению медиевистики способствовали исследования по мифологии и фольклору, так как в них была описана первооснова литературы средневеко вого Китая, существовавшая в этой литературе
вплоть до XVI в. По глубине воплощения в произ ведениях этой фольклорно мифологической основы стали определять исторические стадиальные пласты в эволюционном развитии литературы, учитывая тип фольклорного сюжета и фольклорность образа глав ного героя, характер выражения авторского начала
иязык текста, хотя лингвистическое направление
в литературоведении — изучение формирования письменного литературного языка (вэньянь), кроме работ С.Е. Яхонтова («Письменный и разговорный китайский язык в VII—XIII вв.», 1969; «Грамматика китайских стихов», 1974), так и не обозначилось.
Переводы из прозы III–VI вв. А.А. Тишкова, В.А. Панасюка, Л.Н. Меньшикова, К.И. Голыгиной, В.Т. Сухорукова, Б.Л. Рифтина, Л.Г. Егоровой, И.С. Лисевича показали, что в синологию введен ра нее малоизвестный пласт китайской литературы — «рассказы о духах» (чжигуай сяошо). Если в китайском литературоведении «рассказы о духах» определялись только как жанр, появившийся в исторически опре деленное время: «проза Шести династий» (лю чао
185

сяошо), в западном — как новелла или фантастический рассказ, то в рус ской синологии на основании описываемой реальности они получили определение «былички» и «мифологический рассказ». Термины были заимствованы из арсенала отечественной фольклористики, что говорит не только о том, что становление русской школы синологии происхо дило в тесном контакте с отечественным литературоведением, но и об
освоении типологических методов исследований. «Рассказы о духах» подробно исследованы
вработе К.И. Голыгиной «Китайская проза на пороге средневековья. Мифологический рассказ III–VI вв. ...» (1983). К анализу текстов, сюжетов и мотивов автор впервые в синологическом литературоведении привлекла материалы по этнографии (свадебному и похоронному обряду), а также вычленила «реликтовые следы» в литературном тексте более позднего времени (последнее важно для определения роли традиции в литературном процессе).
Исследование средневековой новеллы Китая жанра чуаньци («повествования об удивительном») было начато Л.Д. Позднеевой (канд. дис. «„Повесть об Ин ин“ Юань Чжэня (История сюжета)», 1946) и О.Л. Фишман (послесловие к «Танским новеллам», 1955) и продолжено И.И. Соколовой (статья «Танская новелла» во 2 м томе «Истории всемирной литературы», 1984) и К.И. Голы гиной («Новелла средневекового Китая...», 1980). Введенный в науку материал о китайской новелле средневековья позволил уточнить проблему взаимосвязей историко культурных регионов, в данном случае Дальнего Востока, и показать роль единого литературного языка
встановлении жанровой системы в Корее, Японии, Вьетнаме.
Исследования по древней и средневековой литературе привели ученых к выводу о связи литера турного явления с цивилизационным типом культуры. Эта тема наиболее подробно рассмотрена в книге К.И. Голыгиной «„Великий предел“: Китайская модель мира в литературе и культуре» (I–XIII вв.) (1995), в которой автор рассматривает эволюцию художественного мира прозы в свя зи с изменением представления о мире космосе.
К сожалению, исследования по жанрам бессюжетной прозы, составляющим вэнь — «изящную словесность», немногочисленны, хотя именно эти жанры (послания, надписи, жизнеописа ния, путевые заметки и др.) связывались в традици онном сознании китайцев с «высокой литературой»
иименно они показывают идеологические процес сы, которые происходили в обществе и литературе древности и раннего средневековья. В 1971 г. в своей «Теории изящной словесности...» К.И. Голы гина предложила идею функционально утилитар ной направленности жанров бессюжетной прозы,
ивпоследствии именно отсутствие функции стало рассматриваться в качестве едва ли не основного признака произведений беллетристической прозы
иих неутилитарной предназначенности, а следова тельно, и сознательной установки литератора на со здание художественного произведения — для тео рии медиевистики весьма принципиальный тезис. Очерк «Поэзия и бессюжетная проза» в 3 м томе «Истории всемирной литературы» (1985) принадле жит В.Ф. Сорокину; подробному анализу идей Хань Юя и его прозе посвящена работа В.Ф. Гусарова «Не которые положения теории Пути Хань Юя» (1972); жанровому исследованию произведений бессюжет ной прозы, называемой гувэнь («словесность древ него стиля»), — статья К.И. Голыгиной («Анализ жанровой формы...», 1973). В этот период жанры
буддийской литературы в Китае вызывают интерес |
|
синологов. Так, жанру буддийской притчи посвяще |
Н.И. Конрад |
186
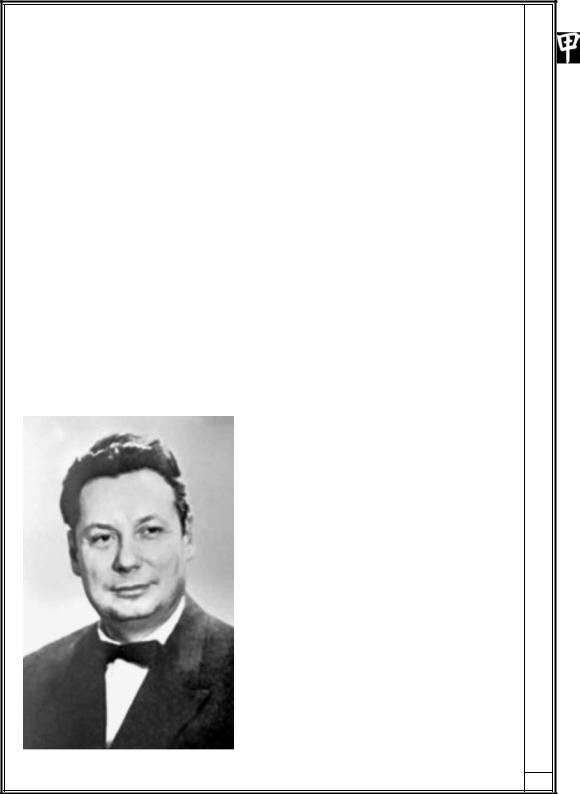
|
|
|
|
на работа 1986 г. И.С. Гуревича и Л.Н. Меньшикова «Бай юй цзин (Сутра |
Изучение |
|
|
ста притч)». Об особой форме литературного творчества — цзацзуань пишет |
классической |
|
|
И.Э. Циперович («О жанре китайских изречений цзацзуань...», 1969). |
литературы |
|
|
В синологическую медиевистику прочно входит тезис о том, что средне |
|
|
|
вековая литература Китая никогда не порывает с фольклорным восприя |
|
|
|
тием мира и многие ее жанры создаются на стыке письменной литературы |
|
|
|
|
|
|
ифольклора. В науке идет постоянный процесс поиска адекватных терминов, что в конечном счете способствует более точному определению феномена китайской литературы в общемиро вом литературном процессе. В синологии утверждаются термины: «новелла», а не просто «рас сказ», чем подчеркивается знаковый характер повествования и его высокая сюжетная структу рированность; «народная книга» и «народный роман» — для переходных литературных форм от сказа к письменной литературе; «повесть» и «многоглавный роман» — для характеристики ти пично средневековых больших повествовательных и романных форм; «мифологический рас сказ», «быличка» — для рассказа III—VI вв. Этих терминов не было ни в западном ни в китай ском литературоведении. Китайское литературоведение использовало традиционную систему обозначения жанров (чуаньци, хуабэнь, сяошо, цзацзуань) или создавало малоудачные кальки, где «рассказ» — это «малое повествование», а «повесть» — «длинное повествование», что затрудняло создание теории традиционной литературы в Китае.
Исследование средневековой повести хуабэнь началось в 60 е годы. Оно заключалось как в анализе и описании отдельных памятников, так и в создании теории жанра. Необходимость теоретического осмысления повести диктовалась тем, что термин «повесть» — не самый удач ный, так как не передает специфики жанра, возникшего как письменная фиксация устного сказа. Одной из первых работ была книга А.Н. Желоховцева «Хуабэнь — городская повесть...» (1969), в которой описаны основные памятники, поднят вопрос о сунском сказе и сказителях
ипроведены типологические параллели с русской повестью XVII в. Жанровые особенности повести XVI–XVII вв. хуабэнь и ни хуабэнь (авторские произведения, которые сознательно ими тировали сказительские приемы и внешнюю форму повести хуабэнь) описаны в серии статей
|
Д.Н. Воскресенского, выпустившего также не |
|
|
сколько сборников переводов этих повестей. Автор |
|
|
предложил для ряда хуабэнь термин «плутовская по |
|
|
весть», определяя этим новый диапазон прозы. |
|
|
Исследование китайского романа в России пред |
|
|
варялось переводами основных произведений этого |
|
|
жанра, выполненных: В.А. Панасюком («Троецарст |
|
|
вие», «Сон в красном тереме», «Возвышение в ранг |
|
|
духов», «Сказание о Юэ Фэе», «Трое храбрых, |
|
|
пятеро справедливых»), А.П. Рогачевым («Речные |
|
|
заводи»; «Путешествие на Запад» — совместно |
|
|
с В.С. Колоколовым), В.С. Манухиным («Цзинь, |
|
|
Пин, Мэй»), Д.Н. Воскресенским («Неофициаль |
|
|
ная история конфуцианцев»), В.И. Семановым |
|
|
(«Путешествие Лао Цаня», «Цветы в море зла»), |
|
|
О.Л. Фишман и др. («Цветы в зеркале»). Период |
|
|
XVII–XVIII вв. в истории Китая квалифицируется |
|
|
как новое время, в литературе — как эпоха Про |
|
|
свещения. Термин был предложен О.Л. Фишман |
|
|
и обоснован в ее книге «Китайский сатирический |
|
|
роман...» (1960), где ведущий литературный жанр |
|
|
эпохи — роман — был определен как просветитель |
|
|
ский. Идею поддержали Л.Д. Позднеева, Н.М. Устин, |
|
|
О. Лин лин, В.С. Манухин, однако многие предпо |
|
|
читали говорить не о Просвещении, а о просвети |
|
Н.Т. Федоренко |
||
тельских тенденциях (Д.Н. Воскресенский). |
187

Анализ идеологических процессов, мировоззренческих и религиозных систем, социальных институтов стал неотъемлемой частью работы уче ных, занимающихся романом этого типа. Роман, ярко выписывая со циальную проблематику своего времени, впервые в истории китайской литературы отразил личность автора. Д.Н. Воскресенский создал осо бый жанр научного исследования, цель которого — создание психоло
гического образа творческой личности в литературе. В цикле статей он отразил буддийские
идаосские мотивы романа, утопические мотивы прозы, концепцию индивидуальности в тра диционной культуре, особенности жанра многоглавного романа и его место в культуре. Ему принадлежат статьи эссе о писателе и драматурге Ли Юе, самой яркой и самобытной фигуре XVII в. (1994), и о Цао Сюэ цине — авторе романа XVIII в. «Сон в красном тереме» (1995).
Изучение романа, особенно авторского, заставило исследователей расширить диапазон опре делений этого жанра, для которого термин «просветительский» был слишком узким. Появля ются термины: «роман эпос» для «Путешествия на Запад»; «бытовой», «сага о „большой семье“» для «Сна в красном тереме»; «роман нравов» для «Цзинь пин мэй» и «эпопея» для «Троецарствия». Исследователи жанра и переводчики романа — Д.Н. Воскресенский («Неофи циальная история конфуцианцев», «Подстилка из плоти»), Н.Е. Боревская («Плавание Чжэн Хэ по Индийскому океану»), С.В. Никольская («Путешествие на Запад»), Б.Л. Рифтин («Трое царствие», «Цзинь пин мэй») — дали детальное представление о классическом китайском романе. Раскрытию символики китайской культуры в романе посвящены работа Л.П. Сычева «Традиционная символика вещей и имен...» (1970) и книга Л.П. Сычева и В.Л. Сычева «Китай ский костюм...» (1975).
Другое направление китайской прозы нового времени — проза «записок» (бицзи) — рассматри вается в работе О.Л. Фишман «Три китайских новеллиста XVII–XVIII вв.: Пу Сун лин, Цзи Юнь, Юань Мэй» (1980). Появлению этой книги предшествовали ее переводы произведений Цзи Юня (1974) и Юань Мэя (1977). Используя статистические методы, она сопоставила рас сказы трех новеллистов, реконструировала сюжеты в аспекте системы народных верований
иквалифицировала их как устойчивые и «международные». Традиция исследования прозы Пу Сун лина, начатая еще В.М. Алексеевым и Б.А. Васильевым («Древние источники Ляо Чжая», 1931), была продолжена в обобщающей книге Н.М. Устина «Пу Сунлин и его новеллы» (1981).
|
Поэзия. Исследование древней поэзии началось |
|
|
с «Ши цзина» («Книга песен») в конце XIX в. — с мо |
|
|
||
|
мента появления работы В.П. Васильева «Примечания |
|
|
на третий выпуск „Китайской хрестоматии“. Перевод |
|
|
и толкования „Шицзина“» (1882). Он едва ли не первый |
|
|
в мире решился отбросить традиционный комментарий |
|
|
и стал рассматривать «Ши цзин» как памятник народ |
|
|
ного творчества. В.М. Алексеев в статье «Предпосылки |
|
|
к русскому переводу китайской древней канонической |
|
|
книги „Шицзин“ („Поэзия“)» (1948), указал на боль |
|
|
шое художественное значение памятника. Полный пе |
|
|
ревод памятника, выполненный А.А. Штукиным, был |
|
|
издан в 1957 г. с послесловием Н.Т. Федоренко. Одно |
|
|
временно вышло сокращенное издание с предисловием |
|
|
Н.И. Конрада и послесловием А.А. Штукина, разъяс |
|
|
няющим принципы перевода. Книга Н.Т. Федоренко |
|
|
«„Шицзин“ и его место в китайской литературе» вышла |
|
|
в 1958 г. В 70–80 е годы были опубликованы труды |
|
|
Б.Б. Вахтина («Заметки о повторяющихся строках в |
|
|
„Шицзине“», 1971), Е.А. Серебрякова («Лирические |
|
|
песни „Шицзина“ в интерпретации конфуцианских |
|
|
комментаторов», 1985) и И.С. Лисевича («„Великое Вве |
|
А.А. Штукин |
||
дение“ к „Книге песен“», 1974; «Литературная мысль |
188

|
|
|
|
Китая на рубеже древности и средних веков», 1979). В 90 е годы к «Ши |
Изучение |
|
|
цзину» обратилась М.Е. Кравцова: в ее книге «Поэзия Древнего Китая...» |
классической |
|
|
(1994) памятнику посвящен специальный раздел. В последние годы в оте |
литературы |
|
|
чественном «шицзиноведении» отмечены новые концептуальные поиски, |
|
|
|
суть которых — в рассмотрении памятника в контексте других канони |
|
|
|
ческих книг и традиционного комментария, а также в аспекте мифологии |
|
|
|
|
|
|
иобряда. Особое внимание при изучении древней поэзии уделяется такому жанру, как чу цы — «чуские строфы». К творчеству Цюй Юаня обращались В.М. Алексеев, Н.Т. Федоренко, Л.З. Эйдлин, Е.А. Серебряков. Определенным итогом в изучении поэта явилась книга переводов «Цюй Юань. Стихи» (1954) с предисловием Н.Т. Федоренко. Позднее он опубликовал статью «Проблема Цюй Юаня» (1956), в которой полемизировал с Ху Ши и доказывал исто ричность личности поэта и аутентичность его произведений. Творчеству Цюй Юаня посвящена работа Е.А. Серебрякова «О Цюй Юане и чуских строфах» (1969), где впервые рассмотрена система образов поэмы «Ли сао». Первый опыт анализа и перевода песен юэфу эпохи Хань принадлежит Ю.К. Щуцкому: именно он обратился к знаменитым «Стихам о жене» Цзяо Чжун цина (1935).
Активное изучение китайской поэзии развернулось в 60 е и особенно в 70 е годы. Тогда же наметилась тенденция возвращения к проблеме определения границ художественного слова в древней словесности — тема прозвучала в работе Б.Б. Вахтина «Письменные памятники классической древности как литературные произведения» (1969). Новые поиски отечественной фольклористики, ознаменовавшиеся в 60 х годах интересными теоретическими обобщениями, не обошли и синологию. Так, народная поэзия исследуется как самостоятельный феномен в от дельных жанрах: «Древняя китайская поэзия и народная песня...» (И.С. Лисевич, 1969), «Возникновение юэфу» и упомянутые выше «Заметки...» (Б.Б. Вахтин, 1958, 1971). В работах И.С. Лисевича, Б.Б. Вахтина, Л.Е. Черкасского рассматриваются также основные жанры автор ской поэзии древности и поэты Сыма Сян жу, Шэнь Юэ и Цао Чжи.
В опубликованных в 70 е годы работах был поставлен ряд кардинальных проблем синологии. Одна из них — идея о жанровом характере традиционной системы литературы и ее иерар хической структуре, которая наглядно проявляет себя в любой традиционной поэтической антологии. О жанрах сун («гимны»), фу («оды»), ши («регулярный стих») писал И.С. Лисевич (1979). Полное исследование специфики основных поэтических жанров классической литературы — ши
ицы (песенная, или романсовая, поэзия) опубликовал
Е.А. Серебряков в 1979 г. Впервые в синологическом |
|
литературоведении с большой отчетливостью он опи |
|
сал ритмические особенности каждого жанра, его |
|
функциональное назначение, присущий ему круг тем, |
|
характер поэтических образов. В работе показано, что |
|
новый жанр поэзии цы — это и символ эволюции |
|
жанровой системы (которая уже начинает не только |
|
строиться на вэньяне, но и использовать элементы раз |
|
говорного языка), и знак наступления новой эры лите |
|
ратурного процесса. Следует упомянуть также работу |
|
И.С. Смирнова «О китайском поэтическом жанре |
|
цюй» (1978). |
|
Проблема китайского стихосложения разрабатывалась, |
|
например, в работах Б.Б. Вахтина «Развитие китайского |
|
стихосложения — древность, средние века, эпоха Воз |
|
рождения...» (1967) и Л.З. Эйдлина «Параллелизм в поэ |
|
зии Бо Цзюй и» (1946). Еще В.М. Алексеев в своих |
|
работах о танской поэзии создал детальное представ |
|
ление о тематическом своеобразии китайской средневе |
|
ковой поэзии. В книге Л.З. Эйдлина «Тао Юань мин |
Б.Б. Вахтин |
189
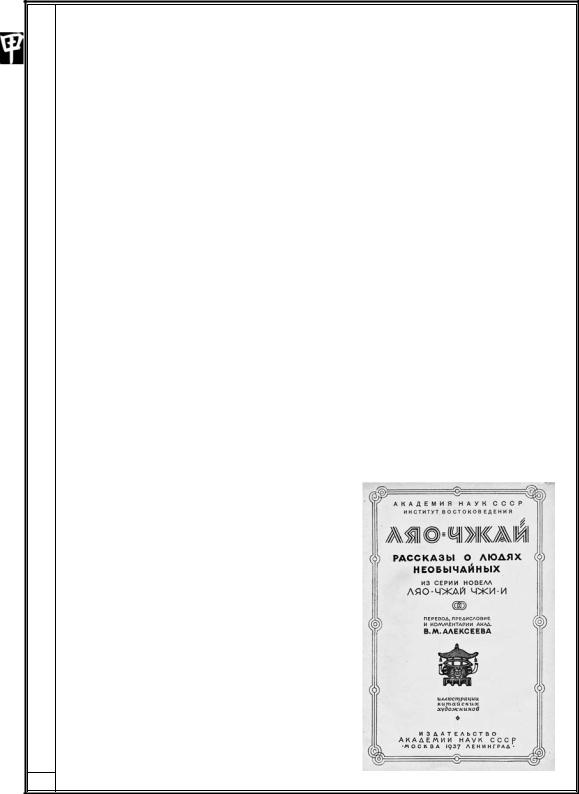
|
|
|
|
|
|
Китайская |
и его стихотворения» (1969) автор продемонстрировал образец работы |
|
|
литература |
переводчика с текстом исследуемого памятника и с его традиционными |
|
|
в России |
комментариями, стремился создать образ китайского поэта и — через |
|
|
|
его поэзию — образ китайской поэзии в целом. Тема была продолжена |
|
|
|
в серии весьма детальных исследований Л.Е. Бежина («Под знаком |
|
|
|
„ветра и потока“...», 1982) и М.Е. Кравцовой («„Красавица“ — женский |
|
|
|
образ в китайской лирике...», 1983). Рассмотрение творчества поэта в контексте его лич ностного самосознания исследуется в работе Е.А. Серебрякова «Роль личных имен в китайском стихе» (1987). Тема традиционного мировоззрения — даосизма, буддизма, конфуцианства — типична для многих работ о поэзии, так как иного пути к пониманию творческой личности в китайской традиционной культуре нет. Но в ряде работ эта проблема является главной. Прежде всего это монографии Г.Б. Дагданова «Чань буддизм в творчестве Ван Вэя» (1984)
и«Мэн Хао жань в культуре средневекового Китая» (1991), а также статьи А.С. Мартынова «Буддизм и конфуцианцы: Су Дун по и Чжу Си...» (1982) и «Конфуцианская личность и при рода» (1983).
В 80–90 е годы синологам литературоведам стало очевидно, что существует определенный круг памятников и тем, исследовать которые методами и приемами описания, имевшимися в арсе нале ученого прежних лет, невозможно. Некоторые переводы и идеи оказались устаревшими, что прежде всего свидетельствует о появлении новой исследовательской базы, созданной новыми публикациями памятников, археологическими раскопками, а также работами в области общей теории литературы. Особенно ярко эта ситуация проявилась в области изучения древней
исредневековой поэзии, где сформировался методологически новый комплексный подход к литературному явлению (см. работы 1990 и 1997 гг. С.В. Зинина о жанре яо [4] и исследование 1992 г. В.В. Дорофеевой о пространственных представлениях в «Ши цзине»). Наиболее полно новая тенденция воплощена в работе М.Е. Кравцовой «Поэзия Древнего Китая. Опыт культуро логического анализа» (1994). В ней впервые в отечественной синологии поднимается проблема этнокультурной ситуации древнего Китая, особо выделяется «южный» регион, где возникла уникальная литературная традиция, связанная с именем Цюй Юаня. При исследовании его поэ зии впервые применена методология, уже отработанная на исследованиях эпоса, мифа и фольк лора. В работе представлен наиболее полный очерк о Цюй Юане, чье творчество рассматри вается и в аспекте мифологии, сложившейся в царстве Чу, и в аспекте чуского жречества. В книге показана продуктивность культурологического подхо да к изучению древних литературных текстов, охваты вающих космологические представления, культы и жре ческую практику, основные мировоззренческие систе мы и поэтологические воззрения на поэта и творчест во. М.Е. Кравцова продолжает начатую В.М. Алексее вым традицию антологического представления образ цов китайской поэзии: в корпус книги входит «Анто логия художественных переводов», собранная автором.
Для изучения поэзии Китая представляют интерес очерки, вошедшие в «Историю всемирной литерату ры». Среди них отметим статью Л.З. Эйдлина о поэзии эпохи Тан и статьи О.Л. Фишман, в определенной мере восполнившие отсутствие обобщающих трудов по истории поэзии позднего средневековья.
Д р а м а т у р г и я. Очерки в «Истории всемирной ли тературы» способствовали также изучению драматур гии, заполнению «белых пятен» в представлении о ки тайской драме. В очерках кроме обычной информации определялось место драмы в литературном процессе, затрагивались эстетические аспекты драматических жанров и их эволюция.
190
