
Grigoryev_A_A_Apologia_pochvennichestva
.pdf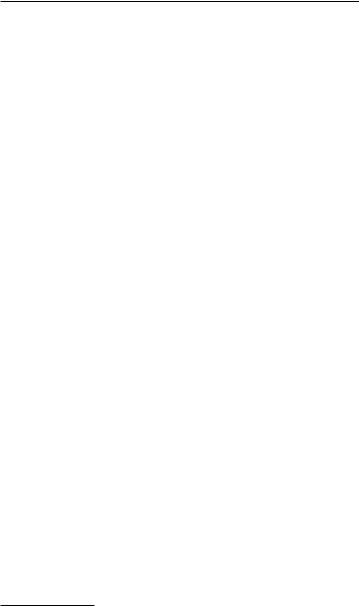
Эстетика народной жизни
Все перечувствовал, все понял, все узнал...52,
которому страшна самая чистота его Нины, — ибо он знает, чтовогромнойкнигежизни«онапрочлаодинзаглавныйлист»
иперед нею «открыто море счастия и зла». — И потому-то самому, следя логически правильное и вместе поэтическое развитие мысли в стихотворениях г. Кержака-Уральского, мысли, возвышающейся до высшего акта, до какого добросовестная рефлексия может достигнуть, до молитвы об уничтожении самой себя, в сознании своей несостоятельности, до торжества духа и его требований над развратом и обмелением личности,
ис другой стороны помня страшные размахи могучей силы в «Мцыри» и других произведениях рано погибшего поэта, а равно и минуты возвышенного душевного настройства, поро- дившегомногиезадаткилучшегобудущего,как-то:«Вминуту жизни трудную», — «Я, матерь божия, ныне с молитвою» и «Есть речи...», я невольно задавал и задаю себе вопрос: что, если и на голос этого тревожного сердца
Славян семейное начало Всегда полнее отвечало*,
как полнее отвечало оно на голос сердца, писавшего «Онегина» и в то же время мечтавшего о
Поэме песен в двадцать пять
смирнымсемейнымхарактером?Что,еслирусскаядушаневедомого избранника носила в себе высшую правду своей поэтической задачи — отрицание самого отрицания, правду, с точки которой только и становится возможен поворот к живому чувству, к непосредственности, к сознанию идеального в самой жизни, к восстановлению в самом себе связи с ее коренными основами, или, лучше сказать, к обретению их даже в самом
* Стихи г. Кержака-Уральского.
51

А. А. Григорьев
себе, целостно и неприкосновенно лежащими под наносным слоем души?
V
Что касается до Занда, на пример которого также могут указатьмнезащитникиотрешенностиискусстваотнравственности, то вопрос об этом, без малейшего сомнения великом же современномхудожнике,отличающемсявособенностинеобычайным сердцеведением, столь важен и сам по себе и по отношению к предмету моего рассуждения, что я решаюсь посвятить ему, так же как и вопросу Байрона, несколько страниц, несмотря на то, что о Занде шла уже речь и в первой книге нашей «Беседы»53 и что с основаниями взгляда, высказанного там, я совершенно согласен.
С точки зрения, избранной мною в настоящем рассуждении, прежде всего опять спросить должно: чем увлекает нас Занд, правдою или ложью? Если правдою, то в чем заключается ее правда? Если ложью, то что за причина тому, что ложь могла увлечь и увлекает? Разрешением этих пунктов вопрос, с моей точки зрения, и разрешится, ибо если есть правда в поэзии Занда, то правда эта есть и нравственная правда.
Обозревая ряд многочисленных и более или менее замечательных произведений этого весьма плодовитого, но плодовитого не вследствие борзописания художника, прежде всего видишь разделение деятельности его на два периода, по-видимому, резко отделяющиеся один от другого, по-видимому, даже существенно разнящиеся и содержанием, и манерою творчества, и даже миросозерцанием. Действительно, какое может быть, кажется, сходство между автором повести «La mare au diable»54 и повести «Лукреция Флориани», кроме единства кисти, которой размах измениться у художника не может, как нечто, натурою ему данное? В деятельности, которой «Лукреция Флориани» служит завершением, так сказать, последним словом — очевиден протест против всех форм общежития, развившихся на Западе, форм семейных, государ-
52

Эстетика народной жизни
ственных, религиозных. В деятельности, которой «La mare au diable» является многообещающим началом, а «Теверино» лучшим, благоуханнейшим цветком, — ибо, за исключением этих двух, почти безупречно прекрасных с художественной точки зрения, созданий, да превосходнейших частностей, поразительных глубиною, новостью и тонкостью анализов сердца и мастерскими постановками отношений, встречающихся в каждом почти романе Занда (укажу, например, из недавних в особенности на «Mont-Reveche»55), целостные концепции этого периода художественной деятельности Занда представляют какую-то напряженность и, так сказать, деланность, — в деятельности этой, во всяком случае, ощутительно стремление к примирению начал личных требований души — с началами общими, живущими в непосредственных, нетронутых так сказать цивилизациею слоях жизни. Слово первого направления есть бунт сердца против условий общественных во имя только горячноститребованийсердца;слововторогопериодадеятельности — успокоение горячих требований сердца в созерцании идеалов, отыскиваемых более или менее удачно, в жизни свежей, нетронутой, не разорвавшейся с корнями, т.е. с высшими нравственными началами.
Лучшее, искреннейшее, художественнейшее произведениеэтогопоследнегонаправленияесть,помоемумнению,«Теверино»,еслитолькоисключитьизэтогопрекрасногосоздания quasi-философические умствования Леонса и Сабины и некоторые слишком наивно-чувственные порывы. В «Теверино» до очевидности высказывается, и притом без преднамеренности, а свободным творчеством, торжество непосредственности, даровитой, полной сознания своих сил и сознания нравственных начал, может быть и не тонко развитых, но прочных и непреложных,всоединениисизвестногородагрубоватостью,бесцеремонностью отношений к жизни, — над истощенной, вялой, условной искусственностью. Теверино, увлекающий строгую, апатичную и постоянно рассуждающую Сабину, это — идеал Занда,давноискомыйидеал,воплотившийся,наконец,вживые формы;Теверино —молящийсянадспящеюподругоюотроче-
53

А. А. Григорьев
ства, это —казнь прогнившей и всегда развращенной в мысли, если не всегда на деле, условной цивилизации, казнь Леонса, следящего за ним и опасающегося за невинность молодой девушки; Теверино — уличающий Леонса в фальши, это — правый суд живого над отживающим; а между тем, этот Теверино, несмотря на всю красоту, на всю прелесть и силу его изображения, есть создание живое, а не деланное, идеальное, как тип, а не сухо идеализированное: он — и гаер, он и немножко хвастун, и немножко, пожалуй, мошенник в сношениях с людьми, к которым, как зверь несколько дикий, питает он, естественно, недоверие. Одним словом, это — создание рожденное, а не деланное, прекрасное в своей истине, а не нарумяненное и не польщенное, хотя все в этом стройном целом стремится к выражению одной идеи — идеи торжества непосредственного над условным и искусственным, — все обличает гниение этого условного и искусственного: и вялые рассуждения Сабины, смешанные с циническим безверием, и эгоистическая чистота Леонса, гордая чистота, убивающая всякую любовь, и тупоумие католического cure56, представляющее тот же эгоизм, только sub alia forma57; все это — тени, из-за которых светло вырисовываются фигуры Теверино и его простодушной, смиренной, целомудренной в простоте сердца подруги. Вот почему «Теверино», как целостное создание, представляется мне лучшим словом нового периода деятельности Занда, словом, которого правда, художественная и нравственная, не требует доказательств.
Смыслжепереворота,совершившегосявхудожественной деятельности Занда и выразившегося во множестве более или менее удачных произведений второго периода, тот что поэт, видящий в условном и искусственном одну неправду или порчу всех отношений — переносит свои стремления, свои идеалы в мир, не тронутый условностью. Не имея права входить
врассмотрение того, насколько жизнь, окружающая поэта, представляет в себе нетронутого и представляет ли, — мыслитель должен, однако, признать правду самого стремления и
вэтой правде почтить то, что я прежде называл чутьем искус-
54

Эстетика народной жизни
ства, его стремлением к живому и живучему, к неподорванному, хранящему благоухание жизни, чутьем, при совершенном отсутствии живого в жизни выражающимся тоскою, иронией, воплями отчаяния. Вопрос в отношении к Занду состоит только в том, каковым сам поэт входит в этот мир, с чем он к нему приступает, что он в него вносит? Вопрос, который естественно поворачивает мысль к первому периоду деятельности Занда, и разрешение которого пояснит, между прочим, почему только «La mare au diable» и «Теверино» совсем удались Занду в новом направлении и новой манере творчества.
Что же такое этот первый период Зандовой деятельности, период без малейшего уже сомнения блистательнейший, чем второй, в художественном отношении? — период, отмеченный и тончайшими и вместе изящнейшими и правдивейшими очерками таких отношений, какие развиты, например, в «Лавинии», и глубокими анализами, которым только некоторой последовательностинедостаетдлятого,чтобыбытьбеспощадно правдивыми, как «Леоне Леони», «Ускок», «Орас» и самая «ЛукрецияФлориани» —ванализеотношенийееиКароля, —
итакими поразительно сжатыми драматическими развитиями отношений, каковы: «Андре», «Мельхиор», «Маркиза» и некоторые другие небольшие рассказы, и такими глубокими психологическимизадачами,каковызадачивсозданиилиц:Жака, Спиридиона, Симона, Альберта Рудольштадта в «Консуэло»,
итакими искренне-страстными, пламенными порывами, каковы «Индиана», «Валентина», и таким, наконец, удивительным мастерством, которое, например, является в «La derniere Aldini»58 или в первой части «Консуэло». Что же такое этот период, представляющий могущественный расцвет гениальной натуры, что в нем увлекало и увлекает доселе?
Отчасти уже исчисляя некоторые перлы этого периода — боюсь, не пропустил ли я которого-нибудь? — я намекнул на то, что в них увлекало и увлекает: увлекает прелесть, особенность художества, глубина психического анализа, новость и важность задач созданий, увлекает великий художник, одним словом, а не социальный реформатор.
55

А. А. Григорьев
Если же захотеть видеть в Занде именно такового реформатора, вопиющего против брака и вообще против условий общественности, то реформатор иногда должен представиться всветенеобыкновеннокомическом,ибосизвестноюзрелостью мысли и крепостью начал нельзя без смеха читать выходок, прорывающихся, например, против брака в «Валентине» и других произведениях, нельзя удержаться от объяснения этих выходок причинами весьма невозвышенными; нельзя, например, с самым пылким сочувствием к Занду не видеть уродливости идеи, под влиянием которой выдумана Квинтилия («Le secretaire intime»59); нельзя тоже не видеть, что, приходя в лета уже несколько зрелые и между тем, к сожалению, не простившись со страстными инстинктами натуры, Занд невольно начала прибегать к поэтизированию женщин несколько на возрасте, как «Метелла», — одна из нелепейших и в сущности комических выдумок и небывальщин фантазии. Нельзя иначе, как с ирониею, отнестись к детскому, можно сказать, азбучному глубокомыслию дневника героя повести «Изидора», хотя вместе с тем нельзя не видеть художественной и вместе нравственной правды постановки отношений этого героя как к Изидоре, так и к Алисе, — нельзя не признать за автором в этом случае и высокого художнического беспристрастия; нельзя, читая «Лукрецию Флориани», не сделать удачного и наивного замечания, сделанного автором статьи о комедии Островского «Не так живи, как хочется» по поводу оправданий героини романа («еще бы без увлечения!»), но вместе с тем нельзя не признать опять всей художественной и нравственной правды глубокого анализа отношений Кароля и Лукреции; а с другой стороны, нельзя спокойно и не оскорбляясь за здравый смысл и нравственное чувство, переварить дикую историю «Невидимых», купно с изложением их таинственного учения в «Графине Рудольштадт»60. Вообще же нельзя не видеть, что Занд — реформатор совершенно неудавшийся, и нельзя не признать в ней великогохудожника —аналитикасердцачеловеческого,корот- ко знакомого с его сокровеннейшими изгибами, — художника, ксожалению,испорченногонапряженнымиидикимитеориями
56

Эстетика народной жизни
вроде теории «Невидимых». Влияние этих несчастных, порожденных, впрочем, безобразиями условного и чисто формального общежития, теорий, — отразилось в деятельности Занда и на переделке «Лелии», произведения поэтически-безумного в первом виде своем и совершенно комического — бессознательно для автора — во втором своею картонною постройкою61,
ив целом создании романа «Compagnon du tour de France»62, произведения, совершенно безобразного своими претензиями
идаже противного самодовольным, узким догматизмом, и наконец, в таинственном учении «Невидимых», проповедуемом в «Графине Рудольштадт». Безобразия, порожденные этим несчастным влиянием несчастных и узких теорий, очевидны теперь уже вероятно и для самых пламенных поклонников Занда. Объясняю причину силы этого влияния проще. Великий талант и необузданно страстная натура Занда, высказавшись энергически всеми своими резкими сторонами, прорвавшись всеми вулканическими взрывами, наконец, уходились бы, говоря просто, — и Занд, как многие другие художники, ограничилась бы наконец разработкою своей художественной задачи, т.е.тончайшиманализомжизнисердца,еслибывсамомначале пути не повстречала она готовую теорию или целые группы многоразличных теорий, оправдывающих, опрагматизовывающих, приводящих в систему учение о правах плоти, теорий, порожденных как противодействие узким определениям сферы духа в католичестве и римстве. Самостоятельный процесс художнической натуры, который вел к каким-либо более значительным по смыслу своему результатам, значительным хотя бы по смыслу отрицательному — был задержан, так сказать, окаменен условною теориею, утопиею, столь же узкою, столь же лишенною нравственных соков, столь же произвольною, как насильственные формы общежития, против которых она восстает, да еще вдобавок не имеющею за себя и тех исторических основ, какие tant bien que mal63, имеет за себя общежитие. Влияние этой-то узкой утопии, этих-то теорий выразилось, как порчахудожественная,авместеинравственная,т.е.вообщекак неправда, в деятельности Занда.
57

А. А. Григорьев
ВозьмемтедажеизпервыхпроизведенийЗанда,вкоторых то же страстное начало еще не возведено в принцип теориею
таинственного учения «Невидимых», «Индиану», «Валенти-
ну» и «Жака» — и, строго разобравши каждое из этих произведений, увидим, что «Индиана» окажется произведением более правдивым художественно, а стало быть, и более чистым нравственно, чем «Валентина», где уже на некоторых страницах подымается теоретически голос плоти и, во имя требования теорий, уже становится многое на ходули, — чем «Жак», в котором теория уже начинает приводиться в догму. «Индиана» же вовсе и не протест: Индиана — анализ женского сердца, нежного, раздражительного, нетерпеливого и за то самое (заметьте это) казненного в своей незаконной страсти к Ремону. Отношениехудожникаклицамисуднаднимиещесовершенно правилен в этом произведении: Индиана и Нум — жертвы сердечных увлечений, казнимые даже слишком строго; к Дельмару, представителю грубой силы солдатчины, повествователь умеет еще отнестись довольно беспристрастно, особенно после отъездаИндианы;Ремонизображенссердцеведеньемвеликого мастера,икмелочностиегонатурыотношениеопять-такипра- вильное совершенно; наконец, постановка отношений Ральфа к Индиане, в которых впервые открывается желаемый мир поэта, в идеале — верна; любовь Ральфа бескорыстная, глубокая, покоряющаясядолгу,имеетнепротивобрачныйхарактервсвоих основах, а характер более брачный, т.е. характер вечности и прочности любви. В «Индиане», одним словом, не возводится еще в теорию беспутство сердца, отдающегося кому ни попало, но художественно повествуется о заблуждениях сердца, казнимогозазаблуждения.В«Валентине»слышитсяужеинойголос, голос протеста — протеста, между прочим, правого в том, что имеет он против условного и сухого формализма; и сочувствие поэта к Бенедикту, представителю слепых, но по крайней мере искренних и живых требований сердца и души, в противоположность условной и всеми сознаваемой лжи, — проявляется ли эта ложь в высшей общественной среде, в которой вращаются страшные сухие эгоизмы матери Валентины и ее мужа,
58

Эстетика народной жизни
или в среде мещанской, в претензиях и своекорыстии мещанского довольства, в Атенаисе и ее кружке, — сочувствие к Бенедикту вполне понятно и потому не вредит художественной правде. Но в «Валентине» раздается на некоторых страницах уже теоретический голос — и, как раздающийся извне, помимо трагического и правильного развития отношений, он действует неприятно, резко, как фальшивые ноты; кроме того, в образе Луизы выступает здесь, в желаемом мире автора — сухое, отвлеченное и гнилое представление о добродетели, как будто добродетель по натуре своей непременно должна быть скучна, приторна и притом непременно быть всегда в загоне, — представлениеодобродетели,почтивсегдаодинаковоеуписателей, утративших в нее веру, а между тем силящихся создать о ней какую-нибудь определенную идею приличия ради.
Занду неоткуда взять живых представлений о добродетели — все определения ее в сфере общежития, окружающей поэта, истаскались, изношены, стали ветошью. И вот начинается созидание добродетели по теории различных социальных учений — созидание, которое вносит фальшь и скуку даже в лучшие произведения Занда. Ни одно из них так ярко не носит на себе печати дурного в художественном и нравственном отношении влияния узких теорий, условно поставляемых на место разбираемого условного, как высшее по глубине анализа произведение Занда — «Орас». Я называю его высшим, потому что нигде с такой смелостью и беспощадностью художник не пускал хирургического инструмента в самое больное место сердцасовременного,развитогоцивилизациейчеловека;ноговорить о достоинствах этого анализа я не буду: по отношениям к мысли моей важнее гораздо указать на его недостатки. Недостатки же «Ораса» все в желаемом мире художника: в этот желаемый мир проникло развращение сердца, едва ли не большее, чем то, которое казнит он в «Орасе». В Орасе, например, существует мысль, что любима истинно может быть только чистая и целомудренная женщина — мысль, которая, конечно, в его развращенной натуре действует только отрицательно; но ведь бузенготы64, которых мораль несчастный, ослепленный
59

А. А. Григорьев
великий художник хочет выдать за истинную, преследуют в «Орасе» эту мысль как безнравственность и вообще считают женское целомудрие и чистоту за факт, который может быть и не быть, не умаляя достоинства женщины; но ведь добродетельная Евгения без малейшего стыда живет в бузенготском браке с приятелем Ораса — так, как будто это так и быть должно, да вдобавок еще эта добродетельная бузенготка скучна до невыносимости своим сухим резонерством, своим — извините за парадоксальность выражения — методизмом, квакерством, ханжеством догматизированной безнравственности. Возьмите потом все фигуры добродетельных старцев или юношей из поселян и низшего класса вообще, во втором периоде деятельности Занда, — вы чувствуете, что они насквозь пропитаны теориями социального учения, что теории, испортивши в них художественную правду, обузили, иссушили, истощили и правду нравственную. В сущности своей эти теории сами по себе противохудожественны, потому что противожизненны и противонравственны. В этом отношении любопытнейшую исповедьсамогоЗанда,какхудожника,долгоборовшегосясузкими теориями, долго выстаивавшего правду своего пламенного сердечного протеста, представляет следующее место в «Lettres d’un voyageur»65, место, обращенное, по всей вероятности, к одному из «Невидимых» — увы! столь некстати вмешавшихся в деятельность великого художника, — и выражающее борьбу жизненного, нравственного, свободного художества с учительскою указкою, борьбу, впрочем, явно безнадежную по слабости борющегося, по его впечатлительности, по его способности подчиняться влияниям. «Скажи мне, — пишет Занд к одному из таковых в письме, помеченном 16 апреля, — что значат твои выходки против художников? Кричи против них, сколько тебе заблагорассудится, но уважай искусство. О вандал! — нравится мне очень этот суровый старовер, который хотел нарядить Тальони в толстые лохмотья и деревянные башмаки, а руками Листа ворочать жернова, и который в то же время падал на землю и плакал, слыша щебетанье зяблика. Гражданин угрю-
мыйхочетуничтожитьартистов,какобщественныйнарост,
60
