
- •Раздел I
- •Глава 1
- •Глава 2
- •Глава 3
- •Раздел II
- •Глава 4 психогигиена
- •Глава 5 психопрофилактика
- •Раздел III психическая болезнь
- •Глава 6
- •Глава 7
- •Глава 8
- •Глава 9
- •Психический
- •Глава 10
- •Раздел V. Психические расстройства I. Психозы (290—299)
- •290. Сенильные и пресенильные органические психотические состояния.
- •291. Алкогольные (металкогольные) психозы.
- •292. Интоксикационные психозы вследствие злоупотребления наркотиками и другими веществами.
- •293. Преходящие психотические состояния, возникающие в результате органических заболеваний.
- •294. Другие психотические состояния (хронические), возникающие в результате органических заболеваний.
- •296. Аффективные психозы.
- •297. Параноидные состояния.
- •298. Другие неорганические психозы.
- •299. Йсихозы, специфичные для детского возраста.
- •300. Невротические расстройства.
- •301. Расстройства личности.
- •302. . Половые извращения и нарушения.
- •303. Хронический алкоголизм.
- •III. Умственная отсталость (317—319)
- •Раздел IV
- •Глава 12 неврозы
- •Глава 13 реактивные психозы
- •Глава 14 психопатии
- •Глава 16
- •Глава 17
- •Глава 18
- •Глава 19
- •Глава 20
- •Глава 21
- •403 402 14
- •Глава 22
- •Глава 23
- •Раздел V
- •Глава 24 шизофрения
- •Глава 25
- •Глава 27 эпилепсия
- •Глава 28 олигофрении
- •Раздел I. Общие вопросы психиатрии ... 4
- •Общая психопатология
- •Глава 16. Алкогольные (металкогольные) психозы.—
Глава 8
СИМПТОМЫ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ
ПСИХИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
И ПРИЗНАКАХ ЕГО НАРУШЕНИЯ (СИМПТОМАХ)
С помощью психических процессов в нашем сознании отображается вне нас и независимо от нас существующая объективная реальность — все окружающее и мы сами как часть этой реальности. Благодаря психическим процессам мы познаем мир: с помощью органов чувств в акте восприятия мы отражаем в нашем сознании предметы и явления; с помощью процесса мышления мы познаем связи между предметами и явлениями, реально существующие закономерности; процессы памяти направлены на фиксацию этой информации, способствуя дальнейшему развитию познания. Таким образом, восприятие, мышление и память составляют процесс познания. Однако психическая деятельность не ограничивается познанием мира. Частью психического акта является наше отношение к внешнему миру и ко всему в нем происходящему — эмоции. Наконец, к психическим относят волевые явления: внимание, желания, влечения, мимику, пантомимику, отдельные действия и целостное поведение человека. Таковы составные элементы сложного психического процесса и одновременно — стадии отражения мира. Эти стадии обобщенно представлены в определении В. И. Ленина: «От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности» '.
Этим стадиям, характеризующим динамику познания, можно найти соответствие с категориями, обозначенными и исследованными наукой психологией в качестве слагаемых психического акта. Таким образом, это прежде всего «живое созерцание», или чувственное познание окружающего, непосредственное восприятие реальных предметов и явлений; далее — «абстрактное мышление», или рациональное познание окружающего; и наконец, деятельность человека, «практика» как критерий правильности познанного и как 'источник дальнейшего познания.
' Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 152—153.
158
Высшей формой отражения является сознание. Сознание является специфической формой психической деятельности человека. Оно детерминировано общением между людьми, социальной сущностью человека.
Особенности протекания психических процессов, их сила, уравновешенность, подвижность, направленность являются сугубо индивидуальными, определяются биологическими свойствами каждого человека и его социальным опытом. Соотношение биологического и социального в человеке составляет единую, неповторимую личность, человеческое «Я». Личность определяют такие ее свойства, как характер, темперамент, способности, установки.
В норме у психически здорового человека все психические процессы гармонично связаны, адекватны окружающему и правильно отражают происходящее вокруг. При психических заболеваниях эта гармоничность нарушается, страдают отдельные психические акты или патологический процесс охватывает всю психическую деятельность генерализованно; наиболее тяжелые психические болезни затрагивают личность человека, поражают его человеческую сущность.
ИНФОРМАТИВНАЯ СУЩНОСТЬ СИМПТОМОВ
Наиболее важную информацию для распознавания психических болезней можно получить при выявлении, учете и анализе клинических признаков психического расстройства, его знаков — симптомов. Симптомы являются производными болезни, ее частью. Они порождены теми же причинами и патогенетическими механизмами, что и болезнь в целом. Поэтому своими особенностями симптомы отображают и общие свойства самого заболевания, и его отдельные качества.
Динамикой симптоматики создается история развития заболевания — не только в прошлом, но и в дальнейшем. На основании знаний закономерностей формирования симптомов, их содержания, сочетаний, чувствительности к терапевтическому воздействию можно не только успешно диагностировать психическое заболевание, но и судить о тенденциях его дальнейшего течения и исхода.
Информационная емкость симптомов неодинакова. Например, такой симптом, как галлюцинация, несет очень большую информационную нагрузку. Галлюци-
159
нацией может даже исчерпываться клиническая картина психического заболевания на каком-то его этапе. Ускорение или замедление темпа мышления, двигательное возбуждение, истощаемость внимания и другие симптомы практически не бывают представлены самостоятельно. Они могут рассматриваться лишь в комплексе с другими, связанными с ними признаками болезни.
Диагностическая значимость симптома определяется степенью его специфичности. Галлюцинация как симптом потому и «более информативна, что обладает большей специфичностью по сравнению с таким малодифференцированным симптомом, как истощаемость внимания. Истощаемость внимания, бессонница, головная боль, раздражительность, снижение настроения и другие астенические и аффективные симптомы наблюдаются не только при психических, но и при тяжелых соматических, неврологических заболеваниях. Галлюцинации же характерны лишь для ограниченного ряда психических болезней.
Степень специфичности и диагностическая значимость симптома тем больше, чем ближе он к индивидуальным особенностям случая. Любой обобщенный симптом малоспецифичен; при его констатации никогда нельзя сказать, о каком заболевании идет речь. Конкретное же заболевание привносит в клиническую картину симптомов свои черты, свои особенности, по которым мы распознаем не симптом вообще, а симптом, свойственный тому или иному заболеванию. Например, на бессонницу жалуется и больной неврастенией, и больной маниакально-депрессивным психозом, и больной, страдающий церебральным атеросклерозом. Но все эти больные не спят по-разному. Для неврастении характерна недостаточность внутреннего торможения, определяющая появление раздражительной слабости, нетерпеливости и других симптомов. При слабости тормозных реакций сон оказывается очень поверхностным, больные на протяжении ночи часто пробуждаются под воздействием незначительных раздражителей. Вполне естественно, что такой сон не дает отдыха: утром больные встают с тяжелой головой, разбитые, жалуются, что не спали, слышали все происходившее вокруг.
Тоскливый больной маниакально-депрессивным психозом всю ночь не может сомкнуть глаз. Он ни на
160
минуту не в состоянии отвлечься от своих тягостных переживаний: прошлое кажется цепью ошибок, настоящее мучительно, будущее — бесперспективно. За ночь больной так измучится, что к утру, убежденный в безвыходности своего положения, начинает обдумывать способ уйти из жизни. Больные с анестетической депрессией крепко спят всю ночь, но просыпаются с ощущением, будто не спали совсем. Кроме чувства сна, у таких больных отсутствуют чувство насыщения при еде, чувство голода, радости, горя; иногда больные жалуются, что не чувствуют даже своего тела. Для больного с церебральным атеросклерозом характерна быстрая истощаемость всех психических процессов, что проявляется слабодушием, неустойчивостью внимания, недостаточностью памяти. Истощаемость сочетается с инертностью в реакциях, вследствие чего возбужденный событиями дня, разговорами больной долго не может уснуть. Заснув, через 2—3 ч просыпается вследствие истощаемости механизмов сна. Предпринимает отчаянные попытки заснуть снова. Наконец, к 6—7 ч утра засыпает, но вскоре просыпается по звонку будильника, так как нужно уже вставать.
Приведенные примеры показывают, что одни и те же психопатологические симптомы в данном случае выглядят по-разному при разных заболеваниях, поскольку существуют различия в патогенезе. Вместе с тем, объединенные единством происхождения все симптомы одной и той же болезни имеют общие черты.
ПРОДУКТИВНАЯ И ДЕФИЦИТАРНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА
161
По особенностям происхождения вся психопатологическая симптоматика с известной долей условности может быть разделена на позитивную и негативную. Позитивная симптоматика (продуктивная, плюс-симптоматика) возникает в связи с патологической продукцией психики. Сюда относятся галлюцинации, бред, навязчивость, сверхценные идеи и другие патологические образования. Негативная симптоматика (дефицитарная, минус-сиптоматика) — признак стойкого выпадения психических функций, следствие полома, утраты или недоразвития каких-то звеньев психической деятельности. Проявлениями психиче-
6—603
ского дефекта оказываются выпадение памяти, слаооу-мие, малоумие, снижение уровня личности и др. Принято считать, что позитивная симптоматика более динамична, чем негативная; она изменчива, способна усложняться и в принципе обратима. Дефицитарные же явления стабильны, отличаются большой устойчивостью к терапевтическим воздействиям.
На практике разделение психопатологических феноменов на продуктивные и негативные нередко представляет трудности. Так, до сих пор нет окончательного мнения о том, к какой группе отнести астенические нарушения. Астеническая симптоматика может оказаться в одних случаях динамичной, кратковременной, в других — необратимой. Астения сопровождается- недостаточностью внимания, ослаблением памяти, снижением работоспособности, творческой продуктивности. Это все не приобретение, а потери для психической деятельности. В то же время при астении наблюдаются эксплозивные реакции, расстройства настроения, ипохондрические переживания; в недрах астении зарождается любая другая патологическая продукция психики. Известны тяжелые, богатые продуктивной психопатологической симптоматикой так называемые психозы истощения (например, психозы при пеллагре; психозы, сопровождающие септические состояния, и др.). К. Бонгёффером описаны состояния эмоционально-гиперестетической слабости: глубокая астения, которой начинается помрачение сознания при лихорадочном делирии.
Со времени невролога Дж. Джексона, предложившего в первой половине нашего века концепцию продуктивной и дефицитарной симптоматики (в рамках теории единого психоза), накопилось немало фактов, уточняющих понятие дефицита в психической сфере. Стало очевидным, что дефицит — это необязательно необратимый дефект, потеря психической функции; возможно ее торможение, временное выключение.
Так, с помощью современных весьма эффективных методов лекарственной терапии удалось добиться улучшения состояния и даже вернуть в семью немало больных, находившихся годами в колониях и психиатрических больницах с диагнозом: шизофрения, конечное состояние. Оказалось, что некоторые формы шизофренического дефекта в определенной степени обратимы, при них патологический процесс еще не
162
является закончившимся, хотя динамика его резко замедляется.
Очень сложен и слабо разрабатан вопрос о соотношении позитивной и негативной симптоматики, об их взаимном влиянии. В состоянии больного позитивные и негативные симптомы выступают в единстве и взаимной обусловленности, что по-разному бывает представлено в различных условиях, возрастных периодах, при разных заболеваниях. Так, под влиянием неблагоприятных внешних или внутренних причин, тяжелых заболеваний у ребенка может произойти задержка в развитии каких-то психических функций. В силу существующей биологической тенденции к компенсации недостатка другие психические функции станут усиленно развиваться, что приведет к акцентуации каких-то сторон психической деятельности, к общей асикхронии, неравномерности развития.
Выделение позитивных и негативных симптомов в состоянии соответствует клинической реальности. Но выделять их — это не значит противопоставлять, поскольку они существуют в единстве. Дж. Джексон полагал, что болезнь производит только негативные симптомы, позитивные же возникают в результате-активности нервных элементов, не пораженных болезненным процессом. В неврологической практике, где патология касается локальных, порой обширных поражений мозга, преобладают негативные симптомы выпадения функций. При'психических заболеваниях церебральная деструкция не видна невооруженным глазом и речь обычно идет о функциональном поломе. Поэтому сохраняются богатые компенсаторные возможности, что находит свое выражение в многообразии продуктивной симптоматики. Чем явственнее разрушение мозга, тем слабее психическая реакция, тем более отчетливо выступают признаки дефицита, максимально выраженные при органической демекцми.
Вопрос о взаимодействии симптомов является еще недостаточно разработанным в психиатрии и нуждается в'дальнейшем изучении. Более подробно вопрос о соотношении и взаимном влиянии симптомов будет освещен в разделе, посвященном описанию сяидро?,юз. Здесь же следует отметить, что, обследуя больного, его психическое состояние, мы искусственно вычленяем различные симптомы и, хотя они никогда не существуют изолированно, вне связи с другими симптомами,
6- 163
описываем каждый из них отдельно для того, чтобы легче их распознать.
Выделяя симптомы, исследуя их, мы тем самым расчленяем единый психический процесс на его составляющие. Соответственно структуре психического процесса выделяют симптомы нарушений восприятия, памяти, мышления, эмоциональной сферы и двнга-тельно-волевые нарушения.
НАРУШЕНИЯ ВОСПРИЯТИЯ
Восприятие •— психический процесс отражения предметов и явлений материального мир;).
Восприятие —- сложи-,:;" акт, в котором присутствуют и ьззимо-действуют все слагаемые психического процесса: память, мышление. Восприятие начинается с ощущения.
О щущен ие — неотъемлемая часть восприятия, первый эле-мент психического процесса, с помощью которого мы отражаем качества предметов н явлений, отдельные их свойства: величину, форму тела, массу, цвет, прозрачность к т. д. Еще Аристотелем было отмечено, что ничего не существует в нашем сознании, чего не было бы прежде в ощущениях. Ощущения и восприятия — это ворога, через которые внешний мир входит в наше сознание. Ощущения и восприятия — источник всех наших знаний.
Ощущения и восприятия являются результатом функционирования анализаторов, на которые воздействуют предметы и явления. Значение правильной, согласованной деятельности органов чувств для психического процесса чрезвычайно велико. Потеря анализатора в результате заболевания или хирургического вмешательства приводит к резкому падению психической активности, нарушению высшей нервной деятельности. Это убедительно показано в экспериментах И. П. Павлова с экстирпацией церебральной части одного или нескольких анализаторов у животных, наблюдениях многих авторов за поведением и самочувствием человека в сурдокамере, в условиях сенсорной изоляции и депривации.
Восприятие предмета сводится к совокупности ощущений, получаемых от него, только у новорожденного. У взрослого человека в процессе жизни в воображении создается образ всякого предмета, своеобразный эталон, с которым мы мгновенно сравниваем предметы, узнавая их. Восприятие взрослого человека для наглядности изображают формулой: восприятие = сумма ощущений -)- представление.
Представление это мысленный образ предмета. Представления могут быть конкретными и сводиться к воспоминаниям об определенных объектах, воспринятых в прошлом. Вместе с тем в результате взаимодействия представлений возникают новые сложные, обобщенные представления предметов и явлений. Представления формируются в процессе деятельности человека и являются своего рода знанием о предмете, постоянно совершенствующимся.
Появление расстройств восприятия при психических заболеваниях означает искажение информации о
164
внешнем мире. В результате нарушаются ориентировка в нем, понимание его, поведение человека. Патология может касаться как ощущений, так и целостного акта восприятия.
Изменения ощущений в патологии могут быть количественными к качественными. Количественные свидетельствуют об изменении порога раздражения — его понижении или повышении.
Понижение чувствительности к раздражителям — гипестезия — достигает иногда степени полного бесчувствия — анестезии. Недостаточность ощущений может касаться любого анализатора, она может быть периферического или центрального происхождения, истинной или результатом самовнушения.
При поражении нервных стволов, нервных центров у больных с органическими заболеваниями центральной нервной системы кожная анестезия соответствует зонам иннервации. Такого рода гипо- или анестезия, связанная в развитием неврита или полиневрита, обнаруживается после перенесенных инфекционных психозов, у страдающих алкоголизмом, наркоманией, при энцефалопатиях, вызванных производственными и другими интоксикациями. При посттравматических, сифилитических, сосудистых поражениях мозга наряду с явлениями астении и интеллектуально-мнестической недостаточности отмечаются нарушения кожной чувствительности центрального, очагового характера.
У больных истерией бывают изменения кожной чувствительности по типу чулка, носка, перчатки, жилета или распространяющиеся на всю половину тела. Они нередко появляются после психических травм, по своему характеру соответствуют представлениям больных о клинических проявлениях параличей. То же можно сказать и об истерической слепоте, глухоте, притуплении вкуса и обоняния, носящих обычно обратимый и кратковременный характер.
Повышенная чувствительность к раздражителям — гиперестезия — наблюдается у астенизированных больных "с признаками раздражительной слабости. Солнечный свет, обычные звуки, запахи кажутся невыносимыми, раздражает прикосновение одежды к телу.
Среди качественных изменений ощущений следует выделить парестезии и с е н е с т о л а т и и. При них больные жалуются на неприятные ощущения
165
стягивания, покалывания, шевеления, напряжения, распираний и др. в суставах, руках и ногах, под кожей, во всем теле. При парестезиях ощущения носят более конкретный, физический, чувственный оттенок. Сенестопатии нередко отличаются неопределенностью и нечеткостью ощущений, а порой и вычурностью; больные чаще связывают их с состоянием внутренних органов, мозга. По своему происхождению парестезии — результат неврологических расстройств, при сенестопатиях видимой патологии нервов и нервных центров, соответствующих соматических нарушений не обнаруживается. По своей сути сенестопатии являются иллюзиями и галлюцинациями общего чувства (тактильными и интероцептивными).
Качественными нарушениями, патологическими изменениями содержания восприятия являются обманы органов чувств — иллюзии и галлюцинации. При иллюзиях восприятия оказываются искаженными и не соответствуют объекту восприятия; при галлюцинациях источник раздражения полностью отсутствует, но у человека появляются различные ощущения, восприятие несуществующих предметов и явлений. Остановимся более подробно на характеристике этих явлений.
Иллюзии. Это ошибочные восприятия чего-либо реально существующего. Появление иллюзий необязательно свидетельствует о наличии психического заболевания, а нередко наблюдается и у здоровых людей. Одним из условий возникновения большинства психических иллюзий является недостаточность информации, поступающей от органов чувств. В темноте легче обознаться, принять одно за другое, чем в яркий солнечный день. Именно поэтому иллюзии бывают у людей с ослаблением функциональной способности какого-то органа чувств: слуховые — у тугоухих, зрительные — у лиц со слабым зрением и др. При иллюзиях недостаток информации восполняется представлением о том, что это за предмет — воображением. Представления возникают в этих случаях не произвольно любые, а лишь определенные, доминирующие в данный момент в сознании. Так, человек, испытывающий страх, может в темноте принять за притаившегося злоумышленника висящее в углу пальто.
По этим же закономерностям сходные иллюзии появляются и в патологии. Некоторые психозы (белая
166
горячка, обострение шизофрении, предстарческий психоз, сосудистые психозы) начинаются страхом, тревогой, беспокойством, ощущением надвигающейся беды. Больной чувствует какую-то грозящую ему опасность, пытается понять, в чем дело, с тревогой всматривается в- окружающее, вслушивается. В сочетании звуков улицы,' в обрывках слов или фраз прохожих ему удается «расслышать» то, что созвучно его настроению: началась война, на него готовится покушение; крики весело играющих во дворе детей он воспринимает, как крики пытаемых в подвале родственников, плачет, умоляет не мучить их. Это так называемые аффективные иллюзии, при которых обычно имеется бредовая готовность, созданная болезнью.
При недостаточности ощущений роль представлений в восприятии возрастает. В норме возникающие иногда ошибки восприятия корригируются здоровым суждением. У бредовых больных патологически измененными являются и представления, и суждения; к тому же бредовые представления оказываются доминирующими в сознании. Вот почему даже при наличии достаточного по силе раздражителя информация, поступающая от органов чувств, искажается бредовым представлением. Глядя на себя в зеркало, больной шизофренией «видит», как нижняя часть его лица вытягивается вперед, превращается в волчью' морду; больной пресенильным психозом, называющий себя живым трупом, «видит», как жизнь уходит из его тела, обнаруживает трупные пятна, якобы выступающие на теле, и другие признаки умирания. Подобные и н т е р-претатквные иллюзии имеются и у больных с острым чувственным бредом, с бредом интерметаморфозы, положительного и отрицательного двойника, о чем будет сказано позже.
При третьем виде иллюзий — парейдоличе-с к и х — информация об окружающем искажена фантастическими представлениями, причудливой игрой воображения у больных с начинающимся помрачением сознания. Так, у лихорадящего ребенка приходящие извне к органам чувств раздражения мгновенно трансформируются в иллюстрации к сказочным сюжетам, которые" он мысленно создает; пятна на обоях, трещины в стене, блики света на потолке вдруг выступают, начинают двигаться, принимают очертания животных, зданий; облака превращаются в замки, в их контурах
567
видятся города, красивые пейзажи. В Дальнейшем номере утяжеления состояния больного связь с реальностью все более и более утрачивается, при этом роль ощущений в восприятии постепенно убывает, а представлений — возрастает. Наконец, наступает момент, когда воображение, мысль, представление настолько актуализируются, что целиком формируют восприятие больного, реальные же ощущения перестают что-либо значить.
Галлюцинаций. В отличие от иллюзий, имеющих раздражитель, предмет для восприятия, галлюцинации — восприятие без объекта, мнимое восприятие. Галлюцинирующий слышит голоса, видит людей, которых нет на самом деле. При этом у него имгется полная убежденность в реальности восприятия.
Ж. Эскироль, впервые описавший галлюцинации, определял галлюциианта как человека, у которого существует убеждение, что он видит, слышит или как-то иначе воспринимает будто бы существующий предмет.
Галлюцинации различают по органам чувств, выделяя слуховые, зрительные, обонятельные, вкусовые, осязательные и телесные, или галлюцинации общего чувства. В последнем случае патологические ощущения касаются отдельных органов или всего тела; в животе что-то копошится, внутренние органы переместились, кишки склеились, легкие превратились в камень.
Галлюцинации могут быть элементарными, когда слышатся лишь звуки, шум, стук, грохот (акоазмы), видятся полосы света, пятна (фотопсии), и крайне сложными с восприятием человеческой речи (вербальные галлюцинации), видением сцен.
Иногда галлюцинации появляются только при засыпании (гипнагогические галлюцинации) или при пробуждении (гипнопомпические галлюцинации). Особо выделяют редкие, так называемые экстракампинные галлюцинации: больной видит нечто, находящееся вне поля его зрения, например позади себя.
Функциональными, или рефлекторы ы-м и, называют такие галлюцинации, условием появления которых является раздражение данного или другого анализатора. Включив вентилятор, больной в его шуме слышит разговор; выключив вентилятор, он перестает слышать голоса. Под стук колес больной слышит частушки; пение прекращается, когда поезд оста-
168
навливается. В отличие от иллюзий, при ксс-оры-; существующий раздражитель воспринимается как что-то другое (вместо одного предмета другой), рефлекторные галлюцинации сопровождаются одновременным восприятием и самого раздражителя, и галлюцинации.
Помоленпе галлюцинаций свидетельствует о значительной тяжести психических Нарушен;*!-;. Галлюшша-шчг, псеьмз частые при психозах, не бьпают у больных неврозами. Изучение особенностей галлюцинаций в каждом конкретном случае мо.-кет помочь установить диагноз психического заболевание и нр-деказать его исход. Так, мнимое восприятие человеческой речи характерно длл шизофрении и для алкогольного галлю-циноза. Но при шизофрении голоса, которые больной слышит, чаще обращаются к нему, комментируют его действия или что-то приказывают сделать. При хроническом алкогольном галлюцинозе голоса говорят о больном з третьем лице, обычно осуждают за пьянство.
Зрительные галлюцинации характерны для наиболее острых психозов, связанных с интоксикацией центральной нервной системы, инфекцией, встречаются при органических поражениях головного мозга. Так, при сыпнотифозном психозе больной видит пожар в помещении, где он находится; при белой горячке ему представляются животные или черти, страшные чудовища. Психозы, связанные с потерей близких (реактивные психозы), сопровождаются видением умерших: обычно ночью, в темноте, в белом одеянии в углу комнаты или в гробу, из которого они встают. Для шизофрении же зрительные обманы нехарактерны, если встречаются, то неразвернутые и кратковременные при острых состояниях.
Появление обонятельных галлюцинаций в клинической картине -шизофрении может означать развитие тенденций к неблагоприятному течению заболевания с устойчивостью к лечению. При кокаиновой интоксикации больные испытывают ощущение, будто под кожей передвигаются насекомые, иголки, мелкие живые существа и предметы (симптом Маньяна).
О наличии галлюцинаций мы можем узнать не только из рассказа больного, но и по его поведению (объективные признаки галлюцинаций). Это бывает особенно важно в тех случаях, когда больной скрывает галлюцинации от окружающих. Больной со слу-
169

Рис. 5. Больной разговаривает с галлюцинаторными голосами. Рис. 6. Больная со слуховыми галлюцинациями закрывает уши.
ховыми обманами разговаривает с голосами, прислушивается, отвечает им (рис. 5). Чтобы не слышать надоевшие ему голоса, убежденный в их реальности больной закрывает уши руками (рис. 6), забивает наружный слуховой проход ваток, бумагой, пластилином. Больной зажимает пальцами нос, чтобы не ощущать неприятных запахов (рис. 7), зажмуривает глаза при зрительных галлюцинациях (рис. 8), закрывает лицо, во что-то всматривается. При отравлении тетраэтилсвинцом больной в состоянии психоза непрерывно вынимает изо рта несуществующие волосы, которые он ощущает.
Сопровождающее обманы восприятия неправильное поведение больного целиком отражает фабулу галлюцинаций. Спасаясь от мнимого пожара, больной иногда прыгает в окно с высокого зтажа и разбивается; гибнет под колесами транспорта, убегая от несуществующих преследователей, голоса которых слышит; долго отказывается от еды, может умереть от голода, так как пища на вкус или по запаху кажется отравленной. Попытки родных и знакомых переубедить больного бессмысленны. Особенно опасны больные со слуковыми императивными галлюцинациями, когда
170

Рис. 7. Больной с обонятельными галлюцинациями закрывает нос. Рис. 8. Больной со зрительными галлюцинациями зажмуривает глаза.
голоса приказывают больному что-то сделать: не есть, не принимать лекарств, ударить кого-то, убить, покончить с собой.
Истинные галлюцинации обладают всеми признаками реального восприятия и неотличимы от действительно существующих объектов. Как и реальное восприятие, галлюцинаторный образ имеет чувственную живость: силу, высоту, тембр голоса, цветность изображения, объемность, яркость и др.; воспринимается больным во внешнем пространстве (обладает свойством экстрапроекции); появляется независимо от желания больного; не имеет для больного связи с его «Я», воспринимается как объективная реальность.
Поскольку по своему происхождению галлюцинация есть ожившее до степени реального восприятия представление больного, то при медленном и незавершенном процессе образования галлюцинаций можно обнаружить у больных такие «недоразвившиеся галлюцинации». Подобные клинические феномены, находящиеся в своем развитии на полпути от представлений к галлюцинациям, названы галлюциноидами (Е. А. Попов). Например, мысль больного приобрела
171
все свойства восприятия, кроме ьорвого (ч/встьсниая живость). Такой больной слышит бе,;.нпу';П:.:е голоса, говорит о том, что это не голоса, а чужие мысли или что это голос робота — «механический, ни мужской, ни женский», или же больной видит прозрачные фигуры, не закрывающие от него окружающее, предметы черно-белые («как в кино») — отсутствует цветность. Г. Баярже описал голоса «тише самого тихого шепота» и назвал эти обманы восприятия психическими галлюцинациями.
Другой вариант галлюциноидов — обманы восприятия без экстрапроекции. Больной видит всадника на коне, может сказать, какого цвета у него рубашка, но видит где-то внутри себя — «внутренним взором». Больной слышит голоса, звучащие внутри его головы, некоторые из них узнает, с ними разговаривает; голоса возникают помимо его воли, кем-то передаются ему в голову с помощью аппаратов. Эти мнимовосприятия, не имеющие свойства экстрапроекции, были впервые описаны русским врачом В. X. Кандинским и названы псевдогаллюцинациями. В последующем этот важный для диагностики феномен был детально исследован, поэтому в настоящее врем'я можно дать его более полное определение с учетом и других признаков.
Псевдогаллюцинации — это сопровождающиеся чувством сделанности и ограниченные сферой представлений восприятия мнимых объектов, которые для больного сосуществуют с реальными предметами .и явлениями, но не отождествляются с ними и их собой не заслоняют. Псевдогаллюцинации входят в состав синдрома психического автоматизма Кандинского— Клерамбо (см. Галлюцинаторные и бредовые синдромы).
Бывают обманы ^восприятия, имеющие и чувственную живость, и экстрапроекцию, объективно существующие для больного, но появляющиеся по его желанию, при специальном сосредоточении внимания на этом, когда больной начинает всматриваться, вслушиваться. Это также вариант галлюциноидов: не сформировалось третье свойство галлюцинаций.
Наконец, галлюцинации, которые еще не приобрели или уже утратили (возможно, под влиянием лечения) четвертое свойство — связь с личностью больного, нередко наблюдаются при реактивных психозах и тоже представляют собой разновидность галлюциноидов.
172
Больной понимает, что болен, что это ему кажется, ищет помощи у врача.
Повышенную готовность к патологической продукции психики, к возникновению иллюзий и галлюцинаций в ряде случаев можно проверить с помощью специальных приемов. Больному, только что перенесшему острый алкогольный психоз, предлагают закрыть глаза и, слегка надавливая пальцами на глазные яблоки, оросят его рассказать, что он видах. В поле зрения на темном фоне появляются светлые точки, пятна, полосы, которые создают у больного видение людей, жийотных, чудовищ, бытовых сцен (симптом Лип мани). Больному дают чистый лист белой бумаги, и просят его объяснить, что изображено на бумаге. Вглядываясь, больной рассказывает о том, что якобы там нарисовано, читает несуществующий текст (симптом Рейхардта). Больной может разговаривать с кем-то по телефону, отвечать кому-то, хотя телефон отключен (симптом Ашаффенбурга).
Теории патогенеза галлюцинаций. При попытке понять происхождение галлюцинаций обнаруживается, что ни одна из существующих теорий патогенеза галлюцинации не объясняет всего их многообразия. Наибольшую давность имеет периферическая теория, согласно которой решающее значение в происхождении галлюцинаций придается раздражениям воспринимающих аппаратов анализаторов при их заболеваниях. В экспериментах было показано, что раздражения (механические, электрическим то там) соответствующих нервов действительно вызывают появление световых, зиу-ковых и других ощущений, но они элементарны и не формируют восприятие целостного предмета. Позже стали говорить о значении пятен роговицы, помутнения хрусталика, скопления серы в ухе для появления обманов восприятия по типу вначале иллюзий, а затем и галлюцинаций. Однако эта теория не объясняла тех случаев галлюцинирования, когда в результате заболевания возможность внешнего раздражения анализатора полностью исключалась (у слепых, глухих), а также у лиц со здоровыми органами чувств.
Постепенно сложилось мнение, что галлюцинации имеют центральное происхождение и являются следствием возбуждения высшмх центров органов чувств. Такой точки зрения придерживались, в частности, С. С. Корсаков и В. А. Гиляровский. Устранением возбуждения медикаментами, успокоением больного можно добиться ослабления или исчезновения галлюцинаций.
На основе тормозной теории И. П. Павлоза была разработана концепция, в соответствии с которой возникновение галлюцинаций является следствием торможения коры головного мозга. В этих условиях в очагах'возбуждення оказываются измененными сплопые отношения: на слабый раздражитель (представление) нервная клетка отвечает более интенсивным возбуждением (парадоксальная фаза) или возбуждением той же силы (уравнительная фаза), что и на сильный (реальный предмет). Астор п.чло.кенной концепции Е. А. Попов вводил галлюцинирующим больннм шизофренией под
Г/3
кожу кофеин и па высоте его возбуждающего действия (проверялось по частоте пульса) наблюдал исчезновение галлюцинаций. Очевидно, с помощью кофеина удавалось на некоторое время снять торможение в центральной нервной системе и нормализовать высшую нервную деятельность.
Психосенсорные расстройства. Это понятие было введено М. О. Гуревнчем для ряда сложных искажений восприятия внешнего мира и собственного тела, при которых расстраиваются не ощущения, непосредственно исходящие от органов чувств (проприоцептивные, вестибулярные), а их синтез — сенсорный синтез. Психосенсорные расстройства следует дифферецирозать от иллюзий. При иллюзиях одно (явление, предмет) принимается за другое; при психосенсоркых расстройствах узнавание предметов не нарушено, ко целостное восприятие сказывается иркаженным. Нарушения сенсорного синтеза отмечаются чаще у больных с органическим поражением центральной нервной системы и проявляются обычно в форме пароксизмов.
К психосенсорным относятся нарушения в о с-п р и я т и я с х е м ы те л а. Больному начинает казаться, что у него увеличивается все тело или отдельные его части: голова становится круглой, как шар, раздувается, вот-вот лопнет; язык толстый, не помещается во рту; увеличены и утолщены пальцы, руки и моги. При зрительной проверке этого ощущения больной убеждается, что никаких изменений в его теле ке произошло. Бывает мучительное ощущение уменьшения тела: оно превращается в точку, вот-вот исчезнет; тело может казаться легким, невесомым или очень тяжелым, глаза — выпуклыми или провалившимися, голова — отделившейся от туловища и т. д.
Нарушение восприятия предметов пространства: предметы воспринимаются искаженными (метаморфопсии), увеличенными (макро-псия) или уменьшенными (микропсия), отдаленными или приближенными, нагромождающимися. Больной пытается поставить стакан на стол, но, не рассчитав расстояния, промахивается; стакан падает на пол. Земля, пол кажутся бугристыми, больной то очень высоко поднимает ногу при ходьбе, то неожиданно для себя наталкивается ногой на землю.
Нарушение восприятия времен м, и з-м е н ч и в о с т и окружаю щ его часто сопутствует эмоциональным расстройствам и изменениям сознания. Кажется, будто время тянется мучительно долго или
174
наоборот: дни мелькают с невероятной быстротой; окружающее воспринимается как мертвое, застывшее или" как находящееся в бурном движении.
Д е р е а л и з а ц и я — восприятие окружающего нереальным, чуждым, измененным, искусственным. Дереалйзацил обнаруживается при нарушениях сознания и самосознания.
Деперсонализация — нарушение реальности восприятия себя, своего физического и психического «Я» как выражение нарушения самосознания. Клинически деперсонализация проявляется по-разному: то это нарушение отчетливости восприятия себя, своего тела, мыслей, чувств, действий, то их отчуждение с ощущением сделанности со стороны, то ощущение утраты собственного «Я» или его единства. Признаки деперсонализации разной степени выраженности можно обнаружить при всех психозах.
НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ
Память по-латыни тпе515, поэтому и процесс памяти носит название мнестического.
Память — это психический процесс запечатления, сохранения и воспроизведения прошлого опыта. Патология может касаться любого из трех звеньев мнестического процесса.
В основе мнестического процесса лежит условнорефлекторная деятельность. Как и условный рефлекс, всякий навык или ассоциация является связью, сформировавшейся в процессе жизни человека. Но только условный рефлекс — понятие видовое, а ассоциация — родовое. Зная законы, которым подчиняется условнорефлекторная деятельность, можно понять многие закономерности, касающиеся мнестического процесса и его нарушений.
Так, в соответствии с законами высшей нервной деятельности условный рефлекс окажется тем прочнее, чем большее количество раз он будет подкреплен. То же можно сказать и о мнестических функциях: навык, ассоциация труднее забываются, если они приобретены не однажды, а в результате многократного повторения. Этим можно объяснить тот факт, что в условиях патологии даже при грубых расстройствах памяти профессиональные навыки и знания долго остаются сохранными. Таким образом, первое условие прочности запоминания — достаточное число повторений информации.
Понимание значения нарушений памяти даже среди медицинских работников не всегда правильное. Тяжелобольного с галлюцинациями, бредом, нарушениями поведения часто считают психически здоровым на том основании, что он хорошо все помнит. Между тем на плохую память жалуются обычно все учащиеся, студенты, обращающиеся к невропатологу и психиатру в связи с переутомлением, с послеоперационной, постгриппозпой, соматогенной астенизацией. При
175
этом приводится аргумент, что на домашние занятия теперь расходуется больше времеки, чем прежде, а их эффективность ниже. При объективном исследовании памяти заметных изменений, как правило, не обнаруживается. Прицельный расспрос и обследование помогают установить, что речь здесь идет о нарушении внимания, запоминание же страдает вторично. В связи с недостаточностью активного внимания такой человек при чтении часто отвлекается на посторонние мысли и раздражители, механически пробегая взглядом по тексту и не вдумываясь в его смысл. При этом информация не осознается и потому следа в сознании не оставляет. Таким образом, вторым условием запоминания является достаточная активность внимания. Текст, специально выделенный (жирным шрифтом, курсивом, подчеркнутый, взятый в рамку), сразу обращает на себя внимание и луч то запоминается.
Более прочными являются те знания, которые связаны с целевой деятельностью человека. Это — третье условие. Редко кто может ответить на вопрос, как на циферблате его часов обозначена цифра 6. Много раз в день мы смотрим на свои часы, но с другой целью, поэтому детали художественного оформления циферблата оказываются вне поля нашего внимания.
Четвертое условие — энергетическое подкрепление информации. Лучше запечатлевается та информация, которая связана с появлением эмоциональной реакции. Даже на фоне глубоких выпадений памяти у больных иногда остаются островки воспоминаний об аффективно значимых событиях, особенно приятных. Вместе с тем в клинической практике иногда наблюдаются случаи вытеснения из памяти событий, вызвавших тяжелую отрицательную эмоциональную реакцию. Например, мать, тяжело пережившая смерть единственного сына, вдруг начинает вести себя так, будто совершенно забыла о том, что случилось: готовится к возвращению сына домой после каникул, говорит о нем, как о живом, покупает учебники к началу нового учебного года, хлопочет по хозяйству. О том, что пережитое не исчезло из памяти, свидетельствует тот факт, что полное воспоминание обо всем случившемся можно вызвать в состоянии гипнотического сна; оно может появиться и спонтанно (.например, в связи со сновидениями).
В связи с заболеваниями наблюдаются нарушения разных сторон мнестического акта — фиксации информации, ее сохранения или воспроизведения.
Нарушения запечатления информации
При отсутствии запечатления (фиксации) информации ее сохранение и воспроизведение становятся невозможными. Недостаточность фиксации информации клинически проявляется нарушением запоминания текущих событий, а само явление носит название фиксационной амнезии. Фиксационная амнезия является основным признаком корсаковского амне-стического синдрома и наблюдается при корсаковском психозе, при психозах позднего возраста, при нарушениях питания мозга в связи с поражением кровеносных сосудов (гипертоническая болезнь, атеросклероз) и гибелью нервных клеток.
176
Больной не может ;.члюшшть содержания только что прочитанной книги, что ел за завтраком, куда положил нужную вещь. Такие больные, придя в магазин, не могут вспомнить, что хотели купить. Отмечается нарушение ориентировки в месте и времени. Больные не могут сказать, какое сегодня число, не помнят месяца и года, дня недели; находясь вне дома, не могут сказать, где находятся, когда и по какому поводу поступили в больницу, как зовут лечащего врача и т. д. Жизнь больных с резко выраженной фиксационной амнезией как бы становится одномоментной, данное мгновение переживается без последовательной связи с предыдущим, из-за чего и нарушаются понимание происходящего и ориентировка.
Подобные клинические факты могут быть понятны с позиций новых представлений о существовании кратковременной и долговременной памяти. Эти понятия сформировались и проникли в медицинскую психологию из области инженерной психологии, когда с развитием кибернетики и электронно-вычислительной техники появилась необходимость в конструировании запоминающих устройств. Кратковременную память называют еще и оператив-н о и, поскольку она обеспечивает удержание информации на период выполнения какой-то операции, например счетной. Так, нам нужно в уме 23 умножить на 15. Для этого мы 23 умножаем на 10 и полученное число 230 запоминаем. Затем 23 умножаем на 5, получаем число 115 и его тоже запоминаем. Складываем числа 230 и 115 и получаем конечное число 345. Таким образом, при выполнении счетной операции необходимо запомнить числа 230 и 115. Такое закрепление промежуточной операции на время ее выполнения и есть оперативная, или кратковременная, память. Когда конечный результат счетной операции получен, промежуточный этап стирается из памяти. Возможно, что конечное число 345 окажется важным, его нужно хорошо запомнить; тогда эта информация перейдет в хранилище долговременной памяти.
Физиологическим механизмом кратковременной памяти считают наличие циркулирующего в мозге возбуждения, оставшегося после действия раздражителя. Как известно, в нервных клетках, находящихся в состоянии возбуждения, накапливается рибонуклеиновая кислота (РНК). Кроме того, в участках возбуждения отмечается повышенная электрическая активность. Если возбуждение продолжается более или менее длительное время, то под влиянием активного электрического поля происходят изменения в молекуле РНК и информация кодируется, переходя из кратковременной в долговременную память. В случаях патологии могут быть расстроены механизмы, обеспечивающие этот переход, что, очевидно, и имеет место при фиксационной амнезии и других формах мнестических расстройств.
О том, что процесс перехода информации из кратковременной памяти в долговременную является чрезвычайно ранимым, свидетельствуют экспериментальные данные. У животного вырабатывали двигательный навык, а затем воздействием электрического тока на мозг вызывали судорожный припадок. Навык оказывался сохранным, если электрошок производился не ранее чем через час после выработки на-
177
выка. Если воздействие электрическим током следовало сразу же после выработки двигательного навыка, он не сохранялся. Значит, для того чтобы следы полученного опыта консолидировались и информация, находившаяся в пределах кратковременной памяти, перешла в хранилище долговременной памяти, необходимо время. Приведенный пример является полученной в эксперименте моделью наблюдающихся в клинической практике некоторых вариантов ретроградной амнезии.
Нарушение сохранения прошлого опыта
О сохранении полученной информации (ретенции) судят на основании ее воспроизведения, что неправильно. На самом деле память у нас гораздо лучше, гораздо больше по объему и содержанию, чем мы об этом думаем. Об этом свидетельствуют клинические факты, касающиеся так называемой гипермнези и. Известно, что иногда, в особых условиях, в памяти человека всплывают такие события, которые, казалось бы, давно забыты.
Из литературы известен случай, когда у пожилой женщины, перенесшей тяжелое инфекционное заболевание с высокой-температу-рой, на высоте лихорадочного состояния было изменено сознание: она вела себя беспокойно, все время говорила, декламировала отрывки из древнегреческих произведений. Когда состояние ее улучшилось и она пришла в себя, стало очевидным, что она ничего не знает о древнегреческой литературе и находится в полном неведении в отношении того, о чем говорила в беспамятстве. Удалось выяснить, что в молодости она некоторое время работала служанкой у одного ученого, интересовавшегося вопросами древнегреческой литературы. Работая, он нередко вставал из-за стола, ходил по комнате и громко, с увлечением читал произведения поэтов Древней Греции. Его служанка в это время занималась домашними делами и невольно слушала голос хозяина дома, не вникая в суть высказываний. Но вот оказалось, что ничего не значившая для нее информация была воспринята, многие годы сохранялась, а затем в состоянии измененного сознания выплыла откуда-то из глубин памяти.
Забывание прошлого идет не беспорядочно, а по определенным закономерностям. ПозаконуРибов первую очередь страдает более поздний опыт как хуже организованный, чем ранее приобретенный; затем постепенно стираются в памяти более давние события. Это касается как нормы, так и патологии, но при патологических состояниях процесс забывания протекает бурно и преобладает по сравнению с накоплением знаний. На этом фоне обычно наблюдается актуализация информации раннего периода жизни, с особой четкостью вспоминается то, что происходило в детстве, в юности (явления гипермнезии). Такой больной не помнит, что год назад похоронил жену, что 2 года назад сменил место житель-
178
ства, называет прежний адрес, не может сказать, 5 или 10 лет назад он оставил работу и стал пенсионером, но ясно помнит детство, улицу, на которой находилась школа, помнит, как звали его первую учительницу. Память образно можно сравнить со слоями земли: постепенно приобретаемые на протяжении жизни сведения, знания, навыки наслаиваются на прошлый опыт и увязываются с ним, организуются. Болезнь, смывая верхние слогу!, высвобождает все более и более древние напластования, которые прежде потому и не обнаруживали себя, что были сдавлены и скрыты вышележащими.
Нарушение воепрсжведения прошлого опыта
Нарушение воспроизведения прошлого опыта (репродукция) обнаруживается всегда при расстройствах фиксация и еохракенпп следов пережитого. Однако могут быть и первичные поражения именно этого звена м-шсти'нского процесса. Так, у страдающих церебральным атеросклерозом нарушается иногда способность руководить своими воспоминаниями; в ответственной ситуации никак не удается вспомнить нужного: имен, дат, точных названий. Однако через некоторое время, когда необходимость в этом отпадает, эти сведения легко всплывают в памяти.
Бее расстройства воспоминания принято делить на количественные, качественные и нарушения чувства знакомости.
К»личестзеинь;.е нарушения воспоминаний
Количественные нарушения воспоминания разделяются на гипермнези" и гипомнезии. Гипермисзия, кроме описанных ранее вариантов, отмечается также у больных с ассоциативной расторможешюстью при маниакальных и гипс-маниакальных состояниях. Гнпомиезии делят на общие (тотальные) и о с т р о в ч а-тые (лакун арные) амнезии. Тотальную ги-помнезию сравнивают со старой книгой, у которой затерт шрифт и которую из-за этого трудно читать, амнезию — с: книгой с вырванными страницами.
При гипомпезии наблюдается общая недостаточность воспоминании, подчиняющаяся закону Рибо. В особенно тяжелых случаях гипомнезии оказываются
179
невозможными воспоминания о событиях последних лет и даже десятилетий. Такой тяжелый распад памяти в направлении от более позднего периода времени к более раннему обозначают как прогрессирующая амнезия.
Разрушительному действию болезни лучше противостоит не только более систематизированный ранее полученный опыт, но и более автоматизированный: моторная и эмоциональная память оказываются устойчивее, чем зрительная и слуховая. Эта симптоматика выявляется у больных со старческим слабоумием, с болезнью Пика или Альцгеймера.
Среди амнезий выделяют также аптеро- и ретроградную амнезии. Исчезновение из памяти событий, предшествовавших черепно-мозговой травме (инсульту, эпилептическому припадку, отравлению, самопозешению и др.) за несколько минут, дне": и даже недель, именуется в клинической практике ретроградной амнезией. Отсутствие воспоминаний о событиях, следующих после черепно-мозговой травмы (инсульт, эпилептический припадок и др.) характерно для а нтер о г р а д н о и амнезии. Ретроградная или ретроантероградная амнезия является одним из признаков корсаковского синдрома.
Человек ехал на мотоцикле, и на 78-м километре от города его сбила грузовая машина. После полученной черепно-мозговой травмы он мог припомнить только то, что было до 64-го километра, и те события, которые происходили по истечении нескольких часов после травмы. После травмы изменена функциональная способность мозга, из-за этого впечатления некоторое время могут мозгом не фиксироваться, даже если человек после потери сознания пришел в себя и внешне ведет себя правильно. Но факт выпадения из памяти 14 км пути (от 64-го до 78-го километра — примерно 15 мин), когда человек был еще здоров, свидетельствует о том, что следы впечатлений этого периода не успели отложиться прочно в памяти, поэтому и были стерты травмой.
Качественные нарушения воспоминаний
Качественные нарушения воспоминаний (д и с м н е-зии, парамнезии) — изменение содержания воспоминаний. При феноменологическом исследовании этого явления выделяют псевдореминисценции и конфа-буляции.
П с е в д о р е м и н и с ц е н ц и и называют еще иллюзиями памяти. Это ошибочные воспоминания о событиях, действительно происходивших, но искаженных, неверно соотнесенных во времени или месте. Так, боль-
180
ные позднего возраста с выраженными нарушениями памяти, месяцами находящиеся в психиатрической больнице, на вопрос, как они провели день накануне, «вспоминают», что были дома, перечисляют дела, которыми якобы занимались, сообщают подробности. Речь в таких случаях идет о привычных каждодневных занятиях, которые они выполняли до стационирования годами.
Конфабуляции называют иногда галлюцинациями памяти. При конфабуляциях провалы в памяти заполняются вымыслом, «вспоминается» то, чего на самом деле никогда не было. Больная, перенесшая инсульт, рассказывает о том, что ее на прошлой неделе «запускали в космос» с горы, которую описывает, 'утверждает, что забыла там свои тапочки, вспоминает, что очень мерзла в полете. Конфабуляции по своей фабуле могут походить на реальность или иметь явно фантастическое содержание.
В настоящее время имеется тенденция все качественные расстройства памяти обозначать конфабуляция-ми, поскольку на практике нередко бывает невозможно отграничить иллюзии от галлюцинаций памяти. Старые люди с расстройствами памяти путают иногда сновидения с реальной жизнью, принимают пережитое во сне за действительность и наоборот. Сходная ситуация описана в пьесе Ф. М. Достоевского «Дядюшкин сон».
Конфабуляции являются результатом патологической продукции психики. Наблюдаются они при органических заболеваниях мозга (сосудистые поражения центральной нервной системы, травматические, интоксикационные, инфекционные, например при сифилисе мозга) на фоне гипомнезии. Вместе с фиксационной, антеро- и ретроградной амнезией они составляют триаду корсаковского синдрома. Обнаруживаются конфабуля-ции и при психотических состояниях, формально .не сопровождающихся недостаточностью мнестических функций. Так, больные шизофренией иногда рассказывают о вымышленных событиях (обычно фантастического содержания), которые будто бы с ними происходили.
На основе псевдореминисценций развиваются иногда явления экмнезии. Экмнезия —это жизнь больного в прошлом. События прошедших лет переживаются больными, как происходящие в настоящее время. Соответственно переживаемому больной оценивает собственный, возраст (феномен преуменьшения своего возраста),
131
возраст родных и знакомых, все происходящее во внешнем мире и с ним самим. Так, больные со старческий слабоумием говорят, что им 40, 30, 18 лет, что у них маленькие дети или что они еще только собираются завести семью, уверяют, что живы умершие, прежде близкие им люди, пишут к:,; письма, заявляют, что лишь недавно (год — два назад) окончилась ьсйна с фашистами и т. д. Больные рассказывают, что живут в деревне, общаются с деревенскими знакомыми, хотя давно уехали из деревни и большую часть жизни проживают в городе.
Явления экмкезии описаны при старческом психозе, при истерии, при неблагоприятно протекающей шизофрении (поздний период). Экмнезия -— сложное психопатологическое образование, в котором на фоне недостаточности памяти на события последних лет и текущие выявляются гнпермнезия давно прошедшего с переносом его в настоящее (псевдореминисценции), нарушения ориентировки во времени и осознания себя во временных связях с последовательно сменяющимися событиями внешнего мира, расстройство умозаключения.
К качественным нарушениям воспоминания относятся и криптомнезии — скрытые воспоминания. Чужие идеи, чужое творчество, когда-то воспринятые человеком, через некоторое время осознаются в мыслях и реализуются как свои, новые, оригинальные. В литературе описаны случаи такого рода невольного плагиата.
Нарушения чувства знакомости
Среди симптомов нарушения памяти особую группу составляют нарушения чувства знакомости. Упомянутые расстройства относятся к пограничным в психопатологии. Они могут обнаружиться как у здоровых, например при изменении настроения, так и у психически больных. Нарушения чувства знакоместа как феномен могут быть рассмотрены и в рамках патологии восприятия, поскольку нарушается узнавание предметов, и при эмоциональных расстройствах, и в связи с изменениями сознания.
человек ходит по его улицам с чувством, будто он уже
;гтргк
182
Выделяют симптом уже виденного (аё]а vii — дежа вю, французских авторов) и симптом никогда не виденного (]ата!5 vii — жамэвю). Суть симптома уже виденного сводится к тому, что первое в жизни человека восприятие чего-либо сопровождается чувством, будто это уже было когда-то раньше. При этом присутствует понимание ошибочности этого ощущения. Так, впервые приехав в какой-то город, человек ходит ~ бывал здесь.
Симптом никогда не виденного заключается в том, что что-то хорошо знакомое воспринимается как чужое, чуждое, будто впервые. Критика остается сохранной, человек осознает факт нарушений, понимает, что это ему кажется: остается неизмененным и знание самого явления. Так, однажды, войдя в свою комнату, человек как бы не узнает ее, хотя знает хорошо все особенности помещения и его убранства.
Нарушения чувства знакомости обычно сопутствуют психосенсорным расстройствам и выявляются в структуре синдромов дереализации и деперсонализации. Эти нарушения следует прежде всего искать у больных с энцефалитами, опухолью мозга, с резидуальными явлениями перенесенной черепно-мозговой травмы, эпилепсией, вялотекущей шизофренией, маниакально-депрессивным ПСИХОЗОМ.
НАРУШЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ
Мышление — высшая форма отражения объективной реальности в сознании человека. Это обобщенное, осуществляемое посредством слов и опосредованное имеющимися знаниями отражение действительности.
Мышление тесно связано с чувственным познанием мира и практической деятельностью людей. В отличие от чувственного познания, отражающего в акте восприятия отдельные свойства предметов и целостные предметы и явления, мышление осуществляет отражение внутренних связей между предметами и явлениями, реально существующих в природе закономерностей. В процессе мышления человек познает сущность вещей, раскрывает ту сторону окружающего, которая находится за пределами непосредственного восприятия. Посредством мышления человек активно воздействует на окружающий его мир. В ходе практической деятельности люди приобретают новые знания, создают неизвестные ранее понятия, угочняют и изменяют старые. Таким образом, единый процесс познания подвержен общей закономерности: через чувственное созерцание человек переходит к рациональному мышлению, а от него — к практике и постижению истины.
Основой мышления являются понятия. Понятия — это обобщенные знания о существенных свойствах предметов. В процессе мышления мы анализируем [материал, комбинируем, синтезируем, сопоставляем, сравниваем, догадываемся, делаем выводы. Понятия формируются из представлений через язык, вместе с тем речью же они и выражаются.
Выделяют наглядно-действенное, конкретно-образное и а б с т р а к т н о - л о г и ч е с к о е мышление. По мере роста человека и развития его психических процессов нагляд-но-дейстаеннсе мышление, реализующееся преимущественно во внешних действиях, а не в словесных формах, уступает место конкретно-образному мышлению, оперирующему главным образом
183
представлениями. Абстрактно-логическое или понятийное мышление свойственно взрослому человеку; оно предполагает развитие достаточных знаний и навыков, а также овладение речью. Этот вид. мышления является наиболее глубоким и эффективным; в его сфере оказываются понятия, суждения, умозаключения, символика.
Мышление здоровых людей протекает с образованием связей между мыслями. В норме одна ассоциация вызывает оживление другой, связанной с нею по смежности, сходству или контрасту. Ассоциация по смежности: при встрече с каким-то предметом (ми ситуацией) человек начинает думать о других предметах или событиях, согнанных с этим предметом в месте и во времена. Более сложная ассоциация по сходству является основой речевого мышления. При ней необходимо выделение признаков, общих для различных явлений, определение сходства между ними, обобщен'ие по этим признакам воспринимаемой или хранимой информации. Примеры ассоциаций по контрасту, белое —- черное, хорошее—плохое, умный—глупый и др.
Течение представлений составляет важную часть всей мыслительной деятельности. Ассоциативный процесс характеризуется последовательностью возникновения ассоциаций, целенаправленностью и определенным темпом.
При патологических состояниях ассоциативный процесс (течение представлений) может нарушаться или исчезают связи между отдельными мыслями, что свидетельствует о нарушении мышления по форме. У других больных нарушается процесс формирования умозаключений, страдает логика, в связи с чем констатируется нарушение мышления по содержа-н и ю.
Нарушения мышления по форме
Ускорение мышления характеризуется повышением его темпа. В силу отвлекаемое™ и расстройств внимания мысли часто не закончены, суждения поверхностны, отмечается склонность к рифмованию. Крайняя степень ускорения ассоциативной деятельности носит „название скалки идей — Гида Меагит. Такое состояние проявляется речевым возбуждением, при крайней выраженности которого речь превращается в «словесную окрошку». Появляется сходство с бессвязностью речи, хотя по существу эти феномены принципиально различаются между собой. При скачке идей связь между мыслями не теряется, но увлекаемый вихрем ассоциаций больной оказывается в состоянии воплотить в речевую продукцию лишь часть из них. Речь не успевает за мыслью. При таком обилии ассоциаций, начав фразу, больной не оканчивает ее, переходит к другой, произносит несколько слов, затем!
184
пропуская слова и целые предложения, спешит высказать следующую мысль и т. д. Сопутствующие состоянию повышенный интерес к окружающему и чрезвычайная неустойчивость внимания создают условия для большого количества впечатлений, являющихся толчком к деятельности мысли.
Из стенографической записи речи больной с ускорением мышления: «Я совсем здорова, у меня только маииакал, Как говорится: не важен метод, важен результат. Ваша нянечка пришла сегодня на работу, а у нее комбинация из-под матья выглядывает. Из-под пятиииы — суббота... Завтра суббота, Вы меня завтра выпишите. А у Вас тоже галстук не з порядке, дайте я Вам поправлю. Не думайте, что я подди-шваюсь. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, Я в Вас влюбилась •— ау и что тут такого? Любовь не порох, а большое свинство, Я Вам письмо написала в стихах. Хотите прочитаю?» и т. д.
Ускорение мышления наблюдается при маниакальном состоянии в рамках маниакально-депрессивного психоза, шизофрении, экзогенных психозов.
Замедление мышления — заторможенность, падение темпа мышления. Больной жалуется на затруднения при умственной деятельности, отмечает пустоту в голове, отсутствие мыслей, остановку их. Речь замедленная, бедна словами, ответы на вопросы односложные, после долгой паузы. Типично для депрессивного состояния. Наблюдается при маниакально-депрессивном психозе, шизофрении, реактивных и других психозах.
Патологическая обстоятельность характеризуется затруднением перехода от одной мысли к другой, ту-гоподвижкостью мышления. Больной в речи не в состоянии отделить главное от второстепенного, вязнет в деталях, в рассказе топчется на месте, уходит в сторону от основной темы, через некоторое время к ней возвращается и снова отвлекается побочными ассоциациями.
В ответ на вопрос, как случился первый судорожный припадок, больная эпилепсией стала рассказывать: «Дело было летом... Мы с девчонками договорились пойти в лес за грибами. Я с вечера начала готовиться, разволновалась и ночью почти не спала. Проснулась — еще темно. Лежу и думаю: «Вставать или еще не пора?» Решила все-таки встать. Вышла за калитку, вижу, что вовремя: пастух Иван Васильевич уже коров собирает. У этого пастуха прошлой осенью жена умерла от угара: все ушли из дома, а она прилегла на печку, да так и ке встала. Остался Иван Васильевич один с дочкой Надей, моей подружкой. Как увидела его, так заболела у меня голова, да сильно — как от угара. «Что-то,—
185
говорит,— ты так торопишься? Моя Надежда еще в постели потягивается». Побежала я к ней — и правда: и не думает вставать, •да еще ничего и не собрано, ищет сапоги, корзину... Я еще сильнее разволновалась. Подошли другие девчата, а она все возится. Пришли в лес, а грибы как будто попрятались: ничего нет. Шарю по земле, под каждый куст заглядываю, аж в глазах зарябило. Не заметила, как вышла на Черную поляну. Раньше там хутор был, а во время войны сгорел. Так вокруг обгорелые деревья и стоят до сих пор. Потому и Черной поляна называется. Смотрю и глазам не верю: по всем пням шапками опята разрослись. Я к пню побежала, наклонилась, а дальше все исчезло, ничего не помню. Пришла в себя на берегу речки. Девчонки вокруг стоят. Надя обнимает меня и плачет. А я вся мокрая: то ли они отливали меня, то ли обмочилась... С тех пор и болею приступами».
Патологическая обстоятельность мышления характерна для эпилептического слабоумия, наблюдается также в отдаленном периоде эпидемического энцефалита и при других органических заболеваниях ЦНС.
Резонерство — пустые бесплодные рассуждения, лишенные познавательного смысла. Наблюдается при шизофрении, является признаком значительной давности^ заболевания. В качестве примера приводим выдержку из разговора врача с больным.
Вопрос: «Считаете ли Вы себя больным?»
Ответ: «Это зависит от того, как понимать состояние болезни. Ведь болезнь — это форма существования, а существовать — значит жить, т. е. болеЗнь — это та же жизнь, одно из ее проявлений. Можно жить, не болея, но болеть, не живя, нельзя. Чем больше в болезни страданий, тем острее ощущение жизни. Я никаких страданий не испытываю. Следовательно, я не только не болен, но я почти не живу. Моя так называемая жизнь сводится лишь к физиологическим отправлениям организма, которые не нарушены».
Разорванность мышления выражается отсутствием смысловой связи между понятиями при сохранности грамматического строя речи. Приводим высказывание больного.
«Зная большую Вашу любознательность и полностью разделяя эту точку зрения, я мог бы спуститься до уровня близлежащего прилавка. И в том, и в другом случае это было бы правильно, так как нельзя попасть в небо только одним пальцем».
В подобных случаях речь утрачивает свои коммуникационные свойства, перестает быть средством общения между людьми, сохраняя лишь внешнюю форму. Разорванность мышления обнаруживается при шизофрении с многолетней давностью болезненного процесса.
186
Бессвязность мышления. Речь больного состоит из обрывков фраз, отдельных слов, не связанных между собой по смыслу; грамматический строй нарушен. Наличие бессвязности мышления свидетельствует о большой глубине психических расстройств, сопровождающих наиболее тяжело протекающие и истощающие общие и психические заболевания. Наблюдается при состояниях распада сознания типа аменции. Приводим отрывок из записи речи больного с бессвязностью.
«Пришил — остыл... Трах! Дцэ... Рык... Никогда, да, да, никому... Пряли нивы.. О-оо... А мама такая молодая, молоденькая, воло-денькая... Тибол и ниф... Пух и прах».
Персеверации и стереотипии мышления — застре-вание на каких-то представлениях. Проявляется многократным повторением одних и тех же слов или предложений, из-за чего ответы больного иногда становят ся бессмысленными.
Вопрос: «Как Ваше имя и отчество?» Ответ: «Виталий Александрович». Вопрос: «Сколько Вам лет?» Ответ: «Александрович». Вопрос: «Где Вы живете?» Ответ: «Александрович».
Персеверации и стереотипии нередко сопровождают афазию у больных с постинсультным или старческим слабоумием, отмечаются и при других органических поражениях головного мозга.
Наплывы мыслей (ментизм) — непроизвольное, не зависящее от воли больного течение мыслей, сопровождающееся тягостным чувством сделанности мыслей, невозможности управлять ими. Относится к явлениям идеаторного автоматизма, наблюдается у больных шизофренией.
Перерыв в мышлении (задержка, шперрунг) — внезапно возникающий на фоне ясного сознания провал в течении ассоциаций, потеря нити разговора. Отмечается при шизофрении.
Нарушения мышления по содержанию
Бредовые идеи — ошибочные умозаключения, возникающие на болезненной основе, полностью овладевающие сознанием больного и не поддающиеся коррекции.
187
Ошибки в суждениях, умозаключениях бывают у каждого человека. Однако у здоровых логические ошибки могут быть исправлены дополнительными доводами или фактами, т. е. они корригируемы. При бреде больной не только сам не в состоянии изменить сложившегося у него неправильного мнения, пересмотреть свои взгляды на то или иное явление, но и не принимает критики со стороны. Это проявляется как в высказываниях больного, так и в его поведении — неправильного, поскольку оно диктуется не соответствующей реальной ситуации точкой зрения. Убежденные в существовании мнимых врагов, больные с бредом убегают, прячутся или сами нападают, защищаясь от якобы существующей угрозы их жизни, изобретают способы укрыться от будто бы существующего воздействия на них аппаратами, биотоками или еще какой-то энергией, каются, настаивают на суровости наказания для себя, сами истязают себя за мнимые преступления, требуют всеобщего признания, утверждают, что совершили открытия мирового значения, посылают свои нелепые проекты и предложения в различные высокие инстанции и т. д.
Имея в виду правильность приведенного выше общего определения бреда, следует все же сделать оговорку для тех нередких случаев, когда нет полной завершенности в развитии бреда и возникает необходимость дифференциальной диагностики со сверхценными идеями и навязчивостями. Больной с бредом оказывается глухим к разубеждению лишь на высоте бреда. Бывают случаи, когда психоз течет вяло, а бред формируется крайне медленно — месяцы или даже многие годы. У такого больного длительное время сохраняется частичное критическое отношение к болезненным переживаниям, имеются сомнения в их правильности; попытка разубеждения может дать кратковременный положительный эффект. Это же наблюдается и в тех случаях, когда под влиянием лечения бредовая система начинает распадаться.
Иногда возникает необходимость отграничения бреда от заблуждений здорового человека. Трудность состоит в том, что заблуждения как система сложившихся в процессе всей жизни взглядов являются весьма устойчивыми образованиями, в значительной степени определяющими социальную сущность личности, ее направленность и установки. Чаще всего
188
речь идет о религиозных убеждениях, принимающих форму религиозного фанатизма. Этому, как правило, сопутствует недостаточность знаний, а порой и просто невежественность. Понятно, что более адекватным воздействием с целью коррекции заблуждений явились бы не усилия по переубеждению человека, а деятельность, направленная на по1шшеаие уровня его общей культуры, образования и осведомленности. В то же время бред психически больного формируется в условиях болезни (на болезненной основе) как ее производное и ее признак; бредовая система нередко оказывается в противоречии с полученными знаниями, со сложившимися еще в преморбиде установками личности и ее жизненными ценностями.
При более или менее постепенном развитии бреда можно рассмотреть динамику компонентов, составляющих его структуру. Появлению бредового суждения, составляющего стержень бредовой структуры, предшествует изменение эмоционального состояния. Возникает внутренняя напряженность, необъяснимое беспокойство, предчувствие неотвратимой беды, возрастает тревога. Больной мечется, пытаясь понять, что произошло или происходит, отчего окружающее приобрело новый, непонятный ему внутренний смысл. Развитию такого бредового настроения сопутствует бредовое восприятие: все вокруг нереальное, искусственное или таящее в себе угрозу, зловещее, настороженное, имеющее особое, скрытое от больного значение. Бредовое восприятие непосредственно связано с формированием бредового представления, на основе которого особо выделяются и некоторые события прошлой жизни больного в их новом значении. Наконец, возникает бредовое ос озн звание—своеобразное озарение с интуитивным постижением сути прежде непонятных явлений. С этого момента бредовые суждения приобретают конкретное содержание, что сопровождается субъективным ощущением облегчения, эмоциональным успокоением — кристаллизация бреда.
Существующие классификации бреда основываются на отдельных его характеристиках и учитывают в одних случаях тематику переживаний, в других — степень систематизированное™, структуру, особенности происхождения или иные признаки. В зависимости от содержания высказываний выделяют бред
189
преследования, воздействия, отравления, ревности, самообвинения и самоуничижения, величия и т. д. Название обычно отражает содержание бредовых переживаний.
При бреде преследования больной убежден в существовании определенных людей или даже организации, имеющих своей целью его физическое уничтожение, травлю, ущемление в правах, выслеживающих его тайно или явно.
Бред воздействия бывает обычно частью бреда преследования либо его разновидностью: все те же «преследователи» воздействуют на больного морально или физически, используя для этого самые изощренные способы и современные технические средства. Больные говорят о гипнотическом, телепатическом влиянии на них, о воздействии электрическим током, лучами, магнетизмом.
Бред отравления также отмечается в структуре бреда преследования; источником отравления больные считают лекарства, пищу, воду, воздух, якобы содержащие ядовитые вещества.
При бреде отношения, дополняющем бредовые идеи преследования, индифферентные для больного события он относит на свой счет: свет в доме погас и стало темно специально для того, чтобы показать, что он темный, необразованный человек. Застегнутый на три пуговицы халат врача указывает на то, что на протяжении жизни больному предстоит три раза госпитализироваться в психиатрическую больницу; резкий поворот случайной автомашины в переулок означает, что в жизни больного ожидаются перемены. Происходящее вокруг для больного имеет двойной смысл, всему придается особое значение (бред значения).
Больные с бредом инсценировки, бредом интерметаморфозы утверждают, что все вокруг специально подстроено, разыгрываются сцены хакого-то спектакля из их жизни, ведется эксперимент, двойная игра, все непрерывно меняет свой смысл: то это больница с медицинским персоналом и больными, то какое-то следственное учреждение; врач — не врач, а следователь, история болезни — заведенное на него дело, больные и медицинский персонал — переодетые сотрудники органов безопасности.
Бред ущерба: больные считают, что недоброжела-
190
тели наносят им материальный или моральный ущерб, обворовывают, портят вещи, порочат, ущемляют в правах. Обычно проявляется в рамках бреда преследования.
Сутяжный, или кверулянтский, бред. Убежденные в невнимательном, несправедливом или недоброжелательном к ним отношении больные конфликтуют, посвящают себя разоблачениям, тратят на это много сил, времени, а порой и все свои материальные средства, жалуются в различные инстанции, включая в бред все новых и новых лиц; тематика бреда черпается из реальной ситуации: склоки с соседями, столкновения с членами семьи, сослуживцами.
При бреде ревности все поведение, внешний вид, высказывания супруга, окружающая его обстановка и события расцениваются как содержащие признаки супружеской неверности («улики»).
Тематика ипохондрического бреда — физическое здоровье пациента с убежденностью в наличии тяжелого, неизлечимого недуга.
Бредовые идеи самообвинения и самоуничижения, как и ипохондрические, сопровождают депрессивное состояние. По мнению больных, все их прошлое преступно; больные наговаривают на себя, каются.
В позднем возрасте при депрессивном бреде с ипохондрической тематикой высказывания легко принимают гротескный, мегаломанический характер. При этом бред становится по своему содержанию н и г и-листическим, или бредом отрицания. Например, вначале больной упорно утверждает, что у него имеется нераспознанное тяжелое заболевание желудка, от которого он умирает; далее появляются высказывания, что желудка нет, он сгнил, на месте желудка пустота; вскоре можно услышать, что нет и самого больного, он — живой труп, заживо разложился; еще позже — нет ничего: ни мира, ни жизни, ни смерти (с и н д р о м К о т а р а).
Близкой к ипохондрическому бреду является и начинающаяся в молодом (подростковом, юношеском) возрасте дисморфомания. Дисморфоманию можно определелить как бредовую убежденность в наличии физического недостатка (уродства) или в распространении неприятных запахов (кишечных газов, мочи, пота и др.). Тема уродства обычно касается видимых частей тела: формы или величины носа, ушей, зубов,
191
рук, ног и др. Характерными для полностью сформировавшейся дисморфомании являются: 1) наличие подавленного настроения, 2) тщательная маскировка больными своих переживаний, 3) активная деятельность, направленная на исправление мнимого дефекта (вплоть до хирургических операций), 4) тенденция к возникновению и развитию идей отношения.
Повышенному настроению соответствуют бредовые идеи величия, бред богатства. Больной — правитель всей вселенной, он сделал все великие открытия, изобрел эликсир жизни, регре1иит тоЬНе, написал все книги под псевдонимом Пушкина и Толстого, владеет сказочным богатством, огромным количеством денег, золота, драгоценностей. Иногда можно наблюдать изолированный монотематический бред изобретательства. Бредовые идеи величия характерны для экспансивной формы прогрессивного паралича, для параноидной шизофрении на поздних этапах процесса (парафрен-ный этап развития бреда), отмечаются в маниакальной фазе маниакально-депрессивного психоза.
Одна из наиболее ранних классификаций предусматривает существование первичного и вторичного бреда. При первичном бреде патологическая продукция психики изначально развивается как бредовая. При вторичном бреде оказываются измененными предпосылки для умозаключений; например, у больного имеются слуховые вербальные галлюцинации угрожающего содержания и соответствующие им бредовые идеи преследования; больные позднего возраста с нарушениями памяти забывают, куда кладут вещи, деньги, что является основанием для формирования вторичного бреда ущерба.
Бред подразделяют также на несистематизированный и систематизированный. На фоне острого психотического состояния, когда в воображении больного бредовые события меняются с огромной быстротой, больной не успевает все это для себя объяснить. В этих случаях бред носит характер несистематизированного. Для того чтобы бред оформился в систему взглядов, где все взаимосвязано и объяснимо, необходимо время. Поэтому, если заболевание проявляется систематизированным бредом, можно думать, что болезненный процесс имеет определенную давность. При прогредиентных заболеваниях (шизофрения) с развитием выраженного психического де-
192
фекта система бреда распадается, бред становится нелепым.
В последнее время широко пользуются такими понятиями, как интерпретативный, чувственный и образный бред. Иитерпретативный, или бред толкования,— это первичный систематизированный бред, характерный для паранойяльного синдрома (см. гл. 9). Особенностью острого чувственного бреда является бредовое восприятие окружающего. Этому предшествуют настороженность, бредовое настроение, из-за чего по-бредовому изменяется смысл всего воспринимаемого. Идеаторная разработка отсутствует, высказывания обычно соответствуют бреду интерметаморфозы; галлюцинации не обязательны, для чувственного бреда более типичны иллюзии. Диссоциация между богатством патологических переживаний и пассивной позицией больного, наличие нередкой растерянности приближают чувственный бред к онейроидным состояниям. Бред отмечается при острых экзогенных психозах, при шизофрении. Если чувственный бред обращен во вне и обоснован сиюминутным восприятием имеющихся в действительности предметов и явлений, то образный бред .формируется на базе имеющихся у больного представлений, т. е. он ориентирован не на настоящие, а на прошлые восприятия. Образный бред — это по существу бред воображения, порой сходный с необузданным фантазированием. Примером может служить конфабуляторный бред, основанный на ложных воспоминаниях. Больной «вспоминает» якобы имевшие место невероятные события своей жизни, пытается связать их с реально происходившими. Больная с бредом знатного происхождения считает своих родителей чужими людьми, утверждая, что помнит своих настоящих родителей и обстановку роскоши, в которой воспитывалась в детстве, подробно все это описывает; больной вдруг «вспомнил», что всю его жизнь ему в раннем детстве предсказала гадалка, часами цитирует ее, «припоминая» все новые и новые детали и вплетая в канву ее мнимого предвидения все происходящее с ним — все встречи, разговсфы, знакомства. Образный бред обнаруживается у больных шизофренией, при алкогольном делкрии, при старческом и сосудистом психозах.
Выделяют также особые формы бреда по происхождению: резндуальный бред и индуцированный.
193
Резидуальный бред—образный бред, остающийся на некоторое время в качестве единственного симптома после перенесенного психотического состояния и существенно не влияющий на поведение больного. Динамические тенденции резидуального бреда благоприятны: он не претерпевает трансформации или усложнения и внезапно исчезает с восстановлением полной критики больного. При индуцированном бреде неверные суждения у психически здорового человека оказываются заимствованными от психически больного, страдающего бредом; развивается у примитивных личностей, не способных самостоятельно правильно критически осмыслить ситуацию.
Сверхценные идеи — суждения, доминирующие в сознании, возникающие на базе реальных факторов, значение которых резко преувеличено вследствие чрезмерного эмоционального реагирования на них больного. Наблюдаются при психопатиях, шизофрении, аффективных психозах. По тематике это могут быть идеи изобретательства, ипохондрические и др.
Навязчивости (обсессии) — насильственно возникающие, завладевающие больным и при этом чуждые его личности, осознаваемые как болезненные мысли и переживания, неоправданность или даже нелепость которых он понимает, но подавить усилием воли не может. Навязчивыми бывают мысли, представления, воспоминания, сомнения, опасения, страхи, влечения, движения и действия. Навязчивости делят на две группы: 1) отвлеченные, т. е. индифферентные для больного, не сопровождающиеся выраженной эмоциональной реакцией, 2) образные с тягостным для больного содержанием и выраженным аффективным реагированием.
К первой группе можно отнести навязчивое мудрствование, навязчивый счет, навязчивое воспроизведение в памяти терминов, имен, дат и др. Страдающий навязчивостями длительное время проводит в раздумьях на отвлеченные темы, например, почему Вселенная бесконечна, что было бы, если бы был конец, что было бы за концом и т. д. Больной с навязчивостями анализирует прочитанные или услышанные слова, разлагает их на части, переставляет слоги, меняет ударения или считает шаги, ступени лестницы, окна, буквы в словах, совершает в уме бесконечные счетные операции.
194
Ко второй группе относят навязчивые воспоминания о каких-то событиях прошлого, сопровождающиеся чувством стыда, раскаянием и другими эмоциональными реакциями. При овладевающих представлениях невероятные события мучительно переживаются, что нередко находит отражение в поведении человека (когда он старается убедиться в том, что этого не было). Так, приехав домой от родственников, больная стала думать, что они могли случайно отразиться каустической содой, которую сна оставила в ванной. Представляла себе варианты такого рода ситуаций, переживала предсмертные муки близких, долго не писала им-из страха получить роковое сообщение о смерти; совершенно перестала думать об этом с тех пор, как от родных пришло поздравление к празднику.
Весьма разнообразны навязчивые страхи — фобии, отличающиеся крайней аффективной насыщенностью. Наиболее частыми являются: канцерофо-бия — боязнь заболевания раком; сифилофобия — страх заражения сифилисом; кардиофобия — страх тяжелого заболевания сердца; танатофобия — страх смерти; мизофобия — боязнь загрязнения; клаустрофобия — боязнь закрытых пространств; агорафобия — боязнь открытых пространств, площадей, улиц; эрит-рофобия — боязнь покраснеть в присутствии других людей; фобофобия — боязнь возникновения фобии. К образным причисляют навязчивые сомнения (в том,, что отключено электричество, закрыт кран, заперта дверь), навязчивые желания, влечения, движения, действия. Некоторые больные страдают от мучительного желания делать то, чего нельзя: засмеяться на похоронах, ударить горячо любимого ребенка вилкой в глаз. Это так называемые контрастные навязчивости. Если речь идет о навязчивостях, а не бреде, больной никогда не реализует своего желания. При психозах контрастные явления могут лишь внешне походить на навязчивости, а на самом деле оказаться этапом медленно формирующегося бреда. В таких случаях общественно опасные действия больных возможны.
Ритуалы — навязчивые движения и действия, выполнение которых на некоторое время облегчает состояние больного; ритуальные действия являются своего рода заклинанием, символизируют защиту.
7> 195
Навязчивости характерны для невроза; могут наблюдаться при всех психических заболеваниях, протекающих на невротическом уровне. Навязчивости бывают и у здоровых людей. В этом случае они не отличаются устойчивостью, как это характерно для больных, не доминируют в сознании, появляются эпизодически и не дезадаптируют человека в социальном плане.
Патофизиологическая сущность бреда и навязчивостей вскрыта работами И. П. Павлова. Анализируя бред параноика, он обратил внимание на чрезвычайную силу процессов высшей нервной деятельности у таких больных. С развитием фазовых состояний в мозге сильный очаг застойного возбуждения, формирующий бред, создает вокруг себя зону сильного торможения (по закону отрицательной индукции). Никакое другое возбуждение, соответствующее критике, не в состоянии пробиться через этот вал торможения и подавить доминантный очаг. Отсюда — некритичность больных с бредом. При неврозе навязчивых состояний отмечается, наоборот, слабость процессов высшей нервной деятельности. Слабая кора головного мозга не в состоянии создать сильного очага доминантного возбуждения, а сам доминантный очаг не в состоянии отгородиться сильным торможением. Этим объясняются особенности навязчивостей: существует и сама навязчивость (очаг застойного возбуждения), и критическое понимание ее необоснованности (дополнительные очаги возбуждения), но это соответствующее критике возбуждение также слабо для того, чтобы подавить основной очаг. Очаг застойного возбуждения может подчиняться нормальным силовым отношениям или находиться в состоянии, переходном между бодрствованием и сном.
Известен так называемый инвертный бред, когда высказывания прямо противоположны действительности: честный кассир с начала заболевания стал говорить, что его подозревают в хищениях, а через некоторое время уже утверждал, что всю жизнь был вором и обманывал людей. Это явление И. П. Павлов объяснял наличием ультрапарадоксальной фазы в очаге застойного возбуждения (то, что должно тормозиться, вызывает реакцию и наоборот). Реагирование по закономерностям ультрапарадоксальной фазы бывает и при навязчивостях (например, контрастные навязчивости).
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА
Эмоции (от лат. ето1ю — потрясаю, волную) — такие психические процессы, в которых человек переживает свое отношение к тем или иным явлениям окружающей действительности, а также к самому себе.
При рассмотрении структуры психической деятельности оказывается, что человек не только ощущает, мыслит, вспоминает, действует, но и чувствует, переживает субъективные состояния — удовольствия, радости, восторга, вдохновения или страха, ярости, гнева, разочарования, печали, раскаяния. Это переживание делает ярче, насыщеннее любой психический акт, придает ему определенность.
1%
Основное назначение эмоций, как и любого психического акта,— отражать действительность. С помощью процесса познания мы получаем дифференцированную информацию об окружающем. Результаты же эмоциональной деятельности, не определяя локализации, характера, механизма и других параметров воздействия факторов среды, помогают организму быстро на них отреагировать определенными субъективными состояниями, отображая их пользу или вред для организма. Иными словами, эмоции — это психические процессы, в которых человек переживает в субъективной форме не только свое отношение к окружающему, но и отношение окружающего к самому себе. Переживая положительные или отрицательные эмоции, мы отражаем суть окружающего как среды обитания нашего организма (благоприятна она или нет).
Эмоции — это своеобразный механизм, при помощи которого внешние раздражения превращаются в мотивы деятельности.
Благодаря эмоциям включаются двигательные и поведенческие реакции, направленные на восстановление нарушенного равновесия, гомеостаза. Таким образом, эмоции — это процессы, находящиеся у истоков рефлекса саморегуляции, обеспечивающего возможность нормального функционирования организма и, что особенно важно, выживания его в трудных и чрезвычайных условиях. Это и придает эмоциям универсальное значение в жизни организма и объясняет тот факт, что именно эмоции так близко стоят к ядру личности человека и более всего ее характеризуют.
Саморегуляция осуществляется на. основе принципа обратной связи. Если какая-то потребность организма удовлетворена, появляется положительная эмоция. 'В медицине существует понятие эйфория реконвалесцентов. Это повышенное, приподнятое настроение, в котором пребывает человек, только что переживший критический выход из острого болезненного состояния, из лихорадочного приступа. Быстрое купирование тяжелой боли также сопровождается возникновением эйфории. Биологическое значение положительной эмоции гораздо больше, чем просто сигнал о том, что какая-то потребность удовлетворена. Это есть свидетельство того, что потребность удовлетворена наилучшим образом, и одновременно это своего рода вознаграждение организму за ту деятельность, которая была предпринята ради удовлетворения потребности.
Эмоции представляют собой сложный интегральный процесс, осуществляющийся деятельностью корково-подкорковых структур головного мозга. В процессе интеграции эмоций первостепенная роль принадлежит гипоталамусу — своеобразному диспетчерскому пункту, имеющему многообразные связи с выше- и нижележащими отделами головного мозга, с внутренней и внешней средой организма, со всеми чувствительными и исполнительными системами и органами. Возбудимостью гипоталамуса и содержащихся в нем центров симпатической и парасимпатической нервной системы объясняются и сам факт появления эмоций, и их качественные особенности. Здесь в рамках единого процесса саморегуляции происходит формирование побудителей к деятельности (в форме субъ-с-ктаппо переж:-рай.чых эмоциональных сдвигов) и подготавливается энергетическое обеспечение предстоящей деятельности (в форме сома-тонс-Тетатмнчих и обменных сдвигов),
1>'<г почему всякая эмоциональная реакция сопровождается
выраженными изменениями пульса, артериального давления, частоты дыхания, кровоснабжения органов, биохимических показателей и др. Так, в состоянии страха или ярости, побуждающих животное к бегству от опасности или к нападению, усиливается сердечная деятельность, учащается пульс, повышается артериальное давление, возрастает газообмен, увеличивается содержание глюкозы в крови, что способствует усиленному поступлению питательных веществ и кислорода к работающим органам, в частности к скелетным мышцам; при этом повышается свертываемость крови, что благоприятствует прекращению кровотечения при ранениях в случае
борьбы.
Чем совершеннее в филогенезе было представлено взаимодействие реакций эмоция — готовность к деятельности — деятельность, тем лучше животное оказывалось приспособленным к преодолению угрожающих его существованию ситуаций. Выживанием подчеркивалась биологическая целесообразность подобной формы реагирования и обеспечивалось ее наследственное закрепление.
О том, что нервным субстратом эмоций являются подкорковые образования мозга, свидетельствуют и клинические факты. Известно, что наиболее выраженные и яркие эмоциональные изменения отмечаются при локализации патологического процесса не в коре головного мозга, а в таламической и гипоталамической областях. Клинические данные подтверждены рядом исследований с экстирпацией или раздражением различных отделов нервной системы. Было показано также, что чем выше и сложнее организация мозга, тем большую роль в формировании и направленности эмоциональных реакций играет функционирование коры головного
мозга.
Человеку, кроме общих с животными эмоций, связанных с элементарными потребностями в пище, питье и др., присущи эмоциональные переживания высшего порядка, возникающие в связи с интеллектуальной, творческой деятельностью,— так называемые чувства. Выделяют интеллектуальные, нравственные и эстетические чувства. Человеческие эмоции в значительной своей части осознаются; эмоции и их проявления могут быть сознательно подавлены или скрыты; любое эмоциональное переживание может быть вызвано словом.
Объективными признаками эмоций являются их телесные проявления — мимика, поза и выразительные движения (пантомимика). Детальное изучение этих явлений было впервые предпринято Чарльзом Дарвином, доказавшим, что внешние проявления эмоций, как и сами эмоции, имеют животное происхождение. В мире животных они способствуют лучшему приспособлению и выживанию в условиях борьбы за существование. Устрашающая поза, рычание разъяренного животного отпугивают врага; поза и мимика смирения успокаивает его, снижают его агрессию; мимика удивления с широко раскрытыми глазами и поднятыми бровями облегчает ориентировочную реакцию и т. д. У человека все эти реакции опосредованы его социальной сущностью, изменены воспитанием и контролируются сознанием, но физиологический механизм их остается прежним. Так, если с силой ударить кулаком по столу, то сами собой непроизвольно стискиваются и оскаливаются зубы. Очевидно, где-то в филогенезе, если пускались в ход кулаки, должны были быть в состоянии готовности и зубы. Плач, смех и другие выразительные мимические движения являются врожденными, они одинаковы у всех людей и легко,
198
без всякой выучки понимаются даже маленькими детьми. Мимика и пантомимика человека являются инструментом общения (общение на эмоциональном уровне).
Эмоциональные проявления и признаки их нарушений
Среди эмоциональных проявлений выделяют: 1) эмоциональные состояния; 2) эмоциональные реакции; 3) эмоциональные отношения. Нарушения могут касаться любой из названных групп явлений.
Эмоциональные состояния. Когда говорят об эмоциональных состояниях, имеют в виду определенный нервно-психический тонус, устойчиво сохраняющийся на протяжении длительного времени. К эмоциональным состояниям следует прежде всего отнести нас т-роение человека, носящее в общем нейтральный характер, но имеющее некоторый оттенок, выражающий наличие комфорта или дискомфорта в организме. Кроме того, в корме настроение характеризуется колебаниями в связи с многочисленными впечатлениями и переживаниями человека. В случаях патологии настроение может быть резко изменено в сторону его повышения или понижения; око может претерпевать резкие изменения или быть однообразным на протяжении длительного времени, а также неадекватным, не соответствующим обстановке, физическому или психическому состоянию человека. Изменения эмоционального состояния могут выступать как ведущая симптоматика, нарушающая целенаправленность психической деятельности и приводящая больного к инвалидности.
Повышение настроения как основной симптом отмечается при маниакальном состоянии. Веселое настроение и радостное мировосприятие сохраняются на протяжении дней, недель и даже меся-цез^, Больные чувствуют себя счастливыми, полными сил и энергии, физические нарушения и заболевания игнорируются, окружающее кажется интересным, больные в курсе всего происходящего, оживлены, деятельны (рис. 9). Они постоянно улыбаются, много двигаются и говорят, остроумны. Повышение настроения с описанной клинической картиной наблюдается в маниакальной фазе маниакально-депрессивного психоза, при периодической шизофрении, при органических заболеваниях центральной нервной системы.
199
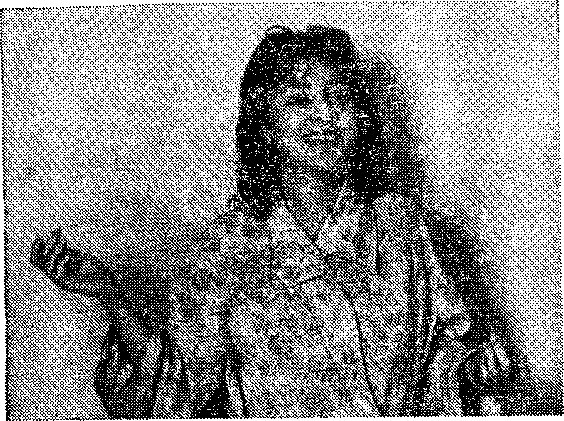
Рис. 9. Облик больной в маниакальном состоянии.
Одним из вариантов повышенного настроения является эйфория. Повышенное настроение при эйфории обычно не достигает степени брызжущей через край веселости (как это бывает у маниакальных больных). Эйфория не сопровождается оживлением интеллектуальных процессов и стремлением к деятельности. Благодушие и беззаботность не соответствуют бедственному положению беспомощных больных с расстройствами памяти и слабоумием, страдающих органическими ослабоумливающими заболеваниями (прогрессивный паралич, сосудистое поражение ЦНС). В остром периоде тяжелого инфаркта миокарда (обычно трансмурального) у умирающих от туберкулеза легких с эйфорией повышенное настроение контрастирует с тяжестью общего состояния. Эйфория характерна также для состояний опьянения (алкоголем, наркотиками).
У больных с опухолью головного мозга, в остром периоде черепно-мозговой травмы и при других органических заболеваниях головного мозга иногда отмечается состояние эйфории с двигательной растормо-женностью, дурашливостью и нелепым поведением — м о р и я.
От мании и эйфории следует отличать дураш-
200
ливость больных шизофренией (гебефрения). Больные гримасничают, показывают язык, дразнятся сюсюкают, как маленькие дети, подпрыгивают, танцуют, кувыркаются, хохочут. Это «веселье» не вызывает эмоционального резонанса у окружающих, поскольку оно пустое: отсутствует повышение настроения и соответствующее ему ассоциативное оживление.
Пониженное настроение характерно для депрессивных состояний. Эти состояния крайне мучительны и субъективно переживаются как катастрофа. Главным признаком является ощущение тоски, настолько иногда тягостное и невыносимое, что больные кончают жизнь самоубийством. Ощущение тоски принимает иногда ярко выраженный характер: больные говорят о душевной боли, тяжести на душе или даже на сердце, в груди, об ощущении, будто что-то навалилось. Появление подобных ощущений, именуемых предсердечной тоской (агшегаз ргае^ согснаНз), является основанием для проведения дифференциальной диагностики с приступом стенокардии-распознание бывает особенно затруднительно у пожилых и в тех случаях, когда депрессия развивается у лиц с коронарной недостаточностью. При тяжелых депрессиях, особенно в позднем возрасте, под влиянием каких-то внешних раздражителей (инъекции попытки обследовать больного и др.) тоскливость может вдруг резко усилиться: возникает тяжелое меланхолическое возбуждение, достигающее нередко степени меланхолического исступления (гар1из те1апсЬоНсиз). Такой больной начинает метаться, куда-то стремится бежать, рвется из рук удерживающего его персонала, бьется головой об стену, о спинку кровати, рвет волосы на голове, наносит себе самоповреждения, может выброситься из окна или иным способом совершить самоубийство. При циклотимичес-ких депрессиях сниженный аффект обычно не ощущается как тоскливость; больные жалуются на плохое самочувствие, угнетенность, подавленность. Депрессии всегда сопутствует ослабление интересов, влечений, желаний; для классической депрессии характерна двигательная и идеаторная заторможенность.
У некоторых депрессивных больных отмечается симптом, обозначаемый как апаезШез1а рзусЫса бо-1огоза— болезненное психическое бесчувствие. Больные жалуются, что утратили способ-
20)
ность что-либо чувствовать: радость, горе, любовь к близким, жалость. Физический оттенок такому бесчувствию придают утверждения больных, что они не чувствуют яркости красок («краски поблекли»), вкуса пищи («пища как трава») и даже себя, своего тела. С исчезновением депрессии способность чувствовать восстанавливается. Подобное состояние тяжело переживается больными, что является отличием от следующего описанного здесь симптома — апатии.
Апатия — пустое эмоциональное состояние, полное равнодушие ко всему, эмоциональная тупость — является дефицитарным симптомом. Апатия характерна Для шизофренического процесса, встречается при тотальном органическом слабоумии.
Состояния дисфории — периоды измененного настроения с раздражительностью, злобностью, недовольством собой и окружающим, взрызчивостью, склонностью к агрессивным и разрушительным действиям. Подобные состояния могут быть заполнены не только отрицательными, но и положительными эмоциями. Раздраженно-тоскливые состояния больных не вызывают сочувствия, а злое веселье не заражает окружающих. Дисфории являются эквивалентами больших судорожных припадков при эпилепсии, наблюдаются также у больных алкоголизмом, наркоманией в состоянии абстиненции-, при психоорганическом синдроме.
Слабодушие — состояние эмоциональной слабости, лабильность в сфере чувств. Состояние характеризуется постоянными колебаниями настроения, возникающими по ничтожному поводу; отмечается повышенная слезливость, а при подъеме настроения — сентиментальность. Наблюдается при сосудистом поражении головного мозга, при соматогенной астении. Растерянность — состояние недоумения, сопровождающее развитие острого расстройства психической деятельности с нарушением самосознания и предметного сознания. Широко раскрытые глаза, блуждающий взгляд, неуверенные движения, вопрошающая речь — весь облик и поведение больных отображают непонимание своего состояния и всего происходящего'. Наиболее ярко растерянность бывает представлена у больных шизофренией при развитии симптоматики в направлении онейроидного помрачения сознания.
202
Эмоциональные реакции — эмоциональные ответы на биологически или социально значимые раздражители.
В отличие от настроения эмоциональная реакция всегда конкретна. Эмоциональные реакции отличаются также кратковременностью и большей интенсивностью по сравнению с эмоциональными состояниями. По окончании эмоционального реагирования человек снова возвращается к постоянному для него эмоциональному состоянию. Чрезмерная по интенсивности и бурно выражаемая эмоциональная реакция именуется аффектом. До степени аффекта могут усилиться любые эмоции — отрицательные и положительные. Это могут быть крайние проявления гнева, ярости, страха или выражение экстаза, восторга, энтузиазма. По особенности проявлений аффекты разделяют на физиологические и патологические.
При физиологическом аффекте эмоциональный ответ по своей силе соответствует раздражителю, может превышать его и сопровождаться некоторым сужением сознания на высоте реакции, но без утраты контроля за поведением и с сохранностью воспоминаний о событиях этого периода.
Патологический аффект — максимально выраженная, приводящая к истощению психических процессов, неадекватная силе и качеству раздражителя эмоциональная реакция, сопровождающаяся бурными двигательными и вазовегетативными проявлениями, резким сужением, а затем помрачением сознания, утратой целесообразности поведения, приобретающего характер автоматизированных социально опасных действий. Патологический аффект длится от нескольких минут до 1—2 ч и нередко оканчивается глубоким сном (выражение реакции психического истощения) с последующей полной амнезией периода аффективного поведения. Таким образом, патологическим аффектом обозначают эмоциогенно развивающееся острое кратковременное расстройство психической деятельности, во время которого человек оказывается не в состоянии руководить своими поступками, понимать их неправильность, а в последующем — отвечать за совершенные в этом состоянии правонарушения (вплоть до убийства). Склонность к аффективным реакциям обнаруживают психопатические личности круга возбудимых, лица, перенесшие
203
черепно-мозговую травму, страдающие • эпилепсией, алкоголизмом, наркоманией.
Дисфорическая реакция — реакция больного, находящегося в состоянии дисфории. Это эмоциональный пароксизм, который лишь ' внешне выглядит как ответная злобно-агрессивная реакция на средовые раздражители, но по своей сути является следствием колебаний обменных процессов в мозге. При дисфории разрушительная реакция ожесточенного недовольства возникает по ничтожному поводу, нередко и без него, она может быть направлена на самого больного или даже на неодушевленные предметы. Возбуждение больного, находящегося в состоянии дисфории, отличается брутальностью, однообразием и не прекращается после ликвидации вызвавшего его психологического фактора. В наиболее типичном виде подобные расстройства представлены при эпилепсии.
Эмоциональные отношения — эмоциональная избирательность, устойчивая связь эмоций с определенными событиями, людьми или предметами. Мы окружаем себя какими-то вещами, поддерживаем взаимоотношения именно с этими людьми, а не с другими, к чему-то стремимся и чего-то избегаем, испытываем симпатии и антипатии — это и есть область наших эмоциональных отношений. Резкое изменение эмоциональных отношений, например, в связи с утратой близкого человека может явиться источником болезненных состояний — неврозов и реактивных психозов.
ДВИГАТЕЛЬНЫЕ И ВОЛЕВЫЕ РАССТРОЙСТВА
Воля — это сознательная, целенаправленная психическая активность. Зарубежные психологи и философы-идеалисты, провозглашая принцип свободы воли, имеют в виду недетерминированность волевых процессов, независимость их от внешних условий, от воздействий социальной среды. Так, по мнению 3. Фрейда, влечения, а не внешние раздражения определяют содержание человеческого поведения; сами же влечения одинаковы у всех людей и служат удовлетворению определенных первобытных потребностей. Эта и другие реакционные теории, базирующиеся на тезисе о свободе воли, были развенчаны классиками марксизма-ленинизма и опровергнуты
204
естественнонаучными данными. Вполне ясно, что недетерминированный характер человеческих поступков делает их непредвиденными и безответственными.
«Не в воображаемой независимости от законов природы заключается свобода, а в познании этих законов и в основанной на этом знании возможности планомерно заставлять законы природы действовать для определенных целей»,— писал Ф. Энгельс '.
Волевое действие в своих первоначальных истоках связано с потребностями, но оно никогда не вытекает непосредственно из них. Волевое действие человека всегда опосредовано работой его сознания. Акт сознания, его содержание и направленность детерминированы конкретными социально-историческими условиями, в которых живет человек, и зависят от убеждений человека, его мировоззрения, интересов, мыслей и чувств.
Волевое действие осуществляется в две фазы, непосредственно связанные между собой: 1) развитие сознательного намерения действовать и принятие решения; 2) выполнение принятого решения.
Таким образом, первая фаза представляет собой акт, связанный с выбором,— сознательную оценку и сам выбор. В этой фазе неудовлетворенная потребность (пищевая, интеллектуальная и др.) порождает соответствующие эмоциональные переживания и представления, возникает стремление к удовлетворению потребности. Такое стремление может выражаться в форме влечений или в форме желаний.
Влечение — неясное стремление, не связанное с четким представлением и с осмысленными целями. Желание — осознанное стремление к определенному объекту, преследующее конкретную цель. Влечение может перейти в желание в процессе осознания ситуации. На пути к принятию решения желания оцениваются с точки зрения возможности их исполнения, соответствия или несоответствия реально существующим условиям, взвешиваются все за и против. Если для исполнения желаний нет необходимых условий, если они противоречат установкам личности или невыполнимы по каким-то другим причинам, то они сознательно подавляются. Выбор решения действовать проходит через борьбу мотивов. Мотив возникает в результате осмысливания желаний.
Вторая фаза—выполнение принятого решения — имеет непосредственное отношение к практической деятельности человека. Последняя осуществляется через движение. И. М. Сеченовым было показано, что движением реализуется любой психический акт, любая реакция на внешнее раздражение. Движения могут быть непроизвольными и произвольными. Непроизвольные движения соответствуют безусловным рефлексам (например, отдергивание руки при прикосновении к горячему); к непроизвольным относятся также выразительные мимические движения, связанные с
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 116.
205
эмоциями, и идеомоторные движения, сопровождающие течение представлений. В основе произвольных движений, как было установлено И. П. Павловым, лежит условнорефлекторный процесс.
Для осуществления волевого действия необходима сохранность психических функций. При распаде речи, мышления волевое действие становится невозможным, что называется апраксией. Патология может касаться любого звена волевого процесса: сферы влечений и желаний, мотивации, движений и целостного поведения. К волевым нарушениям относят также расстройства внимания. В клинической практике выделяют расстройства внимания, патологию влечений, двигательные расстройства.
Расстройства внимания
Расстройства внимания являются одним из наиболее частых симптомов при психических заболеваниях. Внимание как способность сосредоточения на объектах окружающего может быть активным и пассивным. Пассивное внимание как филогенетически более древний процесс, базирующийся на безусловном ориентировочном рефлексе, оказывается весьма устойчивым к болезненным влияниям. Активное, или произвольное, внимание, связанное с сознательной деятельностью человека, является специфически человеческой формой деятельности; оно легко расстраивается при психических заболеваниях. Наиболее частыми нарушениями внимания являются истоща-емость, отвлекаемость и патологическая прикованность.
Истощаемое т ь внимания — характерна для астенических состояний. Такой больной в процессе беседы или при выполнении умственных операций быстро устает, теряет нить разговора, качество ответов ухудшается, продуктивность умственной деятельности падает. В основе нарушений лежит недостаточность внутреннего торможения.
Отвлекаемость внимания свойственна маниакальным больным. Внимание больного непрерывно переключается с одного на другое, фиксируя малейшие детали происходящего, но более или менее длительное сосредоточение внимания на объекте, усидчивость оказываются невозможными.
Патологическая прикованность в н и-
206
мания к определенному кругу представлений наблюдается у депрессивных больных. Больной не в состоянии отвлечься от тягостных переживаний, не может читать, смотреть телевизионные передачи, в мыслях все время возвращается к одной и той же теме — о безысходности своего положения.
Расстройства влечений
Расстройства влечений могут быть количественными и качественными. Количественные расстройства выражаются-в их усилении или ослаблении, качественные — в извращении.
Усиление всех влечений и желаний, расторможение их (гипербулия) свойственны маниакальным и ги-поманиакальным состояниям: больные прожорливы, сексуальны, циничны, женщины кокетливы. Все больным интересно, они охотно берутся за любое дело, нередко начинают несколько дел сразу, но из-за отвле-каемости внимания никогда не доводят их до конца, легко заводят знакомства, бывают расточительны, допускают случайные половые связи. При органических поражениях мозга могут наблюдаться б у л и м и я (полифагия) — патологическое повышение аппетита, приводящее к ожирению; полидипсия — неутолимая жажда; гиперсексуальность— усиление полового инстинкта.
Ослабление влечений (гипобулия) вплоть до полного их исчезновения (абулия) сопровождает депрессивные состояния: исчезает аппетит, вследствие чего больные могут отказываться от пищи (а н о р е к-с и я), подавляется сексуальное чувство. Даже наиболее сильный инстинкт жизни и самосохранения оказывается заторможенным, в результате чего повышается суицидальный риск. Абулия сопровождает также состояния безразличия (апатико-абулическое состояние), характерные для шизофренического дефекта.
Отказ от еды (анорексия)—довольно частое явление при психических заболеваниях. Причиной отказа от еды могут быть галлюцинации (голоса запрещают есть или больной ощущает неприятный запах, якобы исходящий от пищи), бредовые идеи отравления, самообвинения и самоуничижения (больной, считающий себя грешником, заявляет, что не имеет права есть), ипохондрические (уверен, что пи-
207
ща не усваивается, проваливается в пустоту), негативизм и ступорозная обездвиженность. Известна нервная анорексия (апогех1а пегуоза), связанная со стремлением похудеть из страха перед полнотой. Во всех этих случаях доминирующая мотивация поддерживается ослаблением пищевого рефлекса и инстинкта самосохранения. Таким образом, анорексия может быть первичной, непосредственно исходящей из нарушений пищевого 'влечения, и вторичной, являющейся следствием патологии других сфер психической деятельности. Страдающие анорексией доводят себя иногда до крайней степени истощения, возникают необратимые изменения органов, эндокринной системы, нарушается обмен веществ. Больных с отказом от еды следует незамедлительно госпитализировать в психиатрическую больницу, поскольку подобные состояния представляют угрозу для жизни.
Суицидальные тенденции (мысли, высказывания, поступки с тематикой самоубийства) могут быть связаны с галлюцинациями (голоса приказывают покончить с собой), с бредом преследования (больной погибает, спасаясь от мнимого преследования), самообвинения и самоуничижения (считает, что не имеет права жить), ревности (убивает любимого человека, а затем себя), с ипохондрическим бредом (покончить с собой, чтобы избежать мучительной смерти от мнимой страшной болезни), с помрачением сознания, когда отражение окружающего фрагментарное и одностороннее. Известны случаи расширенных самоубийств, когда больной, прежде чем убить себя, убивает своих близких, чтобы оградить их от грядущих страданий, считая, что они не смогут существовать без поддержки, что их ожидает не менее печальная судьба, или исходя их других соображений. Наличие суицидальных тенденций является показанием к немедленной госпитализации больного в психиатрический стационар. До госпитализации больные нуждаются в строгом надзоре.
Извращение влечений (парабулия) проявляется стремлением поедать несъедобные предметы, кал (копрофагия), наносить себе повреждения, истязать себя, получать половое удовлетворение з перверсиях (гомосексуализм, садизм, мазохизм и др.). Такого рода нарушения сопровождают тяжелую патологию личности и наблюдаются при психопатиях и психо-
208
патоподобных состояниях, при шизофрении, при органической патологии мозга.
Импульсивные явления — остро возникающие непреодолимые стремления к чему-либо, реализуемые без предварительного осознания их и борьбы мотивов. К импульсивным влечениям относят клептоманию — стремление к воровству, не имеющее своей целью наживу. По окончании импульсивного действия похищенное возвращается его владельцу под каким-либо предлогом или выбрасывается. Пиромания — стремление к поджогам, не содержащее злого умысла. Дромомания — стремление К бродяжничеству. Дипсомания — внезапно возникающее непреодолимое влечение к алкоголю, приводящее к запою. Влечение прекращается так же остро, как и началось, больной бросает пить, оставляя недопитой бутылку спиртного. В интервалах между запоями влечение к алкоголю отсутствует, больной ведет трезвый образ жизни. Импульсивные действия могут проявляться немотивированными суицидальными попытками, неожиданными нападениями на окружающих и другими бессмысленными поступками.
Амбивалентность — сосуществование противоположных чувств, желаний и влечений. Амбивалентность является признаком расщепления единства психического процесса, что характерно для шизофрении. В норме человек определяет свое отношение к предметам и явлениям через борьбу чувств и мотивов. В патологии нарушается способность выбора одного, основополагающего варианта из многих других, больной оказывается не в состоянии прийти к тому или иному решению, что проявляется и в поведении (а м б и-тендентность).
Двигательные расстройства
Двигательные расстройства обычны при психотических состояниях. Расстройства движений и целостного поведения в первую очередь обращают на себя внимание окружающих и правильно ими понимаются как признаки психического заболевания. Наиболее элементарное разделение двигательных расстройств — на гипо-, гнпер- и дискинетическне, т. е. связанные с уменьшением, усилением или извращением двигательной активности.
209
Двигательное оцепенение
Двигательное оцепенение с резким обеднением или полным прекращением движений составляет клиническую картину ступора. В отличие от органических гипо- и акинезии ступор — принципиально обратимое состояние, вызванное торможением моторных зон. Ступор может быть как полным, с глубоким общим оцепенением, так и неполным, проявляющимся непостоянно или частично захватывающим двигательную сферу. При полном ступоре больной лежит без движения, сохраняя одну и ту же, иногда неудобную позу, реакции на окружающее не проявляет, себя не обслуживает, бывает неопрятным, естественные надобности совершает в постель. Самостоятельное питание больного оказывается невозможным; пища, введенная в рот, не прожевывается и не проглатывается; показаны зондовое кормление и уход за больным. При глубоком ступоре контакт с больными, речевое общение не удаются; больные не разговаривают и не отвечают на вопросы. Отсутствие речи у ступорозных больных называется мутизмом. При этом понимание речи других людей и происходящего вокруг обычно сохраняется; выйдя из ступора, больные иногда подробно рассказывают обо всем, чему были свидетелями в состоянии оцепенения.
Если оцепенение развивается не сразу, а постепенно, то можно наблюдать различной выраженности субступорозные состояния. Больные становятся все более заторможенными, говорят тихим голосом или на^короткое время периодически застывают с поднятой при ходьбе ногой, с поднесенной ко рту во время еды ложкой, в любой другой позе. Окликом, внешним раздражением больного иногда удается вывести из состояния оцепенения, но через какое-то время оно снова повторяется. Больные в состоянии неполного ступора могут выполнять некоторые инструкции, самостоятельно есть предложенную пищу, выполнять действия по самообслуживанию, пользоваться туалетом. Неполный ступор иногда ограничивается развитием мутизма. Больные перестают говорить, но сохраняют прежнюю активность, объясняются жестами, мимикой или с помощью письма. В клинической картине неполного ступора могут быть представлены и другие симптом^', соответствующие нозологической
210
форме патологии. По своей природе ступор может быть кататоническим, депрессивным, психогенным, истерическим.
Описание кататонического ступора приводится в разделе, посвященном кататоническому синдрому. Депрессивный ступор является крайней степенью проявления речедвигательной заторможенности, свойственной депрессивным больным. Выраженность оцепенения обычно находится в прямом соответствии с тяжестью депрессивного аффекта. При таком состоянии контакт с больным становится почти невозможным, но об его мучительных переживаниях можно догадаться по умоляющему взгляду, тоскливому или тревожному выражению лица, глубоким вздохам, слабым попыткам что-то сказать. Значительная двигательная заторможенность исключает возможность реализации суицидальных намерений. При обратном развитии симптомов, когда тоскливость еще сильна, а двигательная скованность исчезает, резко возрастает риск совершения попыток к самоубийству. Полный ступор при депрессии — весьма редкое явление. Обычно врачу приходится наблюдать больных с меньшей заторможенностью. В отделениях психиатрических больниц таких больных сразу можно узнать по внешнему виду (рис. 10). Обычно они лежат или сидят где-нибудь в стороне от шума и движения. Поникшая фигура, унылая поза, скорбное выражение лица свидетельствуют о тягостных переживаниях; голос тихий, взгляд потухший, мимика застывшая (маска горя), кожа на лице бледная или землисто-серого цвета, под глазами темные круги, углы губ опущены, резко обозначены складки и морщины. Больные выглядят постаревшими и осунувшимися.
Психогенный ступор наблюдается в клинической картине острых аффективно-шоковых реакций. Такие реакции бывают ответом на очень тяжелые, внезапно обрушивающиеся на человека психотрав-мирующие события, вызывающие душевное потрясение. Это могут быть катастрофы, стихийные бедствия, неожиданная смерть близкого человека и др. При неожиданности психогенного воздействия индивидуальное, личностное реагирование не успевает проявиться, а включаются реакции, общие не только для всех людей, но и для животных,— реакция» замирания,
211

Рис. 10. Внешний вид больной в состоянии заторможенной депрессии.
оцепенения или реакция возбуждения, гиперкинетическая. Ступор может быть полным или неполным, его продолжительность — минуты, часы, дни. Глубина, длительность и дальнейшая динамика болезненного состояния определяются психогенией, ее характером. При полном психогенном ступоре застывшее выражение лица больного фиксирует аффективное реагирование, которым было отмечена начало психогении — страх, ужас, растерянность. Широко представлены вегетативные симптомы: сердцебиение, потливость, игра вазомоторов, желудочно-кишечные расстройства (рвота, понос). Сознание оказывается аффективно суженным (аффективные сумерки), по выходе из ступора выявляется частичная или полная амнезия пережитого. Особенно легко аффективно-шоковые реакции дают дети. Состояния заторможенности у них могут повторяться в тех случаях, когда в окружа-
212
ющей обстановке появляется что-то, напоминающее собой первоначальную, вызвавшую ступор психотрав-мирующую ситуацию. У взрослых ступор либо оказывается самостоятельной реакцией на психогению, либо, что чаще,— лишь этапом развития реактивного психоза.
Истерический ступор в классическом варианте есть по существу психогенная реакция определенных личностей — лиц с истерическими чертами характера. В подобных случаях речь идет о слабости высшей нервной деятельности (врожденной или приобретенной) и особенно реакций второй сигнальной системы. В результате перевес получает безусловнорефлекторное и первосигнальное реагирование, а основными свойствами личности оказываются детскость, психическая инфантильность, крайняя эмоциональная возбудимость, усиленная игра воображения и самовнушаемость, повышенная нервная тор-мозимость. Такие люди могут отреагировать заторможенностью не только на объективно значимые психо-травмирующие события, но и на незначительные — ссору с соседкой по квартире, замечание по работе и др. В неблагоприятной ситуации больные падают как бы в обмороке, перестают отвечать на вопросы, становятся вялыми, расслабленными, поза выражает бессилие, мимика — страдание. Глубоких нарушений сознания не бывает, и больные в состоянии контролировать ситуацию. Так, падая, больные избегают самоповреждения. Выражены соматические и вегетативные симптомы: изменение частоты пульса и дыхания, покраснение или побледнение лица, потливость, повышенная реактивность зрачков («зрачковое беспокойство») .
Истерический ступор старые авторы описывали под названием мнимой смерти. Само расстройство, как и другие истерические состояния, издавна понимается как своеобразное «бегство» от возникающих трудностей, неосознаваемая больным попытка решать свои жизненные проблемы демонстрацией своего бедственного положения и возможных роковых его последствий. Однажды полученные таким путем преимущества подчеркивают целесообразность этих реакций, делают их условно-желательными. Поэтому истерические расстройства, в том числе и явления заторможенности, могут повторяться. Явления заторможен-
2!3
ности могут не достигать степени генерализованных реакций оцепенения, а касаться лишь отдельных двигательных актов. Сюда следует отнести прежде всего истерические парезы и параличи, астазию-абазию, истерические нарушения, речи и прочие функциональные выпадения.
Истерические парезы и параличи не имеют органической основы и, поскольку бывают следствием самовнушения, проявляются так, как больной сам себе представляет это нарушение. Выясняется, что, когда больной чем-то испуган или расстроен, у него «отнимаются» руки или ноги (ноги становятся как ватные, не слушаются, а однажды и вовсе перестают функционировать). Врачу чаще приходится иметь дело с поражением одной руки или ноги либо обеих нижних конечностей, нередки и гемиплегии без участия лицевых нервов. В парализованных конечностях отсутствуют активные движения, но возможны оборонительные, защитные движения, особенно при отвлечении внимания больного; моторика восстанавливается во сне и в гипнотическом состоянии. При неврологическом исследовании выявляются нарушения чувствительности, не соответствующие зонам иннервации: гипо-, анестезия по типу чулка, носка или перчатки. Рефлексы оказываются неизмененными, патологических признаков, нарушений тонуса, трофики обнаружить не удается. Отсутствуют также изменения электровозбудимости мышц. Истерические парезы и параличи иногда долго и безуспешно лечатся, а затем вдруг под влиянием какого-то внешнего толчка исчезают так же легко, как и появились. При истерических парезах ног наблюдается астазия-абазия, когда больной не может стоять, сидеть, сохранять равновесие, ходить, хотя в лежачем положении он свободно двигает ногами.
Истерические расстройства речи проявляются полной немотой, афонией, заиканием, изменением произношения слов и др. При немоте (истерический мутизм) письменная речь и понимание чужой речи не нарушаются, больной живо, с экспрессией мимикой и жестами общается с окружающими. При афонии утрачивается звучность речи, больной говорит шепотом, ссылаясь на потерю голоса. При этом он способен громко кашлять, что свидетельствует об отсутствии изменений в голосовых связках. У одного и того же
214
больного немота может смениться афонией, затем заиканием или нарушениями артикуляции, как будто это представляет собой разные степени одной и той же патологии. По существу же все эти явления имеют только внешнее сходство, а объединяются вместе лишь в понимании больного.
ч
Двигательное возбуждение
Двигательное возбуждение, как и двигательная заторможенность, характерно для психотических состояний и в ряде случаев является показателем их остроты. По своему содержанию двигательное возбуждение неоднородно. Оно может выражать собой либо просто стремление к движению, либо стремление к действию. Первое составляет особенность к а т а-тонического возбуждения — чисто моторного, не имеющего цели, и бессмысленного (см. Синдромы двигательных и волевых расстройств). Стремление к действию присуще маниакальному возбуждению, которое определяют как психомоторное.
В маниакальном состоянии все психические функции оживлены, восприятие облегчено, ассоциативная деятельность ускорена, настроение повышено. Такое возбуждение даже в тяжелых случаях не бывает бессмысленным, а всегда целенаправленно. Больные чрезвычайно активны, подвижны, неутомимы, много и громко говорят. Везде, где бы ни находились, они создают шум и беспорядок, во все бесцеремонно вмешиваются, оказываются в центре происходящих здесь событий. Любая пришедшая в голову мысль немедленно реализуется в действие. При легких гипомани-акальных состояниях обнаруживается даже повышение продуктивности в работе, отчасти также за счет снижения критики к себе. На высоте болезненного состояния психомоторное возбуждение, достигая крайних степеней, выглядит хаотичным. При более внимательном наблюдении можно уловить, что на первый взгляд необъяснимое поведение больного представляет собой цепь целенаправленных, но не оконченных действий. Если такого больного сфотографировать с короткой выдержкой, то на фотографии можно увидеть изображение человека, занятого выполнением какого-то конкретного действия. Этим фотография отличалась бы от изображения возбуж-
215

Рис. 11. Резко выраженное, маниакальное возбуждение. Рис. 12. Больная в состоянии тревожной депрессии.
денного больного в состоянии кататонии, движения которого сходны с подкорковыми гиперкинезами. Внешний облик больных с маниакальным возбуждением отображает их эмоциональное состояние: они держатся прямо, уверенно, выглядят помолодевшими, лицо веселое, глаза блестят, на щеках румянец, мимика очень живая, движения размашистые, жесты и позы выразительные; голос хриплый или осипший вследствие постоянного перенапряжения голосовых связок (рис. 11).
'Тревожное возбуждение депрессивных больных производит на окружающих тягостное впечатление. Больные мечутся и стонут, испытывая душевные муки и терзаемые тревогой (рис. 12), причитают, взывают о помощи, ломают руки, могут наносить себе самоповреждения, неожиданно совершать суицидальные попытки. Суицидальный риск особенно возрастает в тех случаях, когда тревожное возбуждение сочетается с бредом самообвинения.
Содержанием галлюцинаторного и бредового возбуждения могут быть устрашающие галлюцинации, идеи преследования, воздействия, ревности и др. Действия таких больных находятся в
216
соответствии с тематикой бреда и галлюцинаций: больные спасаются, прячутся, защищаются, нападают сами, резко сопротивляются при попытке оказать им медицинскую помощь. Подобные состояния представляют опасность как для окружающих (особенно для лиц, вовлеченных в бред), так и для самих больных. Наиболее опасным бывает возбуждение больных, находящихся в состоянии измененного сознания. Под влиянием острого бреда и галлюцинаций больные, находящиеся в делириозном, онейроидном, сумеречном состоянии, с нарушениями ориентировки и осмысливания ситуации выскакивают в окно, стремглав бегут куда-то, рвутся из палаты, набрасываются на окружающих, бьют стекла, рвут одежду, документы, выкидывают ценные вещи и т. д. В самых тяжелы^ случаях помрачения сознания (при аменции, при муссити-рующем делирии) возбуждение становится беспорядочным, хаотичным, ограничивается пределами постели, речь переходит в бормотание или становится бессвязной.
Выше, при описании состояний заторможенности, уже говорилось об аффективно-шоковых ступорозных реакциях, возникающих в связи с острыми и тяжелыми психогениями. Вторая форма проявления аффективно-шоковых реакций — гиперкинетическая. Такого рода психогенное возбуждение развивается на фоне аффективно суженного сознания, что исключает возможность контроля больным своего поведения. Охваченный страхом такой человек бежит, не разбирая дороги, не чувствуя усталости и боли при ожогах и ранениях. В подобном состоянии человек, убегая от опасности, оказывается ближе всего к ней: так, при пожаре он прыгает из окна высокого этажа, хотя, если бы спокойно осмыслил ситуацию, мог бы выйти из здания через дверь.
Истерическое возбуждение всегда бывает психогенно спровоцировано и, как все проявления истерии, носит налет театральности, демонстративное™. Это могут быть постоянные или периодически повторяющиеся гиперкинезы (подпрыгивания, тикозные подергивания, резкие движения тела, блефа-роспазм и др.) или припадки, во время которых больные рыдают, кричат, бьются, катаются по полу, производят множество движений, принимают театральные позы. Иногда истерический припадок имитирует эпи-
217
лептический, если больной видел такие припадки раньше. В отличие от эпилептического, начинающегося вне связи с психогенией, истерический припадок всегда развивается эмоциогенно з присутствии других людей и не бывает во сне; при падении больному удается избежать ушибов, не наблюдается прикусыва-ния языка и мочеиспускания. Поскольку сознание не отключено, как при эпилептическом припадке, а лишь сужено, то сильным внешним раздражением или, наоборот, удалением зрителей и созданием спокойной обстановки удается прекратить припадок. Продолжительность припадка — от нескольких минут до многих часов в зависимости от особенностей ситуации.
Эпилептическое возбужде.ние сопутствует дисфории и обычно бывает привязано к какому-то внешнему поводу, вызвавшему недовольство больного. Возбуждение облечено в реакцию гнева или ярости, сопровождается агрессивностью и разрушительными действиями, бывает монотонным и длительным: больной долго выкрикивает одни и те же угрозы, ругательства, совершает однообразные движения и действия.
