
2 Интересные соображения по этому вопросу см. В ст.: Манн ю. Базаров и другие. — «Новый мир», 1968, № 10.
альных свойствах и потребностях его натуры. Именно так понимает теперь положение вещей,,он сам: «...Во мне сидит какой-то червь, который грызет меня и гложет и не дает мне успокоиться до конца... Я родился перекати-полем... Я не могу остановиться» (6, 357, 366). Конечно, объективные категории «истины», «добра», «пользы существенной» сохраняют для Рудина свое прежнее значение, но все они фактически превратились во «внутренние» реальности его сознания и только в этом качестве существуют на самом деле, потому что в объективной реальности общественной жизни Рудин не находит для них никакой опоры. Сознание этого явно прорывается в горьком замечании Рудина о том, как «мудрено... строить, когда и почвы-то под ногами нету, когда самому приходится собственный свой фундамент создавать» (б, 257).
И опять-таки можно заметить, что типичная тургеневская ситуация, бегло намеченная в «Рудине», получает открытое и напряженное выражение в «Отцах и детях». В XXI главе разговор Базарова с Аркадием позволяет догадаться о глубокой духовной драме героя. Базарову ясно, что его стремлениям равно противостоят законы природной и общественной необходимости, что разлад с ними принципиален и неустраним.
Безучастности законов общества и природы Базаров не может противопоставить никакого собственно человеческого объективного закона. Антропологическая концепция здоровой человеческой натуры сама подвергнута теперь «полному и беспощадному отрицанию». «Какую клевету ни взведи на человека, он в сущности заслуживает в двадцать раз хуже того» (8, 326),— таково теперь суждение Базарова о родовой природе всех людей.
Теперь и собственная цель представляется ему в новом свете. «Я придерживаюсь отрицательного направления — в силу ощущения. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен — и баста!» (8, 325).
Разумеется, логически эта формула может быть увязана с утверждением: «Мы действуем в силу того,
99
что мы признаем полезным» (8, 243), прозвучавшим в начале романа. Однако подобная увязка возможна лишь в отвлечении от контекста двух конкретных разговоров и ситуаций. Когда Базаров говорил, что «в теперешнее время полезнее всего отрицание» (8, 243), он исходил из того, что отрицание объективно необходимо всем. Заявляя, что он отрицает «в силу ощущения», в силу особенного «устройства мозга», которому «приятно» отрицать, Базаров явно отбрасывает прежнюю посылку. Теперь уже и речи нет о том, отвечает или не отвечает отрицание объективным потребностям общества; сама эта проблема больше не стоит. Цель предстает как личная потребность, не поддержанная никакими социально-нравственными санкциями. Это позиция человека, идущего своим путем не в силу убеждения, долга или надежды на успех, а просто потому, что он не может жить иначе. Такая-позиция отчасти напоминает «разумный эгоизм» героев «Что делать?». Но сходство простирается неглубоко .и не отменяет принципиального различия двух явлений. То, что стремится показать Тургенев, в известном смысле даже противоположно этике «новых людей». По логике «антропологического принципа» эгоизм человека состоит в его неизменном стремлении к удовольствию и пользе, а «разумная» природа этого эгоизма сводится к тому, что истинную пользу и высшее удовольствие может доставить человеку только благо других людей. Такое решение вопроса тоже означает отказ от повиновения традиционным нормам старого мира, но отказ от этого не ведет к нравственной автономии личности. У сторонников «антропологического принципа» есть иной верховный законодатель: эта роль принадлежит природе, естественному порядку вещей, не зависящему от чьей-либо субъективной воли. Все естественные стремления человека — не просто его личные расположения. Это и есть требования всеобщих законов природы, и «разумная» диалектика эгоизма — альтруизма представляется заданной именно таким, всеобщим и непререкаемым, законом естества. Он открыт и объяснен человеку наукой — остается лишь его исполнять.
100
В Базарове угадано принципиально иное соотношение необходимости и свободы. Базаров говорит, что ему «приятно» отрицать и что причина его непреклонности — в устройстве его мозга. Это похоже на антропологические формулы в самом крайнем их варианте. Но нет возможности утверждать, что «устройство», предрасполагающее к отрицанию, представляется Базарову всеобщей естественной нормой. Напротив, подтекст Базаровского признания заключается в том, что такое «устройство» отделяет его, «нигилиста», от всех остальных людей. Поэтому у Базарова не находится серьезных возражений, когда Аркадий обращает его тезис об «ощущениях» против него же самого. «Во мне простое чувство справедливости заговорило... — возразил запальчиво Аркадий. — Но так как ты этого чувства не понимаешь, у тебя нет этого ощущения, то ты и не можешь судить о нем» {8, 327). И возникает необычная ситуация: впервые на протяжении романа Базаров практически побит в споре. Возразить и в самом деле нечего. «Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? — тоже в силу ощущения. Это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут» (8, 325). Выходит, что «ощущения» у каждого свои, и утверждал это сам Базаров.
Все это придает базаровским «ощущениям» совсем не антропологический смысл. «Ощущения» здесь — необходимость, заданная личности законом ее собственной индивидуальной природы. Не удивительно, что Базаров не признает никакой законодательной силы, стоящей над ним и имеющей право определять его жизненную цель.
Общий закон «героического» уровня проявляется и по-иному. В жизненной позиции Лизы Калитиной или Елены Стаховой нет и намека на идеологическую инициативу. Но вместе с тем трудно видеть в их стремлениях и целях производное от какой-то системы идей, воздействующих на личность героини как объективная внешняя сила. Елена Стахова, например, явно не нуждается ни в каких идеологических обоснованиях своей цели: ее стремления рвутся прямо из глубины ее натуры. Ее равнодушие к философским
~ 101
365), — говорит он Лежневу. Но в соотнесении с вдохновляющей героя целью даже малые дела получают грандиозный всеобщий смысл. Они осознаются как акты служения истине и благу человечества, представителями которого оказываются слепая бабка с ее семейством и вообще все, кто встречается герою на его жизненном пути.
Именно внутренний смысл цели, а не масштабы ее реализации являются решающим фактором, от которого зависит ее широта. Этот закон распространяется и на тургеневских героинь. Елена Стахова покидает Россию, чтобы посвятить себя громадному всенародному делу — борьбе за освобождение Болгарии. Лиза Калитина всего лишь сама уходит-в монастырь, но важен смысл этого поступка — самопожертвование во искупление грехов людских. Граница этих «чужих» грехов не обозначена ясно: может быть, речь идет , о грехах целого сословия или даже целой нации, допустившей, чтобы в основание общественных отношений была положена несправедливость.
Существенно и другое. Даже лишившись универсальных обоснований, цель героя не утрачивает своей нормативности, ее нормативность лишь изменяет характер и диапазон. В финальной части романа герой -уже, как правило, далек от того, чтобы считать свою цель общеобязательной. Однако сохраняется ее соотнесенность с такими категориями, как «долг» (у Лизы), «дело» (у Елены), «служение» (у Рудина), «задача» (у Базарова). И сами эти категории, даже превратившись во «внутренние» нравственные инстанции, сохраняют надличный смысл. Он проявляется в их императивности, в их способности обязывать человека. Правда, обязывает его в таких случаях не какой-нибудь внешний авторитет, а уровень его собственных возможностей и притязаний. Но обязанность остается обязанностью, в ней всегда есть предпосыл- . ки возвышения над единичным и, стало быть, возможность ее переноса на другого человека такого же уровня и масштаба.
Так, цель всецело личная по своему происхождению оказывается всецело общественной по своему
характеру и смыслу. Можно говорить о непосредственно общественном, равновеликом целому обществу масштабе личности тургеневского героя. То, что мы о нем узнаем, равносильно открытию; отдельная личность оказывается источником новых общественных тенденций, ценностей и норм. И очевидно, что ее способность к социально-нравственному новаторству неразрывно связана для Тургенева с ее социальной обособленностью. Во всех тургеневских романах 50-х — начала 60-х годов проступает устойчивая мысль их автора: только личность, отделившаяся от существующего общественного целого, и противопоставившая себя ему, стремится внести в мир социальных отношений нечто новое.
В этом — своеобразие типичности тургеневских героев. По справедливому замечанию Л. Я. Гинзбург, Тургенев «хочет понять человека... не только как обусловленного, но и как прямое выражение обусловливающего — самой исторической энергии».3 Тургеневский геро.й — эпохальный человек в самом высоком смыеле этого слова. Через него реализуются высшие возможности эпохи, через него входят в мир творческие импульсы прогресса. Даже свойства его характера непосредственно историчны: они придают определенную окраску важнейшим явлениям современной культуры. В письме к Случевскому по поводу «Отцов и детей» Тургенев писал об «истинных отрицателях», толкуя эту категорию очень широко: «Они идут по своей дороге потому только, что более чутки к требованиям народной жизни» (П., 4, 380). Стремления свободной личности определяются здесь как следствие объективных потребностей истории. В романах Тургенева картина сложнее: здесь только несокрушимая прочность стремлений героев свидетельствует об их связи с объективной исторической необходимостью. И бросается в глаза необычность такой связи. Единственным воплощением объективных велений истории оказываются именно стремления героев — индивидуальные стремления исключительных личностей, для
Гинзбург Л. О психологической прозе. Л., 1971, с. 312.
105
которых нет в окружающем их мире никакой прочной опоры. По мысли Тургенева, других воплощений нет и не предвидится.'
В этих удивительных сочетаниях социальной обособленности и новаторской активности, нравственной автономии и универсальной нормативности жизненных целей усматривается глубинная тенденция современного общественного развития, незаметная на поверхности, но для Тургенева чрезвычайно важная. Тургенев улавливает подспудные сдвиги в отношениях человека и общества в России и, в частности, становление в современных условиях новой формации личности, дерзающей взять на себя те функции, которые прежде выполняло общество в целом.
Жизненная цель героев, о которых идет речь, состоит в стремлении к идеалу. Это высокий, всеобъемлющий идеал нравственности, общественной справедливости и человеческого совершенства. Очевиден абсолютный характер этого идеала: он не допускает никаких компромиссов. Очевидна и его неумолимая категоричность: идеал выдвигается как норма, которой действительность обязана соответствовать.
Оттого и неожиданна исходная ситуация в отношениях героя с его окружением. Такая ситуация устойчиво повторяется в начальных главах романов Тургенева, меняя лишь форму, но не существо. А существо ее заключается в следующем. Идеальная цель героя объективно противостоит всем законам окружающей среды. Цель эта резко отделяется от интересов, потребностей и целей всех остальных людей. Однако при всем том отношение героя к миру и к людям — достаточно спокойное. Рудин может месяцами жить в доме Ласунской и благополучно уживаться с ней и ее домочадцами, невзирая на то, что он и окружающие говорят на разных языках, мыслят разными категориями и руководствуются побуждениями, попросту непонятными для другой стороны. Подобная же ситуация — в «Отцах и детях». Базаров
Ш
может поначалу ездить «смотреть помещиков», пренебрежительно поругивать Павла Петровича Кирсанова, . одновременно снисходительно похваливая его брата, и все это — в пределах спокойной, порой даже несколько благодушной отчужденности. Правда, конфликт все-таки возникает, но возникает он не по воле героя: ведь идейный спор с Павлом Петровичем Базарову навязан. Базаров, конечно, не уклоняется от схватки, но явно не хочет ни продолжать, ни возобновлять ее.
В отношении Елены Стаховой к окружающим людям тоже чувствуется спокойная отчужденность. К тем из них, чьи качества не отвечают ее идеалу, она немедленно теряет интерес. Все конфликты с ними возникают не по ее инициативе и в сущности очень мало ее волнуют. Если бы это зависело только от нее, Елена жила бы среди чуждых ей людей, никак не сталкиваясь с ними (во всяком случае такая возможность отчетливо ощущается в романе). А разве не сходно с этим первоначальное состояние Лизы Ка-литиной, которой ее религиозно-нравственный максимализм не мешает слушаться матери и допускать для себя возможность выйти замуж за Паншина?
• Б -чем же дело? Дело в том, что тургеневские герои не рассчитывают на немедленное осуществление своих идеалов в жизни других людей. Идеал для них — это прежде всего закон их собственной жизни. И поначалу им кажется, что их жизнь вполне соответствует идеальной мерке. Они- чувствуют себя свободными от всех пороков и слабостей окружающих, от их заблуждений, от власти обстоятельств. Они твердо уверены в том, что их позиция отвечает высшим критериям справедливости и в любой ситуации обеспечит им правильную линию поведения. Так же твердо уверены герои в безусловном владении истиной. Поначалу всего этого им достаточно.
Нельзя сказать, что они равнодушны к тому, как складывается жизнь того или другого человека из числа живущих рядом; иногда герои прямо вмешиваются в судьбы и отношения окружающих. «Страсть его была во все вмешиваться, все определять и разъ-
107
яснять» (6, 298), — рассказывает Лежнев о молодом Рудине. Страсть эта по раз обнаруживается и в доме Ласунской, где Руднн «входил во все: толковал с Дарьей Михайловной о распоряжениях по имению, о воспитании детей, о хозяйстве... выслушивал ее предположения, не тяготился даже мелочами» (6, 289), Даже Базаров, всегда презрительно отстраняющийся от «мелочей», и тот оказывается способным хотя бы мимоходом подумать о «перевоспитании» Николая Петровича и посоветовать Аркадию дать отцу почитать Бгохнера «на первый случай». Наконец, даже кроткая Лиза может решительно начать щекотливый разговор о неудачном супружестве Лаврецкого и настойчиво продолжать' его с ясной целью наставить заблуждающегося, указать ему верный путь.
Но удивительна позиция, определяющая характер такого вмешательства. В ней парадоксальным образом соединяются явное преувеличение возможностей окружающих и взгляд на них сверху вниз. Отправляясь со своим «донкихотовским» визитом к Волынцеву, Рудин предполагает в нем такую свободу и силу духа, такую способность возвыситься над уровнем своей среды, какими Волынцев никогда не обладал и обладать не мог. Но, с другой стороны, в том же визите столько пренебрежения к реальным понятиям Волынцева о чести и приличии {и в конечном счете к его реальной человеческой ценности), что бешенство последнего вполне естественно. Пренебрежение здесь тем более высокомерное, что оно совершенно непроизвольное и бессознательное. Рудину просто в голову не приходит, что Волынцев и после его обращения сможет оценить ситуацию иначе, чем он, и что к возможности этой оценки следует отнестись с уважением. Аналогичное противоречие проявляется и в советах Базарова о «перевоспитании» Николая Петровича. С одной стороны, здесь чувствуется такое же высокомерное пренебрежение ко всему, чем реально обладает этот человек, к его мировоззрению, культуре, жизненному опыту. В то же время с человеком обращаются так, как будто он способен разом стряхнуть с себя все это и начать совершенно новую
108
жизнь. В сущности чего-то подобного требует и Лиза от Лаврецкого, когда говорит о его долге не только простить неверную жену, но и признать свою собственную вину перед богом. Лаврецкий, отвечающий всем требованиям религиозного идеала Лизы, это уже в сущности другой человек, не похожий на реального Лаврецкого. Между тем Лиза об этом не задумывается: она исходит из того, что ее требование выполнимо для каждого.
Получается, что первоначальное представление героев о людях в сущности эгоцентрично: они подходят к окружающим со своей меркой. Вместе с тем это представление предельно абстрактное, исключающее возможность принципиальных различий между людьми. Базаров единственный говорит об этом прямо, но все тургеневские герои так или иначе исходят из подобной посылки. Чувства героев к людям тоже абстрактны. О Лизе сказано, что она «любила всех и никого в особенности». Это тем более относится к Елене Стаховой, которую занимают все бедствия мира, но не волнует несчастье ее матери. И уж тем более к Рудину или к Базарову, в чьих первоначальных рассуждениях люди словно растворились в общих категориях «истины», «будущности народа», «полезного», «теперешнего времени» и т. п. Сама идеальная цель героев поначалу абстрактна: она рисуется им в полном отвлечении от живых, конкретных людей с их живыми конкретными реакциями, потребностями и свойствами. Даже собственное «я» воспринимается подобным образом: оно представляется таким, каким герой хотел бы быть в соответствии с нормативными критериями своего идеала.
Так сказывается отдаляющая дистанция между героем и жизнью. Герой и его отвлеченный идеал — по одну сторону, жизнь и все остальные люди — по другую. Отсюда первоначальное спокойствие тургеневских героев, их уверенность в своем безусловном праве судить жизнь и вмешиваться в ее естественный ход, отсюда сочетание ригоризма и снисходительности в их первоначальном отношении к людям. Для двустороннего, обоюдоострого конфликта, способного
109
![]()
задеть героя' «за живое», пока что нет почвы: герой и «другие» живут в несоприкасающихся измерениях. Но в какой-то момент дистанция непременно исчезает. Уничтожает ее любовь. Любовь впервые непосредственно сталкивает и связывает героя с другим конкретным человеком и впервые заставляет ощутить живую неповторимость этого другого, причем ощутить ее как что-то нужное себе, как ценность. И тогда приходит конец самодовлеющей замкнутости героя. Он начинает с неожиданной для себя остротой ощущать реакции окружающих, их непохожесть, независимость их существований от его собственного. Он втягивается в самые разнообразные отношения с этими людьми — живые, противоречивые и сложные. Герой даже впутывается в обычные людские «дрязги» и порой запутывается в них. Иногда он даже -совершает поступки, предосудительные с точки зрения обычных критериев, порядочности. Начинается это с Рудина, который то и дело попадает в некрасивые положения, хотя всегда и всем желает добра. А чего стоит поведение Базарова в сиреневой беседке, где он пе-лует Фенечку? Ведь все это происходит в доме, где Базарова принимают с удивительной терпимостью и лояльностью, и вот как он благодарит деликатных хозяев за их гостеприимство! Даже чистые и святые тургеневские девушки невольно оказываются в положениях, которые при желании можно счесть постыдными: Елена вступает в связь с мужчиной, который на ней. не женат; Лиза оказывается возлюбленной человека, женатого на другой женщине. Героям и героиням приходится пройти через унижения, приходится страдать, приходится в какие-то моменты почувствовать себя смешными. Словом, небожитель оказывается на земле, увязает в житейской каше и варится .в ней вместе с остальными людьми.
Собственно, в этом положении он впервые начинает жить настоящей живой жизнью. В новых ситуациях впервые раскрывается живая конкретность его личности, впервые реализуется вся полнота его человеческих возможностей и качеств. И намечается уже совсем ' иное соотношение идеала, реальной жизни
ПО
и собственного «я» героя. Герой уже не может, как прежде, отделить себя от житейской стихии. То, чему раньше противостоял его идеал, теперь оказывается неотъемлемой частью его собственного существа, его собственной жизни. Сущность новой ситуации заключается в том, что идеал героя испытывается на нем же самом и беспощадность принятых им критериев обрушивается на его голову.
Обнаруживается, что герой сам не соответствует своему идеалу, такой момент в тургеневском романе наступает неизбежно. Идеал Рудина предполагает полную -сосредоточенность личности на исполнении своей высокой социально-нравственной миссии: «Сознание быть орудием... высших сил должно заменить человеку все другие радости» (6, 270). Любовь допускается лишь в самом возвышенном варианте, равнозначном самоотверженному подвигу («женщина, которая любит, вправе требовать всего человека» — 6, 306). Но когда Рудин влюбился сам, его увлечение (как бы мы к нему ни относились) оказывается подвластным всем обычным законам человеческой слабости, и герой воспринимает случившееся как свое моральное поражение. Основу идеала Базарова составляет образ «настоящего человека», постоянно присутствующий в сознании героя как критерий оценки себя и других. Это образ человека абсолютно свободного, свободного, между прочим, и от всего, что связывает отдельную личность с другими людьми. Настоящий человек знает только свою цель, а до всего остального ему дела нет: в каком-то высшем смысле он ' подобен для Базарова муравью, предмету грустной базаровской зависти. Базаров был уверен, что свобода дает человеку возможность полновластно распоряжаться всеми своими помыслами, чувствами и стремлениями (вспомним первоначальные базаровские рассуждения о любви или базаров-ский отзыв о любовной драме Павла Петровича).
Любовь опровергает эту уверенность просто и неотразимо. Чувство, которым Базаров захвачен, идет из глубины его существа; в этом чувстве нет ничего, что 'можно было бы отнести за счет внешних влияний.
И1
И вот оказывается, что над этим чувством он сам не властен: сознает неразумность и несбыточность своих стремлений, но отказаться от них бессилен. При всем том очевидна мучительная зависимость от чувств, реакций и поступков другого человека. Базаров ощущает ее поминутно: любое движение Одинцовой, любое ее слово, взгляд, улыбка могут совершить переворот в его душе. Отсюда и вырастает злоба, изнутри наполняющая базаровскую страсть, ее рождает впервые испытанное ощущение бессилия, уязвимости и связанности.
В глубоком разладе с идеалом — переживания Лизы Калитиной, полюбившей Лаврецкого. До встречи с ним Лиза жила «вся проникнутая чувством долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было». Вместе с любовью приходит желание счастья, и чистота беспримесного альтруизма оказывается нарушенной. Даже религиозное чувство получает тончайший оттенок «своекорыстия»: когда Лиза мечтает привести Лаврецкого к богу, это уже не только забота христианки о спасении души, потерянной для веры, Лиза хочет спасти Лаврецкого для себя, потому что это. необходимо для ее любви и счастья. И вот одно «нарушение» влечет за собой другие. В первый же свой счастливый день Лиза вынуждена оскорбить Панщина, отвергнув его предложение, затем огорчить мать и, наконец, столкнуться с самым близким ей человеком — Марфой Тимофеевной. А позднее, с появлением Варвары Павловны, к Лизе приходят даже дурные чувства — «какие-то горькие, злые, ее самое пугавшие порывы» (7, 257). Приходит явное отвращение к Варваре Павловне и, может быть, даже невольное сожаление о том, что она жива. Лиза близка к озлоблению, а это как раз тот страшный грех, который еще недавно она сама не хотела простить Лаврецкому:
Даже Елена Стахова, чья любовь как будто бы в полном согласии с ее идеальными требованиями, даже она, полюбив, ощущает некоторые диссонансы, составляющие оборотную сторону ее счастья. Временами она чувствует себя предательницей. «Ей cra-
новилось совестно и стыдно своих чувств. «Ведь это •все-таки мой дом,—думала она, — моя семья, моя родина...» — «Нет, это больше не твоя родина, не твоя семья», — твердил ей другой голос» (8, 102). «А горе бедной, одинокой матери?» — спросила она себя и сама смутилась и не нашла возражений на свой вопрос» (8, 157). Счастье одного основано на несчастье другого, от этого никуда не уйдешь. Такая ситуация не может не угнетать поборницу бескомпромиссной справедливости, тем более, что прямая виновница этой ситуации — сама Елена.
Новые переживания могут вызвать в героях и героинях различные реакции, они могут их смущать, пугать, удручать, бесить. Но одно очевидно для каждого из них — безусловная естественность этих новых переживаний. Так выясняется, что идеалу героя противостоят не только законы социальной среды и слабость или косность окружающих. Идеал оказывается несовместимым с необходимыми потребностями самой человеческой природы, с непреложными законами живой жизни, которые действуют в каждом из людей. Критерии абсолютного совершенства, абсолютного добра, абсолютной справедливости и абсо-. лютной свободы (те самые, на которых основаны идеалы Рудина, Лизы, Елены,- Базарова) осуществимы лишь ценой разрыва с естественными основами человеческого существования. Такой урок преподает героям жизнь, и каждому из них приходится принять этот урок.
Но именно в ситуациях, выясняющих несовместимость их идеала с жизнью, герои открывают для себя и нечто иное: становится очевидным, до какой степени важен для них этот неосуществимый идеал, -как он им необходим и дорог. Кризисные ситуации разрушают абстрактное обоснование идеальной цели, и цель эта неожиданно предстает перед человеком его собственной потребностью, Тогда и выясняется, что источником этой цели являются не взгляды и не принципы, а такие стремления героя, которые уходят корнями в глубочайшие основы его личности. Обнаруживается, что идеаль-
113
![]()
ная цель героя не может быть отброшена, ограничена или изменена.
Упорство лишает героя важнейшей предпосылки жизнеспособности — умения принимать как данность те факты и, законы действительности, которые не-. возможно изменить или обойти. Но любая 'форма гибкости не свойственна тургеневским героям. Мы вправе говорить о последовательности, неспособной отступить от своей исходной цели.
Что же рождает и поддерживает эту катастрофическую последовательность? В разговоре с Аркадием (гл. XXI) Базаров рассуждает о ничтожестве человеческой личности перед лицом вечности и беспредельности вселенной. «Позволь тебе заметить, — вставляет Аркадий, — то, что ты говоришь, применяется вообще ко всем людям...» (8, 323). «Ты прав,— подхватывает Базаров. — Я хотел сказать, что они вот, мои родители то есть, заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве... а я.,, я чувствую только скуку "да злость» (8, 323). Здесь наглядно обозначена непроходимая грань между героем и «другими». «Другие» способны даже не замечать неразрешимых противоречий жизни и своего несовершенства, а заметив, примиряться и с тем и с другим, принимая и то и другое как реальность, из которой нужно исходить. Герои, напротив, отвергают это нормальное для всех остальных условие само-' оценки. Иногда они в состоянии простить «другим» их слабости и признать законность их путей. В определенные моменты герои могут воспринимать путаницу и противоречивость жизни с грустным спокойствием стоиков. Но эти люди неспособны простить несовершенство самим себе. По отношению к себе у них всегда особый счет: это очевидно уже в последнем разговоре Рудина и Лежнева.
Новая позиция Лежиева сводится к полному оправданию Рудина. Характерны мотивировки: «Ты сделал, что мог, боролся пока мог... Чего же больше?.. Каждый остается тем, чем сделала его природа, и большего требовать от него нельзя!» (6, 366— 367). В этих мотивировках нет ничего недостойного.
114
Любой из вполне порядочных людей, окружающих Рудина в тургеневском романе, удовлетворился бы подобными оправданиями. Любой — только не Рудин. На протяжении всего разговора снисходительности Лежнева противостоят беспрерывные' самообвинения Рудина. Рудин готов принять оправдательный тезис Лежнева в применении к самому Лежневу: «Ты, брат, совсем другой человек, нежели я». Но себя герой мерит иной меркой: «Испортил я свою жизнь и не служил мысли, как следует» (6, 367). Рудин явно ставит себя выше любого объективного оправдания — «сделал, что мог, боролся пока мог» — этот аргумент для него недействителен. Только безусловное торжество идеала, только полная победа над обстоятельствами могли бы оправдать существование героя в его собственных глазах. Такая позиция .определяется ощущением своей избранности и в то же время — абсолютным масштабом идеала, перед которым этот человек никогда не сможет оправдаться до конца, потому что его идеал бесконечно высок и требователен.
Громадное, несовместимое с обычными мерками самолюбие — едва ли не самая резкая из всех черт,4 которые подмечают в Базарове окружающие. Павел Петрович обвиняет Базарова «в гордости почти сатанинской». Сходное определение мог бы дать Аркадий, которому открылась на миг «вся бездонная пропасть базаровского самолюбия». Глубина, масштаб и характер базаровского самолюбия в самом деле необычны. «Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, — говорит Базаров Аркадию,— тогда я изменю свое мнение о себе самом» (8, 325). Мнение о себе у него, как видим', достаточно высокое. Человеку «из числа обыкновенных» (говоря словами Одинцовой) этого вполне хватило бы для безусловного довольства -собой. Но.для Базарова превосходство над всеми означает лишь право требовать и ненавидеть. А требования его поистине беспредельны, и этот непримиримый максимализм обращается на него самого, то и дело восстанавливая Базарова против его собственных чувств, жела-
115
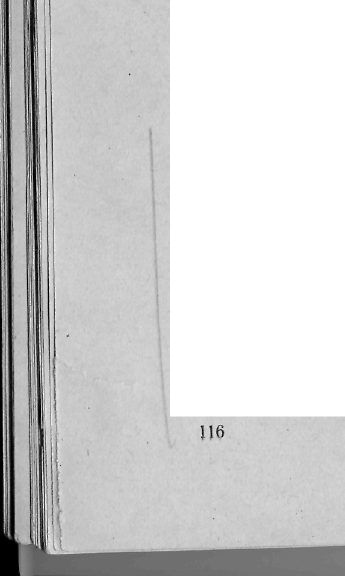 ний,
поступков. Для Павла Петровича любовная
драма
может стать источником самоуважения:
воспоминания
о ней поддерживают сознание незаурядности
и значительности прожитой им жизни. Для
Базарова
подобная же драма означает унижение:
она
воспринимается как проявление позорной
слабости,
которую герой может извинить себе только
ний,
поступков. Для Павла Петровича любовная
драма
может стать источником самоуважения:
воспоминания
о ней поддерживают сознание незаурядности
и значительности прожитой им жизни. Для
Базарова
подобная же драма означает унижение:
она
воспринимается как проявление позорной
слабости,
которую герой может извинить себе только
на пороге смерти.
Принципиальное различие двух оценочных критериев— для себя и для других — открывается и в сознании Лизы Калитиной. «...Нам обоим остается исполнить наш долг, — говорит она Лаврецкому. — Вы, Федор Иваныч, должны примириться с вашей
женой...
— ...Хорошо, — проговорил сквозь зубы Лаврец- кий, — это я сделаю, положим; этим я исполню свой долг. Ну, а вы —в чем же ваш долг состоит?
— Про это я знаю. Лаврецкий вдруг встрепенулся.
— Уж не собираетесь ли вы выйти за Панши на? — спросил он.
Лиза чуть заметно улыбнулась.
- - О нет! —промолвила она» (7, 272—273).
Догадка Лаврецкого вполне естественна. Ведь грешны 'они, в сущности, равным грехом, казалось бы, и искупление должно быть равным. Нужно смириться и связать свою жизнь с человеком, которого послала судьба. Именно этого требует Лиза от Лаврецкого. Но тут же выясняется, что собственный грех Лиза измеряет иной мерой, и мера эта, так же как и мера назначенного искупления, обнаруживает не смирение, а своеобразную гордыню. Ибо мера оценки здесь абсолютная: собственный грех переживается как падение с высот безусловной духовной чистоты, поэтому его искуплением может быть лишь полное отречение от всего земного и подвиг, несущий в себе всеобщий' смысл. Только так можно вновь возвыситься до святости мистической любви к богу и евангельской любви ко всему страждущему человечеству. Именно это духовное состояние стремится восстановить в себе Лиза.
Абсолютность требований к себе проявляется и в позиции Елены, решившей не возвращаться на родину после смерти Инсарова. «...Вернуться в Россию. Что делать в россии?»—этим вопросом отброшена сама проблема возвращения. В России нет дела, равного по своей значительности делу освобождения Болгарии. Поэтому возвращение равносильно падению с высоты, завоеванной ценой любви, дерзания, утрат. Вернуться — значит пойти на компромисс с жизнью, примириться с обыкновенным уделом. На это способны все персонажи «Накануне», не исключая Берсенева и Шубина, все, кроме Елены. Елена предпочитает смерть.
Варианты подобного максимализма разнообразны, однако в любом варианте требования героев к себе абсолютно высоки и беспощадны. От столкновений с реальностью категоричность этих требований в конечном счете даже возрастает, и высшего предела они достигают именно тогда, когда обнаруживается, что живая индивидуальность героя в той или иной мере им не соответствует. Истоки этой роковой для героев закономерности достаточно глубоки. Проясняет их опять-таки сопоставление героев с персонажами других категорий, на которое наталкивает динамика тургеневских сюжетов.
«...Позвольте, Павел Петрович, — промолвил Базаров,— вы вот-уважаете себя и сидите сложа руки; какая ж от этого польза для bien public? Вы бы не уважали себя и то же бы делали» (8, 242). Павел Петрович отводит базаровский упрек весьма характерным аргументом: «...это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, почему я сижу сложа руки, как вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что аристократизм — принсип, а без принсипов жить в наше время могут одни безнравственные или пустые люди...» (8, 242). В ответе Павла Петровича сказывается логика, типичная для тургеневских людей «золотой середины». Для самоуважения им нужно немногое, и обычно находится готовая норма, оправдывающая их жизнь, Какова она есть. А если полное самооправдание и до-
117
 вольство
собой оказываются невозможными, то
человек
«золотой середины»., может обойтись и
без них. Умеренность
критериев его самооценки это допускает,
да и сама эта умеренность вполне
естественна: такому человеку нет нужды
предъявлять себе какой-то
бескомпромиссно строгий счет. Ведь
живет он в
конце концов собой и для себя.
вольство
собой оказываются невозможными, то
человек
«золотой середины»., может обойтись и
без них. Умеренность
критериев его самооценки это допускает,
да и сама эта умеренность вполне
естественна: такому человеку нет нужды
предъявлять себе какой-то
бескомпромиссно строгий счет. Ведь
живет он в
конце концов собой и для себя.
Сверхличная жизненная цель героев и широкий диапазон их взаимоотношений с миром в корне -меняют дело. Для этих людей либо вообще не существует вышестоящей нравственной инстанции (таково положение Базарова), либо такая инстанция находится вне жизни, вне фактической реальности и является источником беспредельно высокой требовательности к человеку (таковы евангельские заповеди • для Лизы и те метафизические критерии, с которыми сверяет свою жизнь Рудин). Поэтому героям просто нечем оправдать свое несовершенство: нет нормы, которая обладала бы необходимым для этого авторитетом и вместе с тем достаточной ограниченностью. С .другой стороны, героям, не прожить без абсолютного самоуважения: сами их притязания. на высший смысл и всеобщее значение их жизней определяет его необходимость. При 'таком масштабе запросов и претензий человек не может отнестись к своему несовершенству спокойно или снисходительно. Ему необходимо быть совершенным, ибо у него просто нет другого выхода.
И каким 'бы возвышенным смыслом ни наполнялись обыкновенные человеческие потребности, им не дано достигнуть согласия с идеальными стремлениями героя-максималиста. Этот закон у Тургенева очевиден. Он проявляется в постоянном противоречии между социально-нравственной целью героя и его же потребностью любви и счастья. Противоречие опять-таки намечается уже в «Рудине». Через всю систему образов романа проходит отчетливое противопоставление двух различных жизненных перспектив. Способность любить и быть счастливым оказывается здесь достоянием людей, готовых примириться с обыкновенным уделом или вовсе не ис-
118
кать иного. Напротив, неистребимость героического энтузиазма явно связывается с неспособностью к любви и счастью, с неустранимой человеческой ущербностью в этом плане. В последующих романах Тургенева ситуация усложняется, появляются герои-максималисты, наделенные не только идеальной общезначимой целью, но и богатством чувств, задатками личного счастья. Однако противоречие, намеченное в «Рудине», лишь преображается, принимая форму трагической коллизии, вошедшей внутри человеческой личности. И, конечно, устойчивость, с которой повторяется это противоречие, не случайна. По мысли Тургенева, сама природа счастья исключает возможность его 'соединения с идеальной целью героя.
Толстой тоже подчеркивает неполноценность самых возвышенных и гармонических вариантов личного счастья. Он указывал на их принципиальное отличие от высшей. гармонии, которая вносится в жизнь человека только его духовным единством с народным и всечеловеческим целым. Но у Толстого эта высшая гармония не исключает личного счастья, а напротив, включает его в себя как одну из необходимых предпосылок. У Тургенева иначе. Для счастливого человека, кем бы он ни был, становятся неощутимыми противоречия жизни: тургеневские счастливцы воспринимают в мире только то, что созвучно их состоянию. Та же поглощенность собой — и в самой потребности счастья. Эта потребность рвется к своей цели вопреки всем диссонансам, внутренним и внешним, минуя их как препятствие. Противоречия при этом никогда не снимаются, они продолжают существовать вне восприятия человека. Иногда человек может даже чувствовать их. Так, Лизе тяжела необходимость огорчить сразу нескольких небезразличных ей людей, Елена признает свою вину перед одинокой матерью и покинутой родиной. Однако эти чувства не могут противостоять желанию пли ощущению счастья. Напротив, они усиливают его и в конечном счете заглушаются им. И тогда уже явно отступают на второй план общественные
119
дения между ними. «Он хищный, а мы с вами ручные» (8, 365), —это говорит о Базарове Катя, и таким объяснением сразу же снимается необходимость соотнесения ее и Аркадия жизни с критериями ба-заровского максимализма. Каждому свое.
Люди «золотой середины» у Тургенева комичны, если претендуют на важную общественную роль, на причастность к «большой» истории. Но почти каждый из них естествен и даже симпатичен, когда смеет быть самим собой, т. е. человеком «из числа обыкновенных». Когда эти люди любят, женятся, переживают маленькие семейные радости, воспитывают детей, заботятся друг о друге, тогда становится очевидным, что есть в их негероическом существовании своя правда. Ведь честно оставаясь в рамках такого существования, они не притворяются, не лгут, не поступают вопреки своей природе. Просто предел ее возможностей ограничен, и нет основания судить их за это.
В конечном счете максималисты признают их право жить по-своему. Даже Базаров, меньше всех других склонный к терпимости, говорит, расставаясь с Аркадием: «...Ты поступил умно; для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан» (8,380). Каждому свое — к такому итогу герои-максималисты приходят неизбежно. Итог звучит гордо, поскольку обнаруживает неизмеримое превосходство героев над окружающими. Но этот итог трагичен-, потому что выясняется неустранимость различий между героем и «другими», ненужность его идеальной цели всем остальным людям.
Трагизм ситуации в том, что самому герою эти люди, напротив, нужны. Жить настоящей жизнью он может лишь среди людей и вместе с ними. Сама его идеальная цель (при всей ее абстрактности) имеет в виду благо этих людей — неразумных, несовершенных и все-таки почему-то ему близких. А им чужды такая жизнь и такие цели, их мир может существовать и дальше, не нуждаясь ни в каких принципиальных изменениях. И страшнее всего то, что ни те, ни другие не виноваты в этом разрыве. Различие
122
категорий оказывается естественным. Причина в разнице масштабов человеческих личностей, существующей изначально и не зависящей от чьей-либ( воли.
Судьбы героев-максималистов неизменно вызывают сложное чувство. В меру их причастности к обыкновенной человеческой жизни их можно даже пожалеть. Но другой «частью» своего существа они выше жалости. Их страдания, житейская обездоленность и гибель представлены необходимой платой за их исключительность, и каждый из них не только вынужден, но и сам готов за нее расплачиваться. Природа этой расплаты оказывается двойственной. С одной стороны, в ней есть момент возмездия за гордыню, за дерзкую попытку возвыситься над естественным законом жизни, не допускающим абсолютного совершенства человеческой личности. Но, с другой стороны, герои возвышены своим несчастьем. Собственно оно-то и делает их героями: поначалу их исключительность не более чем потенциал, и только их страдания, обездоленность, одиночество превращают ее в осязаемую реальность состоявшейся человеческой судьбы. Именно неудачи, страдания, неприкаянность придают смысл и цену непреклонности героев, со всем этим связано их достоинство и величие. В конечном счете герои приходят к тому, что утверждают свое достоинство ценой собственной жизни (или ценой ухода из общей жизни людей, в сущности, равносильного смерти). И в этой ситуации фактическое поражение оборачивается их духовной победой, потому что в момент гибели или «ухода» герои впервые равны своему идеалу. Поэтому эпизод гибели Рудина на баррикаде, оставленной ее защитниками, может вызвать в читателе чувство удовлетворения. В этот момент энтузиазм и самоотверженность героя впервые не осложняются ни малейшей примесью мелких чувств и впервые на его действиях не лежит обычная тень неудачливости. Рудин ищет именно героической смерти и единственный раз за всю жизнь добивается того, к чему стремился. Такое же безоговорочное величие — в роко-
123
•К
вых решениях Лизы и Елены: жизнь лишила их возможности счастья, но уход из «мира» обеспечивает им несокрушимое достоинство. Отныне их не в чем упрекнуть, и это ставит их выше всего, что сломало их жизни. А разве не таким же величием исполнен момент смерти Базарова? «Умереть так, как умер Базаров, — констатировал Писарев, — все равно что сделать великий подвиг»4. Писарев был точен — Базаров превращает .собственную смерть в подвиг бескомпромиссного самоутверждения. Перед лицом слепой силы, способной уничтожить все, он сохраняет свободу и достоинство, ни за что не цепляясь, ни в чем не ища опоры. Поэтому он впервые может себе все позволить — может говорить красиво, чего никогда не делал; может попросить Одинцову о поцелуе, чего тоже в иных условиях не сделал бы никогда. Теперь он впервые свободен до конца, ибо достиг предельной высоты и ничто уже не может его принизить.
Тургенев понимает трагическое противоречие как столкновение двух равновеликих и равнозначных правд.5 Именно такое противоречие развертывается перед нами в его романах. В стремлении к идеальной цели, несовместимой с наличной реальностью общественных форм, человеческих отношений, естественного хода жизни и т. п., заключена 'для Тургенева неотменимая правда социального и нравственного творчества, осуществляемого через индивидуальный поиск, автономный, никем и ничем не поддержанный, но имеющий сверхличный общественный смысл. В потребности любви и счастья писатель qбнapyживaeт иную, но тоже неотменимую правдуj- правду необходимой связи человека с другими людьми, с живой жизнью, а в конце концов с реально существующим вопреки всем противоречиям и переворотам гигантским и вечным целым национально-исторического бытия.
Противоречие не размыкается даже в условиях как будто вполне благоприятных. В романе «Накануне» появление болгарина Инсарова, казалось бы, снимает неустранимую коллизию «Дворянского гнезда». В жизни Елены Стаховой соединяются все компоненты гармонии, необходимой тургеневскому герою, — возможность полного разрыва с наличной реальностью русской жизни, объективная сверхличная цель, подвиг, любовь, счастье. Но болезнь и смерть того же Инсарова обнаруживает хрупкость и случайность основания, на котором держится эта гармония. От счастья не остается и следа, а «дело Дмитрия» превращается в нечто подобное героическому самоубийству. Оказывается, что подлинное разрешение трагического противоречия, разрывающего жизнь тургеневских героев, не может быть найдено вне родной почвы.
Под таким углом зрения сама современная исто--") рическая ситуация представляется Тургеневу противоречивой. С одной стороны, именно она открывает возможность проявления «прометеевского» начала личности — ее устремленности к высшим целям ^ и абсолютным ценностям, ее,страстной жажды самоутверждения, свободы, гармонии, беспредельного развития. С другой стороны, эта возможность оказывается для личности роковой, потому что стремления, Определяющие смысл ее существования, приводят ее в круг трагических противоречий. В современной исторической ситуации высший взлет личности и безысходно трагические коллизии связаны неразрывно. Так получается у Тургенева.
