
Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Ленинградского университета
Монография представляет собой типологическое исследование романов И. С. Тургенева 50-х — начала 60-х годов. Автор по-новому освещает своеобразие поэтики и проблематики романов «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», связывая особенности художественного метода Тургенева-романиста со всей системой социально-философских и историко-фи-' лософских взглядов писателя, тоже освещаемых во многом по-новому.
Книга рассчитана на литературоведов, преподавателей, аспирантов и студентов филологических факуль-.тетов, учителей средней школы и широкий круг читателей, интересующихся историей русской литературы XIX века.
•Рецензенты: проф. Л Л, Бялый, доц. А. Б. Муратов
70202—091 076(02)-75
191~75
Издательство Ленинградского университета, 1975 г.
Введение
Публикуемая работа относится к числу типологических, в ней рассматриваются устойчивые закономерности, характерные для поэтики Тургенева-романиста. Такая задача существенно ограничивает сферу исследования: необходимо рассмотреть определенный «слой» тургеневских романов, выделенный из многообразия их конкретных контекстов. Типологический анализ отодвигает на второй план различия между ними, во многом отвлекаясь от их специфики. Но подобные, издержки оправданы плодотворностью тех перспектив, которые при этом открываются.
Типологический угол зрения позволяет выявить то, что непременно должно учитываться при изучении каждого из романов Тургенева, но что в значительной степени ускользает от анализа, если романы эти рассматриваются по отдельности. Речь идет о внутренней логике образного мышления писателя, о единстве его мировосприятия, т, е., говоря иначе, о краеугольных основах его творчества, определяющих его подход к самым разным жизненным ситуациям и в то же время решение многообразнейших эстетических проблем.
Типологическое исследование . не заменяет конкретного анализа конкретных литературных явлений, однако оно существенно дополняет и —главное — ориентирует его. Если не ясна внутренняя логика творчества писателя, то вряд ли понятен идейный смысл его произведений. Если мы хотим выяснить
своеобразие конкретных поэтических решений, найденных писателем, если мы хотим определить направление его эволюции — понимание единой логики его творчества, обращение к стабильным закономерностям его поэтики также необходимы.
Своеобразным «ядром» комплексов таких закономерностей являются, вне всякого сомнения, принципы изображения человека. В этих принципах непосредственно воплощается авторская концепция сущности человека, его места в мире, его взаимоотношении с разнообразными силами, законами и факторами, действующими в обществе и в природе. Такая концепция во многом определяет структуру любого литературного произведения, но в романе ее первостепенная роль очевидна. Здесь от нее зависит все — тематика и проблематика, характер конфликта, специфика построения сюжета и системы образов, решение проблем художественного пространства и художественного времени. Этим обстоятельством определяется направление исследования: речь пойдет о специфической концепции человека, составляющей основу поэтики тургеневских романов, и о некоторых проявлениях этой концепции в различных аспектах их структуры.
Необходимо сразу же сделать оговорку относительно границ избранной темы. С одной стороны, тургеневеды издавна и с полным основанием настаивают на однотипности четырех первых тургеневских романов, написанных в 50-е и в начале 60-х годов. Типологическая однородность «Рудина», «Дворянского гнезда», «Накануне», «Отцов и детей» убедительно установлена еще в статьях Л. В. Пумпянского.' Дополнительной аргументацией подкрепляют эту точку зрения современные работы.2
'Пумпянский Л, В.: 1) Романы Тургенева и роман «Накануне»: 2) «Отцы » дети> — В кн.: Тургенев И. С. Соч., т. 6. М.—Л., 1930.
2 См. напр.: Батюто Д. И, Структурно-жанровое своеобразие романов Тургенева 50-х — начала 60-к годов. — В кн.: Проблемы реализма русской литерлтуры XIX века. М.—Л.. 1961; а также: Прудков Н. И. Русский рома» 40-х—50-х годов.— В кн.: История русского романа, т. 1. М.—Л., 1962.
С другой стороны, издавна ощущалось и подчеркивалось обособленное положение «Дыма» и «Нови». Их принципиальное отличие от «Рудина», «Дворянского гнезда», «Накануне», «Отцов и детей» бросилось в глаза еще современникам: на это отличие указывали Н. Н. Страхов в своей известной статье «Последние произведения Тургенева»3 и П. В. Анненков, не раз писавший об этом в своих рецензиях и личных письмах Тургеневу.4 Не отрицал этого различия и сам Тургенев, сообщавший Е. В. Авдееву о «Дыме»: «Написано в новом для меня роде».5
Многократно отмечалось это отличие и советскими литературоведами. Одни, например Л. В. Пумпянский, видели в переходе к новой манере распад самой жанровой структуры тургеневского романа.6 Другие усматривали в появлении «третьей манеры» Тургенева отрадный и плодотворный сдвиг, существенно расширивший границы его художественного мышления.7 Третьи (и таких абсолютное большинство) отмечали сложность и противоречивость той эволюции, которую претерпела тургеневская поэтика.8
Рассмотрение этого спорного вопроса не входит
3 «Заря», 1871. кн. 2, отд. 2. * «Вестник Европы», 1867, кн. 6.
6 «Русская старина». 1902. т. 8, с. 283.
8 См.: Пумпянский Л. В.: I) «Дым». Историко-литературный очерк; 2) «Новь». Историко-литературный оч.ерк. — В кн.: Тургенев И. С. Соч., т. 9. М.—Л., 1930.
7 Эта точка зрения развита в кн.: Петров С. М. И.С.Тур генев. Творческий путь. М., 1961,—В. Г. Одинокое усматривает в «Дыме» и «Нови» поиски «выхода из одиночества и разъедине ния с миром», «движение к мысли народной», завоевание эпи ческой концепции жизни (Од иноков В. Г. Проблемы поэтики и типологии русского романа XIX в. Новосибирск, 1971, с. 21—22).
8 См.: Бялый Г. А.: 1)' «Дым> в ряду романов Тургене ва. — Вести. Ленинтр. ун-та, 1947, № 8; 2) От «Дыма» к «Но ви»:— Учен. зап. Ленннгр. гос. лед. ин-та, фак. рус. яз. и лит., 1956, т. 8, вып. 5; Цейтлин А. Г. Мастерство Тургенева-рома ниста. М., 1958; Малахов С. А. Последние романы Тургене ва.—В кн.: История русского романа, т. 2. М. —Л., 1964; Муратов А. Б. И. С. Тургенев после «Отцов и детей» (60-а годы). Л., 1972.
в круг задач публикуемой работы. Здесь важно отметить то, на чем сходятся почти все современные исследователи творчества Тургенева. А сходятся они на том, что после «Отцов и детей» оформляется новый тип тургеневского романа, основанный на несвойственных ему прежде структурных законах. Единодушие исследователей в этом вопросе дает нам право принять одобренный ими тезис за исходную посылку. Ограничимся описанием принципов изображения человека в первых четырех романах Тургенева, рассматривая эти четыре романа как некое типологическое единство. В дальнейшем речь пойдет именно и только о них: там, где не будут сделаны специальные уточнения, понятия «тургеневский роман» или «романы Тургенева» будут употребляться лишь в ограниченном смысле — применительно к романам, написанным в 50-х — начале 60-х годов.
Еще одна оговорка — относительно порядка рассмотрения темы. Наиболее полным и непосредственным воплощением тургеневской концепции человека оказывается, естественно, система образов тургеневского романа, система воссозданных в нем характеров и закономерностей их взаимодействия с обстоятельствами. Характеристике этих важнейших компонентов тургеневской поэтики посвящена большая часть работы. Однако представляется необходимым предпослать ей рассмотрение некоторых законов сюжетно-ком позиционного построения романов Тургенева.
Решение сюжетно-композиционных проблем определяет тот круг возможностей, внутри которого реально осуществляется авторская концепция изображаемого. Законами построения романа обозна-.чаются общие контуры этой концепции, а главное—ее «границы», мера того, что для нее допустимо или, напротив, исключено. Именно поэтому целесообразно начать с описания того, как организовано изображение человека в романах Тургенева. Это описание составит содержание первой главы.
РАВНОВЕСИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
1
Композиционная организация литературного произведения может определяться разными факторами. В их взаимодействии, естественно, выделяется наиболее важный, в каждом жанре особый. В эпической прозе наиболее важен «статус» повествующего лица, определяющий его положение в системе повествования. Здесь очень многое зависит от того, насколько причастно (или непричастно) повествующее лицо к сюжетно-образному миру «своего» рассказа. Не менее существенна определенность (или неопределенность) образа этого, лица.
Каков же субъект повествования в первых четырех романах Тургенева? Мы замечаем, что повествователь здесь не принимает ни одну их тех ролей, которые могли бы как-то связать его с миром персонажей. Это не участник и не очевидец изображаемых событий. Его невозможно рассматривать и как лицо, узнавшее об этих событиях из какого-то конкретного источника. Осведомленность повествователя здесь вообще не мотивируется. И вопрос о ее происхождении не встает.
Повествователь открыто рекомендуется писателем, предлагающим читателю собственное сочинение. Он может даже прямо назвать себя «автором» (комментируя разговор Базарова и Одинцовой в XXV главе романа «Отцы и дети»). Правда, это редчайший, едва ли не единственный случай во всех четырех романах, о которых идет речь. Но повествователь здесь многократно обозначает свое «авторское» положение иным образом —через различного рода обращения к читателю.
Чаще всего они служат формулами перехода от повествования о текущих событиях к характеристике-или предыстории отдельного персонажа {см., например, IV и X2CXV главы романа «Дворянское гнездо», X главу романа «Накануне», I и VI главы романа «Отцы и дети»). Другая функция этих обращений — обоснование перехода от развязки к эпилогу (см. XXXV главу романа «Накануне» или XXVIII главу романа «Отцы и дети»). В некоторых случаях обращение к читателю оправдывает повторение («Анна Васильевна любила сидеть дома, как уже известно читателю,»—8, 68).]
Но как бы ни различались конкретные функции подобных обращений, в каждом романе Тургенева все они дружно напоминают об одном — о внесюжет-ном положении повествователя, обозначая в определенные моменты почти физически ощутимую дистанцию между повествователем и персонажами. В такие моменты повествователь оказывается по другую сторону «рамки» —границы, отделяющей мир действи-. тельный от мира изображаемого. И эта очевидная принадлежность к совершенно разным категориям реальности бесповоротно отделяет повествователя и персонажей друг от друга.
Конечно, констатация «авторского» положения повествователя — позиция в достаточной мере условная. В достаточной мере условен и сам абстрактный предполагаемый читатель, к которому обращается повествователь. Композиционные функции всех таких обращений превращают этого предполагаемого читателя в один из конструктивных факторов повествования. Но в то же время каждый реальный читатель может отождествлять себя с объектом таких обращений, может воспринять такие обращения как адресованные ему. Для этого имеются'основания. В романах Тургенева обращения к читателю, как правило, не
1 Все цитаты из произведений Тургенева приводятся по изданию: Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем. Соч., т. 1—35. Письма, т. 1—13. М. — Л., 1960—1968 (П. —означает «Письма»).
8
демонстративны, они диктуются необходимостью, поэтому их можно воспринимать как естественные и вполне серьезные. А это значит, что серьезно обозначена та дистанция, которая отделяет повествователя от сюжетного мира произведения: повествователь оказывается в одном измерении с читателем и принципиально отличается от персонажей.
Несоизмеримость и несоотносимость повествователя с «внутренним*» миром его рассказа определяет главные специфические черты этого образа. В романах Тургенева 50-х — начала 60-х годов повествователь не сообщает о себе никаких биографических сведений. Даже знаменитый лирический монолог о «несказанной прелести» Венеции (в XXXIII главе романа «Накануне») не содержит в себе ни одной реминисценции, которая была бы явно автобиографической.
В сущности, у повествователя нет и характера, индивидуального психологического облика, причем дело тут, конечно, не в отсутствии автохарактеристик. Психологический облик повествователя может быть конкретизирован иначе — самим содержанием и складом 'его речи. И материал для такой конкретизации в тургеневских романах есть. В определенные моменты повествование здесь получает эмоционально-оценочную окраску — элегическую, патетическую, ироническую и др. А подобная окраска неизбежно придает повествованию субъективный колорит и личный тон. Однако проявления этого личного тона никак не индивидуализированы.
Повествователь может, например, сказать так: «Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто. в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уголок... И да поможет господь всем бесприютным скитальцам!» (6, 368). Это прямое и открытое выражение личной взволнованности, личного чувства. Но в этом личном чувстве есть некая общеобязательность, причем довольно ясная, определяющая даже форму его выражения. Каждый должен испытать такое же, если представит себе эту осеннюю ночь и бес-
приютного скитальца, затерянного во мраке. В этом повествователь уверен, из этого он исходит. И примерно так же обстоит дело в других ситуациях того же рода. Всякий раз эмоции повествователя слишком универсальны, чтобы создать представление о какой-то вполне определенной, неповторимой личности.
В тургеневских романах немало прямых высказываний повествователя, имеющих мировоззренческий смысл. Повествователь может заметить, как бы мимоходом: «Нигде время так не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей» (8, 224). Может в одной фразе открыть читателю тайну творческого акта, состоящую, на его взгляд, в том, чтобы отбросить «все постороннее, все ненужное» и найти себя (8, 154).
Однако природа таких высказываний тоже своеобразна. Суждения повествователя могут быть глубокими, точными, остроумными, но при всем том они лишены индивидуальной психологической характерности— такой, какую обычно имеют суждения тургеневских персонажей. К тому же исходящие от повествователя формулы и сентенции не складываются в обозримую, очевидную для читателя «систему». Конечно, общий —оппозиционный, прогрессивный, гуманистический — колорит этих суждений обозначен четко. Но это именно общий колорит, самый общий колорит и только. Его недостаточно- для индивидуализации высказываемых идей и для того, чтобы через них обрисовался характер высказывающего их человека. В результате суждения повествователя так же мало позволяют представить его определенной личностью, как и проявления его эмоционально-субъективного тона.
Одним словом, перед нами образ, лишенный конкретных индивидуальных очертаний и совершенно не нуждающийся в них. Внесюжетное положение повествователя, его принципиальная отделенность от мира персонажей снимают необходимость конкретизации его образа. Повествователь — вне сферы действия законов, требующих «достоверности» и «характерности». Его можно воспринимать просто как носителя
Ю
речи, о котором ничего не нужно знать и которого не нужно представлять себе конкретным живым человеком.
При -таких условиях повествователь свободен от любых заранее заданных ограничений. Ему не нужно соизмерять степень своей осведомленности с возмож-ностяш вполне определенного лица или согласовывать оценку и понимание изображаемого с намеченными в тексте особенностями «его» биографии или психологии. Для повествователя допустима любая исходная позиция — от абсолютного всеведения до протокольной регистрации только видимого и осязаемого. Он может воздержаться от прямой оценки воссозданных им явлений и может дать ее в самой резкой и откровенной форме. Неопределенность повествователя делает проницаемой ту смысловую гра-'ницу, которая отделяет его от реального автора; подлинные взгляды автора могут выразиться в позиции повествователя целиком и без помех. Иначе говоря, собственный статус повествователя таков, что развязывает ему руки в любом отношении. Посмотрим же, как пользуется тургеневский повествователь этой изначально принадлежащей ему свободой.
В разных ситуациях позиция повествователя оказывается различной. Возможно, например, такое сочетание исходных установок. В диалогической сцене IV главы романа «Накануне» повествователь строго придерживается позиции постороннего наблюдателя. Рассказывая о разговоре Елены с Берсеневым, разговоре, в который несколько раз вмешивается Шубин, повествователь ведет речь только о том, что можно увидеть или услышать. О сопутствующих разговору переживаниях действующих лиц необходимо догадываться по их словам, поступкам, мимике и жестикуляции. Повествователь все это фиксирует и дальше констатации фактов не идет. Но вот в конце той же главы, перейдя к повествовательному рассказу (речь идет о прогулке Елены и Берсенева по саду и продолжении их
И
разговора), он вдруг прямо, без каких-либо оправдательных ссылок {типа «видимо», «казалось» и т. п.) заговаривает о том, что недоступно объективному наблюдению. Повествователь позволяет себе открыть читателю {пусть не «докапываясь» до сути) внутреннее состояние героини: «Душа ее раскрывалась и что-то нежное, справедливое, хорошее не то вливалось в ее сердце, не то вырастало в нем» {8, 26). Вводя в VI главе обобщенную характеристику Елены, повествователь уже без всяких ограничений проникает в самые основы ее психологии. И смысл их в основном сразу же проясняется для читателя. Казалось бы, с этого момента мысли и чувства героини всегда будут открываться нам сразу и прямо. Однако в' IX главе перед нами опять диалогическая сцена {воссоздающая разговор Елены и Шубина) и опять повествователь фиксирует "лишь видимое извне, не позволяя себе ничего большего.
Такое соотношение позиций достаточно характерно для романов Тургенева. Конечно, здесь вполне возможны {и даже нередки) диалогические сцены, где повествователь прямо проникает во внутреннее состояние их участников. Примером может служить хотя бы сцена из X главы романа «Накануне», где иногда приоткрываются мысли и ощущения. Берсенева, не выразившиеся ни в каких внешних проявлениях. С другой стороны, возможны (хотя и значительно более редки) относительно законченные отрезки повествовательного рассказа, в пределах которых строго выдерживается позиция наблюдения. Таков, например, рассказ, обрамляющий сцену столкновения Инсарова с пьяным немцем, в XV главе. Наконец, возможна обобщенная характеристика, состоящая из одних только фактических сведений о персонаже, без попыток проникнуть в его внутреннюю жизнь. Такова в том же романе характеристика Увара Ивановича Стахова {гл. VIII).
Однако все эти вполне допустимые варианты не отменяют доминирующей тенденции. Доминирующая тенденция состоит в том, что в романах Тургенева для построения диалогической сцены наиболее естест-
12
венна позиция внешнего наблюдения {или достаточно высокая степень приближения к ней).
А приближение к позиции внешнего наблюдения затрудняет прямое проникновение в переживания персонажей. Легко заметить, что в диалогических сценах_ романов Тургенева оно значительно реже и значительно поверхностнее, чем в повествовательном рассказе или обобщенных характеристиках. Действуют здесь и менее заметные ограничения прямого психологического анализа.
Повествователю «легче» всего в таких ситуациях, когда «открыт» лишь один из участников сцены, остальные же показаны извне. Иначе обстоит дело в сценах, где необходимо раскрыть переживания нескольких персонажей. Разница еще невелика, если это переживания совершенно {или хотя бы в основном) одинаковые: такова, например, ситуация в сцене первого появления Рудина в «салоне» Ласунской {6, 262, 264). Однако положение существенно усложняется, когда переживания различных участников сцены не совпадают. Тогда для перехода от переживаний одного к переживаниям другого требуются особые условия (исключения, разумеется, можно найти, но они лишь оттеняют это правило). В одних случаях на помощь должен прийти композиционный «стык», обозначенный появлением нового лица.' Так, в сцене, живописующей «завоевание» дома Калити-ных женой Лаврецкого, первоначально открыты только ощущения и мысли хозяйки .дома, лишь появление Лизы позволяет повествователю приоткрыть ощущения Варвары Павловны (7, 254—259). В других случаях характеристика несовпадающих переживаний нескольких персонажей должна сконцентрироваться в относительно обособленной повествовательной вставке, композиционно выделенной как формой, так и тоном изложения. Примером может служить сцена любовного объяснения Елены и Инсарова в заброшенной часовне (8, 93—94). В некоторых случаях переход может состояться и без этих «лодспорий», но тогда для него необходим хотя бы временной интервал (не слишком короткий и заклю-
13
чающий в себе какую-то перемену ситуации).. Так строится-сцена свидания тех же героев на квартире Инсарова, сцена, где ракурс восприятия происходящего сначала приближен к ощущениям Инсарова, ожидающего Елену, а затем удаляется от героя, позволяя в решающий момент приобщиться к ощущениям героини (8, 126—131). Так строятся и другие сцены того же типа.
Затрудненность анализа, одновременно проникающего в переживания нескольких лиц, обязательная связь такого анализа с определенным кругом композиционных приемов ощутимо ограничивают возможности повествователя внутри тургеневской диалогической сцены. Но вот перед нами ситуация, когда диалогическая сцена по существу перестает быть диалогической. Все знакомые нам ограничения при этом сразу же теряют силу. «Скоро появилась сама Одинцова в простом утреннем платье. Она казалась еще моложе при свете весеннего солнца. Аркадий представил ей Базарова и с тайным удивлением заметил, что он как будто сконфузился, между тем как Одинцова оставалась совершенно спокойною, по-вчерашнему. Базаров сам почувствовал, что сконфузился, и ему стало досадно. «Вот тебе раз! Бабы испугался!—подумал он и, развалясь в кресле не хуже Сит-никова, заговорил преувеличенно развязно, а Одинцова не спускала с него своих ясных глаз... Одинцова сидела, прислонясь к спинке кресел, и, положив руку на руку, слушала Базарова. Он говорил, против обыкновения, довольно много и явно старался занять свою собеседницу, что опять удивило Аркадия. Он не 'мог решить, достигал ли Базаров своей цели. По лицу Анны Сергеевны трудно было догадаться, какие она испытывала впечатления: оно сохраняло одно и то же выражение, приветливое, тонкое; ее прекрасные глаза светились вниманием, но вниманием безмятежным. Ломание Базарова в первые минуты' посещения подействовало на нее, как дурной запах или резкий звук; но она тотчас же поняла, что он чувствует смущение, и это ей даже польстило. Одно пошлое ее отталкивало, а в пошлости никто не упрекнул бы
14
Базарова. Аркадию пришлось в тот день не переставать удивляться. Он ожидал, что Базаров заговорит с Одинцовой, как с женщиной умною, о своих убеждениях и воззрениях: она же сама изъявила желание послушать человека, «который имеет смелость ничему не верить», но вместо того, Базаров- толковал о медицине, о гомеопатии, о ботанике» (8, 269—271).
Перед нами переживания разных персонажей. Это переживания совершенно несходные. Но прямая характеристика этих переживаний не доставляет повествователю никаких затруднений. Не прибегая к композиционным разграничениям и не выдерживая интервалов, он прямо, легко и свободно переходит от ощущений одного к ощущениям другого, снова возвращается к ощущениям первого, чтобы затем проникнуть в переживания третьего лица, и, наконец, словно замыкая круг, еще раз открыть читателю то, что чувствует первый. Между прочим, мы сразу узнаем, что переживают в один и тот же момент три разных человека: как смущается и удивляется своему смущению Базаров, как пытается он переломить себя, как в те же самые мгновения недоумевает Аркадий, как неприятно поражена и тут же польщена Одинцова и т. д. И сочетание этих разнонаправленных проникновений так непринужденно, что переходы почти незаметны.
Что произошло? Просто в сцене исчез диалог, т. е. 'исчез обмен репликами (заменившись кратким изложением содержания разговора), сопутствующие диалогу ремарки «сдвинулись», и диалогическая сцена превратилась в повествовательный рассказ. Подобные превращения у Тургенева нередки. И каждый раз исчезновение диалога заметно облегчает композиционные переходы, позволяющие широко развернуть прямой психологический анализ. Эта тенденция отчетливо сказывается даже в моменты относительного приближения диалогической сцены к повествовательному рассказу. Уже одно только выборочное воспроизведение реплик диалога (как, .например, в сценах споров Лаврецкого с Михалевичем и с Паншиным в романе «Дворянское гнездо») ощутимо облегчает одно-
15

временное проникновение в переживания разных персонажей.
Непринужденность прямого психологического анализа усиливается в других формах повествовательного рассказа, среди которых интересны две разновидности рассказа-обзора. Одна из них — обзор перемен в жизни и отношениях персонажей, совершившихся за более или менее длительный срок —за несколько дней, недель, месяцев, а в эпилогах— даже за несколько лет. Другая — характеристика поведения и душевных состояний персонажей внутри неопределенно короткого отрезка времени. Обе разновидности (будем именовать их впредь долгосрочными и краткосрочными обзорами) типичны для тургеневских романов 50-х — начала 60-х годов.
В тех и других обзорах возможно непринужденное проникновение в несовпадающие (и притом одновременные) переживания разных персонажей. Но обращает на себя внимание одна особенность этого проникновения, характерная для краткосрочных обзоров.
«Базаров ушел, а Аркадием овладело радостное чувство. Сладко засыпать в родимом доме, -на знакомой постеле, под одеялом, над которым трудились любимые руки, быть может, руки нянюшки, те ласковые, добрые и неутомимые руки. Аркадий вспомнил Егоровну, и вздохнул, и пожелал ей царствия небесного... О себе он не молился.
И он и Базаров заснули скоро, но другие лица в доме долго еще не спали. Возвращение сына взволновало Николая Петровича. Он лег в постель, но не загасил свечки и, подперши рукою голову, думал долгие думы. Брат его сидел далеко за полночь в своем кабинете, на широком гамбсовом кресле, перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Павел Петрович не разделся, только китайские красные туфли без задников сменили на его ногах лаковые полусапожки... Он глядел пристально в камин, где, то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя... Бог знает, где бродили его мысли, но не в одном только прошедшем бродили они: выражение его
16
лица было сосредоточенно и угрюмо, чего не бывает, когда человек занят одними воспоминаниями. А в маленькой задней комнатке, на большом сундуке, сидела в голубой душегрейке и с наброшенным белым платком на темных волосах, молодая женщина, Фе-нечка, и то прислушивалась, то дремала, то посматривала на растворенную дверь, из-за которой виднелась детская кроватка и слышалось робкое дыхание спящего ребенка» (8, 210—211).
Состояние Аркадия охарактеризовано достаточно внятно, повествователь даже позволяет себе приобщиться к этому состоянию. О состоянии Николая Петровича говорится прямо, но в несколько неопределенной форме. О переживаниях Павла Петровича повествователь лишь догадывается, да и то косвенным образом, «от противного». Наконец, Фенечка показана с позиции чисто регистрационного описания.
Проникновение в душевные состояния персонажей здесь уже явно (и существенно) неравномерное. И неравномерность эта вполне объяснима. В предшествующих главах Аркадий был «открыт» чаще, чем какой-либо другой персонаж, и повествователь проникал в смысл его переживаний глубже, чем в смысл переживаний кого-либо другого. Состояния Аркадия каждый раз характеризовались вполне определенно, так что не оставалось никаких неясностей. Поэтому в обзоре оказывается правомерной такая же «открытость» персонажа и такая же определенность характеристики его состояния. Николай Петрович в предшествующих главах тоже несколько раз оказывался «открытым», но в характеристиках его переживаний присутствовал элемент некоторой загадочности (8, 204). Видимо, оттого и нет определенности в сообщении о его «долгих думах», вызванных приездом сына. Павел Петрович до этого момента был показан только извне — отсюда, как видно, сдержанность его характеристики в обзоре. Наконец, Фенечка до интересующего нас обзора по существу вообще не была показана читателю (читатель лишь знает о ее существовании из диалога отца и сына Кирсановых, да мельком успевает заметить неизвест-
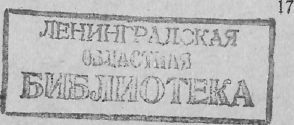
467465
ное ему молодое женское лицо, показавшееся из-за двери в момент приезда Аркадия и Базарова). Не потому ли повествователь не идет в этом случае дальше самой беглой внешней зарисовки?
Варианты подобной неравномерности могут быть различными, но общий ее закон достаточно отчетлив: если степень «открытости» персонажей так или иначе колеблется, то степень эта существенно зависит от «освещенности» каждого из них в предшествующих стадиях повествования. В этом отношении краткосрочные обзоры близки к диалогическим сценам, где, как легко убедиться, действует та же закономерность.
В долгосрочном обзоре зависимость «открытости» персонажей от их предшествующей «освещенности» проявляется намного слабее и может вовсе отсутствовать. Остановимся, для примера, хотя бы на рассказе о первых двух неделях пребывания Базарова и Аркадия Кирсанова в доме Анны Сергеевны Одинцовой (8, 284—288). Опять-таки повествователь здесь без малейших затруднений проникает в одновременные, но совершенно разные переживания нескольких лиц. Переходы от переживаний одного к переживаниям другого опять-таки чрезвычайно легки и определяются только движением мысли самого повествователя. В то же время глубина психологического анализа здесь уже не зависит от степени «открытости» или «закрытости» персонажа до обзора.
До обзора, который мы рассматриваем, переживания Базарова почти никогда не раскрывались прямо (можно насчитать лишь три-четыре минимальные психологические «ремарки» повествователя). И вдруг мы проникаем в глубину душевного состояния героя, причем глубина проникновения почти сразу же достигает максимального предела: открывается главная тайна Базарова — «романтическая» природа его чувства к Одинцовой. Резко возрастает и углубленность анализа переживаний Кати, до обзора характеризовавшихся лишь в самых общих чертах.
При этом повествователь сразу же проникает не только за барьер видимого, но и за границы доступ-
18
ного пониманию самих персонажей. Базаров не понимает, отчего ему так легко живется в доме Анны Сергеевны. Анна Сергеевна не понимает, почему ее так взволновало известие о предполагаемом отъезде Базарова. Катя не совсем понимает, чего ищет Аркадий в ее обществе. Аркадий не смеет осознать свою любовь к природе и свой интерес к «пустякам», которые занимают Катю'. А вот повествователь все это пони мает с достаточной для него ясностью и считает воз можным все это объяснить читателю.
Отмеченные тенденции могут и не проявиться столь очевидно, однако в романах Тургенева они дей ствуют повсюду. Долгосрочные повествовательные обзоры оказываются «зоной» резкого возрастания композиционной свободы. И прежде всего «зоной» резкого расширения возможностей психологического ана лиза.
Нет нужды задерживаться на специальном рассмотрении возможностей, открываемых обобщенно» характеристикой персонажа. Прямое проникновение в его психологию именно здесь зачастую оказывается наиболее глубоким. Чтобы в этом убедиться, можно сравнить толь'ко что рассмотренный обзор, в той части, которая посвящена Одинцовой, с обобщенной характеристикой той же Одинцовой в XVI главе романа. Разумеется, в некоторых случаях «перевес» окажется на стороне динамического повествования. Но, как правило, в пределах обобщенной характеристики прямой психологический анализ все-таки глубже и свободнее, чем в пределах почти любого относительно замкнутого отрезка повествовательного рассказа.
В обобщенных характеристиках углубленность и распространенность психологического анализа еще меньше, чем в рассказе-обзоре, зависят от степени «открытости» персонажей в предшествующих главах. Обобщенная характеристика персонажа обычно вводится у Тургенева в начальной стадии рассказа о нем, когда знакомство читателя с персонажем еще главным образом внешнее и довольно поверхностное. Но это не мешает повествователю сразу же проникнуть в коренные особенности психологии этого персонажа
19
и добраться до некоторых конечных мотивов его поведения.
Как видим, речь идет о вполне определенной закономерности, характерной для всех романов Тургенева 50-х — начала 60-х годов. Исходные позиции изображения, наиболее типичные' для диалогической сцены, повествовательного рассказа и обобщенной характеристики, по некоторым существенным признакам отличаются здесь друг от друга. Главное из таких отличий — это совершенно разная степень интенсивности и свободы прямого психологического анализа. В конечном счете это разная степень правомерности такого анализа, степень, которая колеблется в зависимости от того, какая из только что названных композиционных форм2 избрана повествователем.
Однако при всем том переход от позиции к позиции не требует у Тургенева никаких специальных мотивировок. И сама неодинаковость этих позиций воспринимается как нечто вполне естественное. В чем тут дело? Можно заметить, что изменение установки при переходах от одной композиционной формы к другой связано с определенным «сопутствующим» обстоятельством. Речь идет об изменении отсчета художественного времени, который совершенно различен в диалогической сцене, в повествовательном рассказе и в обобщенной характеристике персонажа.
Диалогическая сцена строится, если так можно выразиться, в сиюминутном временном «масштабе». Главным «носителем» этого «масштаба» оказывается диалог. Темп диалога равен темпу реального протекания событий: воспроизведение диалога длится при-
2 Это понятие не претендует на значение термина. Оно вводится как обобщенное определение, позволяющее обойтись (в случае нужды) без конкретного перечня таких явлений, как повествование, описание, характеристика, диалогическая сцена, монолог, письмо персонажа, лирическое отступление повествователя и т. п.
20
мерно столько же времени, сколько реально воспринималась бы соответствующая житейская сцена. Кроме того, реплики диалога неизбежно воспринимаются читателем как -звучащие «сейчас», именно «сию минуту». Это относится и к ремаркам повествователя, указывающим на действие или внутренние состояния участников диалога.
В повествовательном рассказе иной темп движения времени, а иногда—совсем иной характер этого движения. В . краткосрочном рассказе-обзоре речь идет о действиях и состояниях неопределенной длительности, не приуроченных к какому-то фиксированному мгновению. Тем более нет конкретных моментов в обзорах долгосрочных: здесь все -представлено в обобщенном временном «масштабе», во многом просто снимающем разграниченность и локализацию охваченных обзором единиц времени. Если в подобном обзоре и появляется единичный факт, то сообщение о нем входит как типичный, «показательный» пример, подтверждающий или предваряющий какой-либо общий тезис. Иначе говоря, ничто здесь не размыкает принятой установки, приближающей обзор к категориям «нравоописательного времени».3
В обобщенной характеристике временной «масштаб» отличается от сиюминутного еще более существенно. Если рассказы-обзоры преодолевают разграниченность только малых единиц времени, растворяя их в единстве временного отрезка большей или неопределенной протяженности, то обобщенная характеристика в сущности вообще не прикреплена к какому-либо из таких отрезков. Введение обобщенной характеристики персонажа означает остановку, своеобразное «выключение» времени действия. И тут уже категории «нравоописательного времени» полностью осуществляют свои права. В обобщенной психологической характеристике тургеневского -персонажа речь идет о свойствах, постоянно присущих его характеру,
3 Характеристику этой формы художественного времени см.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967, с. 312—319.
21

о постоянно повторяющихся проявлениях этих свойств в его поведении, иными словами, о явлениях, существующих как бы «над» движущимся временем, «над» локальными и конкретными его отрезками. И опять-таки единичный факт входит в эту сферу обобщений под знаком его типической «показательности».
Если даже обобщенная характеристика персонажа переплетается с его предысторией (как характеристика Павла Петровича Кирсанова в том же романе «Отцы и дети», как характеристика Елены Стаховой в романе «Накануне», как характеристики Лизы Ка-литиной, Паншина, Лемма в романе «Дворянское гнездо», как характеристика Пигасова в романе «Ру-дин»), то эта последняя во многом подчиняется типизирующей установке первой. «Нравоописательный» временной «масштаб» торжествует и здесь, и торжествует почти безусловно.4
Такое различие форм «повествовательного времени» {термин В. В. Виноградова) во многом объясняет тот факт, что охарактеризованное выше различие позиций представляется читателю естественным. В этом соотношении установок обнаруживается логика обычного житейского восприятия человека человеком. Наблюдая другого человека в какой-то конкретный момент со стороны, мы обычно чувствуем себя вправе лишь догадываться о том, что в нем происходит. В такой ситуации наши суждения могут претендовать на безоговорочность лишь в той мере, в какой они фиксируют видимое и явное. Больший срок наблюдения дает основание для суждений более уверенных и далеко идущих. Дает уже потому, что больший срок доставляет нам больший материал для выводов и оценок. «Я достаточно давно его знаю», — вот едва ли не самый употребительный аргумент в тех случаях, когда требуется обосновать право одного человека судить о другом. И уж конечно еще более
4 Этот «масштаб» преодолевается лишь в той мере, в какой «показательные» примеры создают зримые образы событий. Зримый образ всегда выходит за пределы типизирующей установки изображения и создает ощущение конкретной протяженности происходящего во времени.
22
уверенными и далеко идущими оказываются наши выводы, обоснованные наблюдением над всей жизнью этого человека.
Такая логика как раз и определяет в романах Тургенева сущность любой из позиций повествователя по отношению к персонажам. По своей сухи это всегда позиция «другой» единичной личности, способной понять (и понимающей) данную единичную личность в пределах обычных житейских возможностей. И поскольку эта «другая» личность никак не конкретизирована, пределы ее возможностей достаточно универсальны.
Разумеется, все это помножено на разницу между наблюдательностью житейской и наблюдательностью художественной, но житейские возможности приняты здесь за основу. Сталкиваясь с конкретной сиюминутной ситуацией, повествователь оказывается в положении наблюдателя, имеющего право только констатировать видимое и угадывать, что за ним кроется. В повествовательном рассказе (в обзоре особенно) он уже получает право говорить тоном человека, успевшего post factum во всем разобраться. Это право на уверенность и далеко идущие выводы о внутренней жизни персонажей. Такое право обеспечивается и временной протяженностью повествовательных обзоров, и ретроспективной позицией повествователя, и обобщенностью действующего здесь отсчета времени (о чем шла речь выше). В обобщенной характеристике подобные же основания позволяют повествователю говорить о персонаже на правах, аналогичных правам давнего знакомца, имевшего возможность наблюдать этого человека на протяжении всей его жизни, предшествующей событиям рассказа. Или, во всяком случае, достаточно долго для того, чтобы получить основание судить об устойчивых свойствах его характера и постоянно действующих мотивах его поведения.
Таким образом, позиции, которые на первый взгляд выглядят различными, по существу оказываются лишь естественными модификациями одной и той же позиции повествователя, модификациями единой внут-
23
ренней логики изображения человека, конкретно — модификациями позиции и логики лица, оценивающего и понимающего персонажей романа на уровне возможностей, подобных возможностям каждого из них. Превосходство повествователя над персонажами обеспечивается только его освобождающей неопределенностью и еще больше — его внесюжетным положением: оно дает повествователю право на свободу перемещений в художественном пространстве и в художественном времени романа, на свободный выбор ракурса восприятия в каждый момент повествования, наконец, на ретроспективное (речь ведь идет о прошлом) знание всех фактических «обстоятельств дела». С технической стороны ничем не ограниченный, ничем заранее не связанный, повествователь пользуется своей свободой с неожиданной умеренностью. Он ограничивает себя сам и очень существенно, устанавливая чисто смысловое обоснование норм дозволенного и недозволенного.5
Принятая повествователем установка не осуществляется с абсолютной строгостью. При последовательном ее осуществлении сиюминутные психологические объяснения правомерны лишь в форме догадки. Между тем во многих диалогических сценах романов Тургенева мы обнаруживаем объяснения сиюминутные, но при этом безоговорочные. Принцип, казалось бы, нарушен, однако при внимательном рассмотрении нарушение оказывается чисто внешним.
Отсутствие оговорок изменяет формальный статус психологического объяснения, но в сущности не уве-
5 Связь с обычными возможностями «другого» человека — источник специфической убедительности объяснений повествователя. Г. А. Бялый справедливо замечает, что, за исключением некоторых необходимых условностей (вроде способности повествователя «видеть» то, при чем он не присутствовал), «все остальное в тургеневском психологическом анализе как бы поддается проверке». —См.: Бялый Г. А. Тургенев и русский реализм. М. — Л., 1962, с. 89.
24
личивает его глубину и не отрывает его от обычных в подобных случаях фактических оснований.
Варианты объяснений такого рода могут быть различными. В одном случае основание для безоговорочной психологической «ремарки» дают смежные с ней реплики диалога (напр.: 6, 282; 7, 146, 236). В другом таким основанием оказывается поступок персонажа, имеющий какой-то вполне очевидный смысл (7, 197, 259). В третьем случае основанием могут служить мимика или жестикуляция изображаемого человека, выдающие его внутреннее состояние (6, 308; 7, 136, 260; 8, 111). Наконец, возможны случаи, когда нет ни того, ни другого, ни третьего, но когда сама ситуация, возникшая в движении диалогической сцены, делает внутреннюю реакцию персонажа самоочевидной (6, 281, 324; 7, 283; 8, 42, 65).
Во всех этих случаях перед нами то, о чем в принципе догадался бы каждый. Поэтому догадка свободно может присвоить себе права подлинного знания.
Иногда в диалогических сценах встречаются и более глубокие безоговорочные объяснения, проникающие за пределы того, о чем позволяют судить сиюминутные фактические основания. Но в подобных случаях объяснение, как правило, подготовлено предшествующим накоплением фактических данных и тем самым оправдано. Опять-таки действует логика позиции, основанной на обычных возможностях и обычных правах «другого» человека.
Такая позиция оказывается вездесущей. Она наиболее органична для тургеневского повествователя, и он почти неизменно верен ее внутренней логике, принимая все вытекающие из нее ограничения.
Их-то и следует рассмотреть особо. Избранная повествователем позиция не только изменяет его права при переходах от одной композиционной формы к другой, но и обязывает к общему ограничению возможностей прямого объяснения и прямой оценки персонажей.
Специфику психологических объяснений тургеневского повествователя наглядно показывает следующий пример. Речь идет об Анне Сергеевне Одинцо-
i
25
вой: «Она до обеда не показывалась и все ходила взад и вперед по своей комнате, заложив руки назад, изредка останавливаясь то перед окном, то перед зеркалом, и медленно проводила платком по шее, на которой ей все чудилось горячее пятно. Она спрашивала себя, что заставляло ее «добиваться», по выражению Базарова, его откровенности, и не подозревала ли она чего-нибудь... «Я виновата, — промолвила она вслух,—но я это не могла предвидеть». Она задумывалась и краснела, вспоминая почти зверское лицо Базарова, когда он бросился к ней...
«Или?» — произнесла она вдруг, и остановилась, и тряхнула кудрями... Она увидела себя в зеркале; ее назад закинутая голова с таинственною улыбкой на полузакрытых, полураскрытых глазах и губах, казалось, говорила ей в этот миг что-то такое, от чего она сама смутилась...
«Нет,-—решила она, наконец, — бог знает, куда бы это повело, этим нельзя шутить, спокойствие все-таки лучше всего на свете».
Ее спокойствие не было потрясено; но она опечалилась и даже всплакнула раз, сама не зная отчего, только не от нанесенного оскорбления. Она не чувствовала себя оскорбленною: она скорее чувствовала себя виноватою. Под влиянием различных смутных чувств, сознания уходящей жизни, желания новизны она заставила себя дойти до известной черты, заставила себя заглянуть за нее — и увидела за ней даже не бездну, а пустоту... или безобразие» (8, 299— 300).
Действие законов повествовательного рассказа дает повествователю право на прямое и безоговорочное проникновение в переживания героини. И он ^исполь-зует это право. Однако между героиней и повествователем все время сохраняется дистанция. В определенный момент анализа намечается оттенок приближения к ее точке зрения, но это именно оттенок, не больше. Повествователь вне того, что переживает Одинцова. Поэтому он словно не может начать свой рассказ о переживаниях героини прямо с объяснения этих переживаний. Он должен сначала опереться на
26
данные внешнего наблюдения, которые свидетельствуют о том, что Одинцова взволнованно вспоминает случившееся, пытаясь понять себя, Базарова, и вообще всю создавшуюся ситуацию. Уже после этого становится возможным проникновение в ее воспоминания и размышления, направление которых угадать нетрудно. Затем следуют новые наблюдения и новое проникновение в состояние героини. Опора на фактические данные необходима повествователю все время.
Таков общий закон тургеневского психологического анализа: этот закон действует не только в диалогической сцене, но и в любых формах повествовательного рассказа (включая долгосрочные обзоры), а также в обобщенных характеристиках, всегда включающих фактические сведения о биографии или, во всяком случае, о поведении персонажа. Прямой психологический анализ либо входит как объяснение фактического материала, доставляемого наблюдением, либо подтверждается, иллюстрируется, конкретизируется материалом подобного рода. Всем этим обозначен ясный предел принципиальных возможностей прямого анализа. Исходящие от повествователя психологические объяснения не могут уходить слишком далеко от внешних проявлений душевной жизни персонажен и никогда не могут полностью оторваться от связи с позицией объективного наблюдения.
Очевидно и другое существенное ограничение — в некоторых случаях оно подчеркивается специально. Вот, например, характеристика переживаний Николая Петровича Кирсанова: «Сердце его забилось... Представилась ли ему в это мгновение неизбежная странность будущих отношений между им и сыном, сознавал ли он, что едва ли не большее бы уважение оказал бы ему Аркадий, если б он вовсе не касался этого дела, упрекал ли он самого себя в слабости — сказать трудно; все эти чувства были в нем, но в виде ощущений—и то неясных» (8, 214). Неясное для самого персонажа признается неясным и для повествователя: если персонажу трудно определить природу своих ощущений, то повествователь чувствует себя обязанным остановиться в таком же затруднении. Может
27
быть, наиболее отчетливо (хотя и не без шутливого оттенка) формулируется эта установка в «ремарке», прерывающей диалог Базарова и Одинцовой в XXV главе того же романа: «Так выражалась Анна Сергеевна, и так выражался Базаров; они оба думали, что говорили правду. Была ли правда, полная правда, в их словах? Они сами этого не знали, а автор и подавно» (8, 372).
Граница рационального самопонимания персонажа оказывается тем пределом, дальше которого объяснения повествователя, в принципе, не должны углубляться. При этом «точкой отсчета» служат возможности сознания, не склонного к напряженной интроспекции и рефлексии — эти свойства чужды любому из персонажей первых четырех романов Тургенева. Рефлексия, в смысле психологического, а не нравственно-философского самоанализа, не свойственна даже Рудину, в этом его отличие от Чулкатурина или Гамлета Щигровского уезда.6
Таковы исходные позиции изображения человека, принятые в первых четырех романах Тургенева. Открытые ими перспективы естественно суммируются и соединяются в целостную систему, законами и возможностями которой определяются права повествователя на объяснение внутренней жизни персонажей. Ограниченность этих прав ясна. Но важно установить, в каком направлении действуют ограничения и каков объективный результат их действия.
Объяснение Рудина с Натальей у Авдюхина пруда оказывается своеобразным испытанием, определя-
6 Разумеется, и непременная связь психологического анализа с данными объективного наблюдения, и ограничение глубины этого анализа пределами самосознания персонажей осложняются у Тургенева исключениями. Некоторые их разновидности повторяются устойчиво (т. е. в известном смысле тоже являются нормой). К сожалению, в рамках публикуемой работы нет возможности рассмотреть этот интересный аспект поэтики Тургенева.
28
ющим оценку героя. Но ситуация такова, что оценка здесь просто невозможна без проникновения в переживания Рудина, без расшифровки их смысла. Сцене предшествует психологический комментарий повествователя. Повествователь дает понять, что чувство Рудина к Наталье — не любовь. Он приоткрывает в то же время противоречивость душевного состояния героя и объясняет ее ссылкой на универсальный закон: «Никто так легко не увлекается, как бесстрастные люди» (6, 321).7
Много ли проясняет эта формула в конкретной ситуации, с которой мы сталкиваемся? Ясно, что увлечение Рудина — чувство искреннее, по-своему естественное, но вместе с тем неполноценное в самой своей основе. Ясно, что все это связано с какой-то чисто человеческой ущербностью Рудина. Но, собственно, это и все, что нам ясно. И все, что мы поняли, превращает чувство Рудина в загадку, которую необходимо разгадать. Необходимость эта тем более настоятельна, что общая человеческая ущербность Рудина тоже не может остаться необъясненной.
Исследователи давно и справедливо подметили в первом романе Тургенева черты схематизма.8 Однако черты эти все-таки не помешали «Рудину» быть произведением искусства. В той мере, в какой это справедливо, образ главного героя не сводится к сумме разнородных черт и в принципе не может к ней сво-
7 Ссылки на универсальные законы человеческой природы, напоминания о существовании таких законов — важная особенность романов Тургенева. Принципиальное значение этой особенности раскрыто еще в работе В. М. Фишера «Повесть и роман у Тургенева» (в кн.: Творчество Тургенева. М., 1920, с. 34—35). Функции подобных ссылок многообразны. Довольно часто они служат своеобразным комментарием к психологическим объяснениям, не выходящим за пределы обычной нормы. Но они же оказываются убедительным обоснованием для внезапных превышений этой нормы, обоснованием права повествователя понимать переживания персонажа глубже, чем он сам их понимает, и одновременно — обоснованием права выйти за пределы фактических данных, на которых фиксируется или раньше фиксировалось внимание повествователя.
н Схематичность построения романа «Рудин» отмечена еще М, К. Клеманом в его книге «И. С. Тургенев» (Л., 1936, с. 83).
29
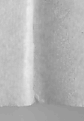
![]()
д/
BJ
Р
не наделен никакими сверхъестественными свойствами. Он исходит из чисто человеческой меры понимания жизни и людей, открыто опирается на свой человеческий опыт и может соизмерять диапазон своей осведомленности с естественной ограниченностью отдельного человеческого сознания. Как и в романах Тургенева, повествователь может оказываться в поло-женин постороннего наблюдателя, который не имеет права знать наверняка, что думают или чувствуют персонажи в данный момент действия. А превышение этих возможностей в обобщенных характеристиках тех же персонажей, как и у Тургенева, может быть оправдано подобием обычны-х прав «давнего знакомца». Наконец, в романах Толстого немало самых различных ситуаций, когда повествователь уравнивается в правах с действующими лицами, когда связывающие их ограничения распространяются и на него.9
Словом, проницательность и осведомленность повествователя и здесь могут упираться в уже знакомые нам пределы. Но секрет толстовской манеры в том, что пределы эти необязательны, и повествователь всегда обладает правом с ними не считаться. В частности, он совершенно свободно проникает в любое сиюминутное переживание персонажа, докапываясь до глубинных первоисточников этого переживания и предельно проясняя его природу.
Механизм «глубинного» толстовского анализа основан на психологическом отождествлении повествователя с персонажем. Так обстоит дело во множестве тех случаев, когда повествователь как бы исчезает и повествование ведется с субъективной точки зрения одного из действующих лиц. Та же закономерность действует и в ситуациях, когда повествователь анализирует внутреннюю жизнь персонажей от своего лица. Повествователь исходит при этом из собственного опыта, откровенно проецируя его на изображаемого человека. Иными словами, судит о персонаже по ана-у
-
с. 146.
См.: Успенский Б. А. Поэтика композиции. М., 1970, ,
логии с самим собой, как бы ставя себя на его место.10
Приближение к подобной позиции возможно и в романах Тургенева: она может наметиться здесь даже в диалогической сцене. В сцене такого типа11 пространственная позиция повествователя максимально приближается к ракурсу зрения одного из ее участников. Эта установка ставит действующих лиц в неравное положение, которое сказывается и на характере их психологической обрисовки. Персонаж, чье положение в пространстве определяет зрительную «перспективу» построения сцены, оказывается ее единственным участником, иногда освещаемым «изнутри». В некоторых ситуациях читателю могут прямо открываться его мысли, чувства и побуждения, тогда как остальные участники той же сцены показываются только «извне», через их слова и поступки. И как ни редки моменты такого освещения персонажа, как ни ограничена в эти моменты глубина проникновения «вовнутрь», они все же придают изображению определенный «крен» в сторону «открытого» участника сцены, в сторону его субъективного восприятия.
Такие же принципы и способы приближения к «внутренней» точке зрения персонажа можно заметить и в повествовательном рассказе. Но в особых композиционных условиях повествовательного рассказа такое приближение способно обернуться полным психологическим отождествлением повествователя с действующим лицом. Моменты подобного отождествления можно заметить в романе «Дворянское гнездо», в рассказах повествователя о переломных ситуациях в жизни Лаврецкого (гл. XVIII, XX, XXXI, XXXIV, XXXVI, XLIV, эпилог). Они не раз встречаются и в романе «Накануне», в рассказах о переживаниях Бер-
10 О значении этого принципа в эстетике Толстого см.: Купреянова Е Н. Эстетика Л- Н. Толстого. М.—Л., 1966, с. 118.
11 См., напр.: 6, 281—283, 290—291; 7, 196—197, 218—222, 236—237; 8, 27—31, 36—39, 45—48, 50-^53, 64—68, 98—101, 256— 264, 265—269, 302—304, 318—321, 373—380 и др.
33
2 99
![]()
![]()
![]()
![]()
Все это ситуации контактов индивидуального сознания с самим движением Времени, с основами стихийной жизни национального или космического, целого, с таинственным воздействием Судьбы на ход отдельной человеческой жизни. Это ситуация приобщения души к «мистериальным» тайнам Любви, Красоты и Творчества. Словом, это ситуации, в которых индивидуальное сознание, отдельная человеческая душа причащаются к сфере универсального и вечного. Именно таков смысл тех переживаний Рудина, Лав-рецкого, Елены, Инсарова, Берсенева, Базарова, Аркадия и Николая Петровича Кирсановых, в которые вовлекаются повествователь и читатель.
В ситуациях отождествления с точками зрения персонажей- действуют некоторые сходные закономерности. Максимальное сближение персонажа и повествователя выражается прежде всего в обнажении скрытых переживаний изображаемого человека. Все, что находится и происходит вне сферы переживаний персонажа, воссоздается в неразрывной связи с этими переживаниями и предстает как их .источник, проявление или проекция. В таких ситуациях легче всего и свободнее всего входит в строй повествования внутренняя речь действующих лиц, а ее воздействие на характер повествования оказывается наиболее активным и глубоким.
34
Как видим, для тургеневского повествователя отождествление с персонажем в принципе допустимо. Однако реализуется эта возможность чрезвычайно редко. В частности, у Тургенева очень редки ситуации, в которых ракурс повествования полностью сливается с ракурсом восприятия одного из героев.
Чаще всего сближение ракурсов так или иначе прерывается. Стоит диалогической сцене или повествовательному рассказу получить ощутимый «крен» в сторону «внутренней» точки зрения одного из персонажей, как тем или иным образом дает о себе знать противоположная тенденция. Может измениться пространственная перспектива изображения: «открытый» персонаж, чей угол зрения был исходным, вдруг оказывается увиденным «со стороны» (так строится, например, сцена вечернего свидания Рудина с Натальей в гл. VII романа «Рудин»—6, 311—312). На какой-то момент повествователь может вообще освободиться от пространственной прикрепленности к «открытому» персонажу и последовать за другим действующим лицом, не сообразуясь с пределами восприятия первого (такое смещение пространственной перспективы происходит, скажем, в сцене утреннего свидания Рудина с Натальей у Авдюхина пруда —б, 320—326). Возможен и такой вариант: повествователь, сопутствовавший до того «открытому» персонажу, попадает вместе с ним в определенную точку пространства, но остается там и после его ухода (так движется перспектива в сцене внезапной встречи Лаврецкогосего ж^ной, которую он считал умершей, или в сцене первого появления Берсенева на квартире Инсарова — 7, 246 и 8, 39). Наконец, в диалогической сцене или в повествовательном рассказе приближение к точке зрения персонажа может быть прервано внезапным обозначением дистанции, отделяющей от него повествователя. Это может быть сделано по-разному: сокращенным изложением монологов или диалогов персонажей (вспомним хотя бы изложение речи Рудина о «позоре малодушия и лени» или изложение споров Лаврецкого с Михалевичем и с Паншиным—6, 283; 7, 201—204, 231—232), объективным комментарием,
ЗГ>
резко расширяющим смысловую перспективу изображения (ср. рассказ о размышлениях Аркадия Кирсанова на пути в родительский дом-—8, 205), наконец, введением элементов «рассеянной» характеристики действующего лица (примером может служить рассказ о переживаниях Берсенева, вернувшегося домой после разговора с Еленой о своей будущей деятельности— 8, 31).
Отождествление точек зрения повествователя и персонажа не доводится до конца и во всех видах статических описаний (портретов, пейзажей, интерьеров). Это относится даже к тем из них, которые как будто целиком включены в субъективные кругозоры действующих лиц. Описания такого рода почти всегда превышают возможности соответствующего-конкретного восприятия. В них почти всегда ощутим тот или иной «избыток» —точности или детализации,, аналитизма или фактической осведомленности — «избыток», не вполне оправданный состоянием персонажа в данный момент или даже общими законами его сознания. Если же подобный «избыток» все-таки отсутствует в момент описания, его отсутствие каким-нибудь образом компенсируется в дальнейшем. Такая закономерность проявляется прежде всего в портретных описаниях. В тех немногих случаях, когда портреты действующих лиц даются в субъективном преломлении, оно непременно уравновешивается и как бы корректируется позднейшим описанием от лица повествователя. Так строится, скажем, портрет Лизы Калитиной в романе «Дворянское гнездо» (7, 184 и 243).
В первых романах Тургенева субъективные кругозоры персонажей почти всегда разомкнуты объективными «вкраплениями» (термин С. Е. Шаталова), ограниченность «внутренних» точек зрения восполнена тем или иным объективным «избытком», а субъективная деформация воссоздаваемых картин практически исключена. Обычно здесь нет никакой ощутимой разницы между субъективными восприятиями персонажей и восприятием повествователя, данным как объективное и безусловно достоверное. Повество-
36
ватель и персонажи могут по-разному толковать происходящее. Но видят и ощущают они как будто бы совершенно одинаково. Причина очевидна: субъективным восприятиям позволено развернуться лишь в той мере, в какой они не расходятся с объективным взглядом постороннего наблюдателя.
В романах Толстого картина прямо противоположная: доверие к субъективным восприятиям без гранично и безусловно. Исследователи по праву говорят о законе, согласно которому в образный мир Толстого любое явление может войти лишь как воспринятое кем-то. «Нет -и не может быть изложения, рассказа о чем-нибудь как бы „вообще", ни с чьей точки зрения; а есть то-то и так-то сейчас, сквозь это сознание».12 Это сказано о трилогии Толстого. Несказанное может быть отнесено к «Войне и миру» или к «Анне Карениной». Закон субъективных преломлений повествования действует и здесь, приводя в конечном счете к тому, что вокруг чуть ли не каждого из героев образуется свой неповторимый «мир».13
Основания этого безоглядного доверия к восприятиям персонажей в сущности просты, но в простоте своей совершенно необычны (во всяком случае на фоне романного искусства середины XIX века, за исключением, может быть, только романов Достоевского). В-художественном сознании Толстого объективный мир, воспринимаемый по-разному отдельными, людьми, не существует независимо от этих несовпадающих индивидуальных восприятий, независимо от активного взаимодействия с внутренними «мирами» отдельных человеческих «я». С одной стороны, «душевные состояния... людей...«включают» в себя, «перерабатывают» в себе все, что совершается вокруг, по-своему формируют из всего этого многообразия
12 Билинкис Я. С. У начал нового художественного со знания. — «Вопросы литературы», 1966, № 4, с. 69.
13 Чуковский К- Толстой как художественный гений. — Ежемесячные литературные и научно-популярные приложения К журналу «Нива» на 1908 год, т. 3, с. 77.
37
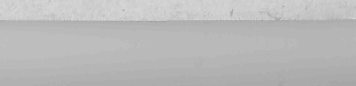
собственное внутреннее движение».14 С .другой стороны, именно из этих индивидуально-психических величин образуется, по Толстому, «макрокосмос жизни общественно-исторической, ее активное, движущее начало».15 Говоря иначе, мир человека и мир вокруг него не являются для Толстого раздельными величинами. Отсюда постоянная, неразрывная слитность субъективного и объективного в эстетической реальности его романов.
В романах Тургенева все говорит о принципиальном «недоверии» к субъективным восприятиям персонажей, поэтому так редки ситуации психологического отождествления с ними. Утрата положения объективного наблюдателя — неизбежная плата за такое отождествление. И повествователь в тургеневском романе явно не согласен ее платить; в этом причина его постоянной сдержанности.
Все отмеченные выше тенденции по существу сводятся к одной. Тургенев стремится отделить действительное положение вещей от многообразия несходных восприятий персонажей. Его цель — построить объективную картину, независимую от каких-либо субъективных подходов и преломлений. Очевидно, субъективное и объективное для Тургенева существенно различны и, во всяком случае, представляются величинами, поддающимися разделению и противопоставлению. При этом общезначимая истина, истина, доступная восприятию и пониманию каждого, представляется внесубъективной, надындивидуальной. Статус повествователя и его собственной точки зрения не позволяет в этом сомневаться: достоверным предстает лишь то, что воспринято сознанием, лишенным каких-либо индивидуальных черт. С другой стороны, оставляя тайну индивидуальности персонажа за границей объяснений, максимально затрудняя приобщение к внутренним точкам зрения изображаемых людей, Тургенев буквально вынуждает читателя
14 Б и л и н к и с Я- С. Новаторство Л, Н. Толстого в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Л., 1973, с. 40. is v «»*••.
15 Купреянова Е. Н. Указ, соч., с. 191—192.
воспринимать субъективно-личные правды героев как лежащие вне общей для всех истины. Выходы За пределы этой антиномии, как мы убедились, есть, однако они возможны лишь в исключительных ситуациях.
Разделенностью субъективно-личного и объективно-истинного предопределен у Тургенева особый характер отношений «повествователь — герой — читатель», всегда чрезвычайно важных для композиции романа. Специфика романного жанра резче всего выражается в относительной автономии героя, в его отдельном и как бы независимом от повествователя способе существования. В общем строе выражения авторской художественной мысли герою принадлежит особая «партия», возможность прямого воздействия на читателя. И каждая такая «партия» не просто суммируется с «партией» повествователя, с системой .его объяснений, оценок, сентенций, отступлений, но вступает с ней в сложные, подвижные, часто противоречивые отношения. От их специфики больше всего зависит характер «партии» героя, характер ее воздействия на читательское сознание.
У каждого из крупных русских романистов —особая структура подобных отношений. В романах Толстого повествователь проявляет максимальную активность, обнажая сокровенное, проникая в глубины душевной жизни героя. Но именно благодаря этому исчезает психологическая дистанция между повествователем и героем, и происходит их отождествление. Во многих ситуациях «партия» повествователя может полностью утрачивать самостоятельное значение. По-. вествование, формально оставаясь рассказом о герое, фактически ведется с его точки зрения — так, «как будто бы рассказчика и нет вовсе».16 Разумеется, для Толстого "не менее типичны такие ситуации, когда дистанция между повествователем и героем сохраня-
Успенский Б. А. Указ, соч., с. 146.
38
39
ется, когда повествователь подвергает переживания героя беспощадному аналитическому расчленению, когда, наконец, он комментирует и оценивает эти переживания с объективной позиции. Но неподобных случаях граница между изображаемым и изображающим оказывается проницаемой. Иногда вторжение комментария во внутренний монолог героя превращает последний в своеобразный диалог между героем и повествователем.17 Но чаще происходит другое. В какие-то моменты речь повествователя ощутимо вбирает в себя фразеологию и экспрессию речи героя. А вместе с ее экспрессивно-стилевой стихией в текст повествователя входит точка зрения героя, входят категории его мышления, его чувства, его субъективная оценка переживаемого. Точки зрения повествователя и героя совмещаются, часто в пределах одних и тех же мельчайших единиц художественной речи. В такие моменты уже невозможно отделить анализирующего от переживающего.
И тогда неизбежно вступает в силу естественное следствие подобного совмещения. Читательское восприятие частично подчиняется логике и критериям самосознания героя, приобщается к внутренней атмосфере его душевных состояний. Иначе говоря, в каких-то аспектах повествователь и читатель обычно равны у Толстого его героям, вместе с ними переживая, осознавая, оценивая все происходящее в его романах. Так, максимальная активизация «партии» повествователя оборачивается максимальной активизацией «партий» героев и, значит, максимальным усилением их прямого воздействия на читателя.
Совсем иная диалектика отношений между повествователем, героем и читателем в романах Достоевского 60—70-х годов. Статус повествователя здесь бывает различным. Повествователь может принять роль хроникера-очевидца с заранее ограниченными правами («Бесы»). Он может избрать позицию, близкую к позиции наблюдателя, но в то же время спо-
17 См.: Бабаев Э. Г. Роман Льва-Толстого «Анна Каренина». Тула, 1968, с. ПО.
40
собную легко выходить за пределы заданных ею ограничений («Идиот», «Братья Карамазовы»). В «Преступлении и наказании» оказывается возможной позиция незримого и вездесущего автора, обладающего беспредельно широким знанием «внешнего» и «внутреннего», стоящего над героями в качестве демиурга созданного им художественного мира.18
Различна и степень публицистической активности повествователя, параллельной «партиям» основных героев. Подобная активность может даже возрастать по мере удаления от позиции всезнающего автора-демиурга.19 Однако при любом статусе субъекта повествования, при любой степени его «сепаратной» идеологической активности очевидна специфичность его прав на объяснение и оценку действующих лиц.20
Специфика его позиции в неслыханной независимости «партий» основных героев. «Все то, что обычно служит автору для создания твердого и устойчивого образа героя — „кто он"- —у Достоевского становится объектом рефлексии героя, предметом его самосознания».21 К тому же герой Достоевского стремится предвосхитить все возможные определения своей личности извне, с каких-либо объективных по отношению к ней позиций. И не только предвосхищает их, но всегда-—мыслью, чувствами и делом —полемизирует с ними.22 Поэтому герой не равен любым завершающим определениям и не может быть предметом объективного объяснения и оценки обычного типа.
Невозможно у Достоевского' и далеко идущее слияни'е повествователя с героем. Такое слияние разрушило бы ту специфическую форму автономии последнего, которая превращает его сознание в «чужое-
1Э См. • Туниманов В. А. Рассказчик в «Бесах» Достоев ского.—В кн.: Исследования по поэтике и стилистике. Л., 1972 с. 101—104.
19 Там же, с. 106, ПО.
20 См.: Чирков Н. М. О стиле Достоевского. М„ 1964. с. 50—67.
21 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 2-е. М., 1963, с. 63.
22 Там же, с. 79.
41
![]()
диалогически».23
Установка на всепроникающую диалогизацию отношений «повествователь — герой — читатель^ требует огромной и напряженной авторской. активности. Однако эта активность в основном осуществляется помимо «партии» повествователя. Прежде всего она проявляется в создании особой художественной атмосферы," провоцирующей и стимулирующей диалогическое самораскрытие героев.24 Главная роль в организации такой атмосферы принадлежит структурному принципу мировоззренческого спора, определяющему основу построения романов Достоевского. События, взаимоотношения действующих лиц, сюжетные ситуации лишь подготавливают предпосылки спора. Его создает и организует единство нравственно-философской проблематики романа, проводимой по многим и разным «голосам».25
Таким образом, резкое ослабление зависимости героя от повествователя открывает простор для диалогической активизации «партии» героя. В конечном счете этот путь тоже ведет (хотя и на особый лад) к максимальному усилению ее воздействия на читательское сознание. Читатель превращается в соучастника непрестанного диалога, который герой ведет с другими и с самим собой. Это именно диалогическое соучастие: отождествление с героем и беспристрастно-объективный взгляд на него затруднены и для
23 Там же, с. 538.
и Там же, с. 93.
25 Мы не касаемся здесь спорного вопроса о значении объективной логики развития сюжета, о драматическом испытании идей в романах Достоевского. Действие этого фактора не совпадает с «партией» повествователя и в конечном счете не устраняет диалогических взаимоотношений повествователя, героя и читателя.
42
читателя, притом затруднены почти в одинаковой мере. Моменты отождествления читателя с героем здесь вполне допустимы. Но такие моменты лишь поддерживают диалогизм их отношений, делая невозможным внутренее отмежевание читателя от идущего в романе спора. -С другой стороны, нацеленность героя на полемику с любым чужим сознанием не позволяет отождествлению зайти сколько-нибудь далеко, рождая напряженность читательского отношения к героям Достоевского. Это реакция человека, живо задетого .чем-то таким, что имеет прямое отношение к его внутреннему опыту. Но вместе с тем источник такого воздействия воспринимается как внешний, а само оно — как покушение на человеческое спокойствие, как вызов воспринимающему. И уклониться от вызова практически невозможно: герой держит читателя в неослабевающем диалогическом напряжении.
Получается, что разные пути ведут к близким целям. И Достоевский, и Толстой стремятся довести до максимального предела интенсивность и действенность прямого контакта между героем и читателем. А вот Тургеневу чужды оба направления, ведущие к активизации «партии» героя. В атмосфере противопоставления общей истины и субъективных правд сдержанность повествователя подчинена иным задачам. «Партия» героя и здесь получает относительную независимость, эта независимость ощутимо выражается в ограниченности диапазона объективных объяснений, в сдержанности оценок, в существовании принципиальных умолчаний и частичных недомолвок, не допускающих расшифровки многих душевных движений героя.26 Ограничение «партии» повествователя и здесь освобождает поле действия для внесубъект-ной авторской активности, и она широко развертывается в романах Тургенева. Но скрытая авторская активность не становится здесь фактором, стимулирующим диалогические или взаимно сопричастные
26 О значении умолчаний в тургеневском повествовании см.: Батюто А. И. Тургенев-романист. Л., 1972, с. 200—203.
43
![]()
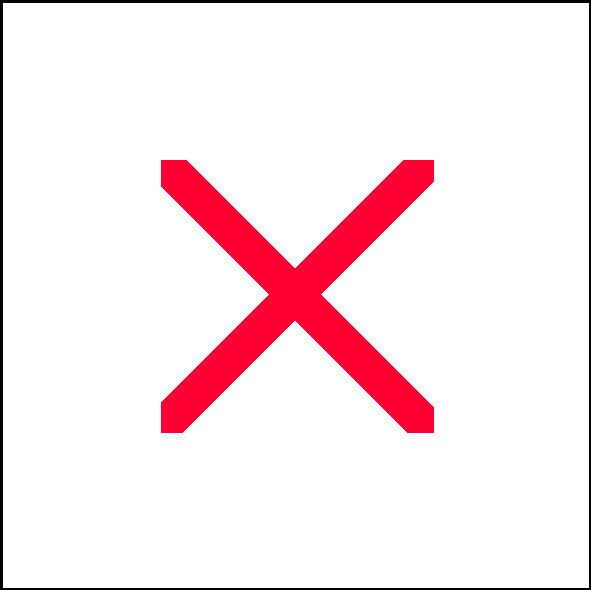 отношения
между героем, повествователем и
читателем.
отношения
между героем, повествователем и
читателем.
И7Овсянико-Куликовскнй Д. Н. Этюды о творчестве И. С. Тургенева. Харьков, 1896, с. 225.
Разделенность субъективного и объективного исключает такие отношения. Пробелы, оставленные объяснениями повествователя, заполняются не самосознанием героев (оно —вне общезначимой истины), а всецело объективным материалом их сюжетных действий, высказываний и связей. И .каждый раз формируется твердый образ героя, входящий в сознание читателя как данность. В конце концов становится возможным завершающее объективное мнение о представшем перед нами человеке, сложное и диалектически противоречивое, но определенное, устойчивое и ясное. Внутренний контакт с героем при этом не возникает. Напротив, такой способ понимания изображаемого создает ощутимую дистанцию между повествователем и героем, между героем и читателем. В свое время Д. Н. Овсянико-Куликовский проницательно отметил оттенок отчужденности, временами непременно возникающий в отношении читателя к Лизе Калитиной. Исследователь связывал этот оттенок не только с нравственным содержанием позиции героини, на его взгляд, недосягаемо высоким для рядового человека. Не меньшее значение придавалось способу построения образа, избранному Тургеневым. «В Лизе он скуп на анализ, на пояснения больше, чем где-либо. В смысле мастерства, смелости, уверенности, ловкости и силы в преодолении трудностей образ Лизы от этого только выигрывает: это одно из самых совершенных созданий -искусства. Но в смысле доступности образа пониманию читателя, в смысле его близости уму и сердцу последнего, он, несомненно, „теряет"».27 Можно было бы прибавить, что замена анализа рисунком увеличивает не только выразительность, но и психологическую глубину образа Лизы. Смысл ее переживаний оказывается для нас бесконечным и неисчерпаемым именно вследствие этой замены. Однако в главном Овсянико-Куликовский
был прав. Более того, сказанное им о Лизе отражает общий закон поэтики Тургенева, наиболее явно,действующий в построении центральных образов тургеневских романов.
Рудин и Базаров, Лиза и даже Елена — все они поначалу отдалены от нас своей загадочностью. В дальнейшем, по мере развития сюжета, их главные тайны раскрываются, недоговоренность восполняется, однако «далекость» их образов так и не исчезает. Образ всякий раз продолжает существовать как бы отдельно от достигнутого нами понимания, обладая по отношению к нему самостоятельностью внешнего факта. Расшифровка не объясненного повествователем часто очень легка, но необходимость догадываться о самом главном по намекам и косвенным данным устойчиво сохраняет дистанцию. Поэтому героев Тургенева трудно воспринять как интимно близких нам. Мы лишены возможности почувствовать совпадение их переживаний с тем, что переживаем сами. Понимание родства между их и нашим душевным опытом иной раз даже приходит. Но приходит не как непосредственное ощущение, а как рациональный вывод или как догадка, предполагающая в качестве предпосылки какое-то аналитическое усилие.
Не меняет существа дела и лирический контакт читателя с героями, возникающий в отдельных сюжетных ситуациях. Такой контакт не идет, дальше легкого эмоционального соприкосновения. А оно создает особую атмосферу, зыбкую, способную мгновенно рассеяться и потому обязывающую к осторожности и сдержанности. Словом, моменты эмоционального сближения повествователя, героя и читателя скорее препятствуют погружению в глубины изображаемого, чем ведут к такой цели.
Тургеневские герои для читателя всегда на дистанции, всегда вне .его собственного мира — удивительные, иногда вызывающие преклонение (и даже подражание), но всегда хотя бы отчасти чужие и чуждые. Выходит, что ограничение прав и возможностей повествователя приводят у Тургенева к необычному для русского романа художественному эффекту: обузды-
45
вая себя, повествователь тем самым обуздывает и героя. Вернее, происходит взаимообуздание двух разделенных и противопоставленных величин. И таким образом достигается их равновесие, а в конечном счете, их художественное единство..
7
Показательно, что такое же взаимообуздание противоположностей отчетливо проявляется и в сюжетном строении тургеневских романов. Здесь тоже легко обнаружить полярные (и в сущности противопоставленные) тенденции, взаимно ограничивающие и тем уравновешивающие друг друга.
Одна из противоположных тенденций выражается в широком использовании обобщенных характеристик персонажей, предшествующих у Тургенева динамическому раскрытию их характеров. В этом сказывается еще одно принципиальное отличие тургеневской поэтики от законов художественной системы Толстого. У Толстого персонаж сразу же ставится в конкретные жизненные ситуации и сразу же втягивается в подвижное взаимодействие с другими. Он раскрывается именно в процессе общения с другими персонажами — в эпизодах, сценах, в «картинах жизни».28 Образ развертывается как бы «сам собой», без прямого вмешательства автора и без каких-либо заметных усилий с его стороны. Сразу же создается полная иллюзия непроизвольного хода жизни, за который повествователь не отвечает. Аналитическая и оценочная активность повествователя может простираться как угодно далеко, но движения сюжета она не касается. Движение сюжета как бы предшествует этой активности, поставляя необходимый для нее материал.
Поэтому персонаж Толстого почти всегда предстает перед читателем в каких-то конкретных проявлениях: перед нами его единичное переживание, действие, устремление, какой-нибудь момент его взаимо-
28 См.: Билинкис Я. С. Картины жизни и история. — «Вопросы литературы». 1964, № 5, с. 117—118.
46
отношений с другими людьми. По той же причине толстовский персонаж всегда подвижен, изменчив, текуч. Конечно, его текучесть имеет предел. Л. Я. Гинзбург справедливо напоминает о том, что «Толстой мыслил не только процессами, но и свойствами... В персонаж как бы заложена схема... скрытая индивидуальным наполнением». Но при этом справедливо подчеркивается и другое: «Толстой, пользуясь схемой, одновременно ее оспаривает».29 Устойчивость и текучесть изображаемого сочетаются у Толстого неразрывно, из их ежеминутной соотнесенности рождаются характеры персонажей.
Совсем иначе строятся образы персонажей Тургене^ ва. Обычно после самой минимальной подготовки30 вводится прямая описательная характеристика изображаемого человека:-Иногда персонаж даже не успевает стать действующим лицом в точном смысле этого слова, а такая характеристика ему уже дана. Повествователь статично и обобщенно описывает его внешность, поведение, психологию, образ жизни, бытовое окружение и т. п. Часто при этом сжато рассказывается его предыстория.
Стоит обратить внимание на некоторые особенности таких характеристик. Прежде всего они вводятся «Произвольно», не в соответствии с логикой саморазвития действия, а по усмотрению повествователя. Другой мотировки нет, отсюда необходимость его прямых обращений к читателю, о которых говорилось в начале главы. Отдельные слагаемые характеристики вводятся и группируются столь же «произвольно»: повествователь может дать их все вместе {характеристика Елены Стаховой), может и разделить повествовательными или событийными интервалами (характеристика Одинцовой дана отдельными частями на протяжении нескольких глав). Характеристика может быть дана в самый момент появления персонажа (так вводятся,
29 Гинзбург Л. О психологической прозе. Л., 1971, с. 319—320.
30 Подробнее об этом см.: Курляндская Г. Б. Художест венный метод Тургенева-романиста, Тула, 1972, с. 259—260.
47
например, характеристики Пандалевского, Басистова, Увара Ивановича Стахова, Марьи Дмитриевны Кали-тиной), но может и предшествовать его появлению (как, например, характеристика Николая Артемьевича Стахова). Наконец, характеристика может быть введена значительно позже, уже в кульминационной стадии развития сюжета (так вводится предыстория-характеристика Лизы Калитиной). И всякий раз выбор варианта ничем, кроме усмотрения повествователя, не мотивирован. От этого зависит и внутреннее строение характеристики, состав и способ сочетания ее слагаемых. Выбор «показательных» эпизодов, переходы от фактов к обобщениям и обратно, общин порядок подачи материала, соотношение частей — все здесь прямо и открыто определяется соображениями повествователя о том, что и в какой степени важно.
Организующее вмешательство повествователя в подобных ситуациях выглядит оправданным: ведь обобщенная характеристика — это всегда в той или иной степени искусственное построение. Она всегда готова рассмотреть и в известных пределах всегда рассматривает характер как сумму черт, безотносительно •к конкретным ситуациям и формам их проявления. В какой-то степени характеристика неизбежно абстрактна: конкретный материал входит в нее уже «усмиренным», в качестве иллюстраций к тезисным определениям. Отчасти это имел в виду Толстой, говоря, что человека описать нельзя. А Тургенев именно описывает: в его романах повествователь «от себя» выделяет, определяет и комбинирует наиболее важные, с его точки зрения, элементы характера персонажа. И все это на правах законченного представления о человеке, как будто речь идет о чем-то окончательно и навсегда сложившемся, о чем-то уже готовом.31
31 Именно к предварительным характеристикам б наибольшей степени применим вывод Б. И. Бурсова, что «Тургенев берет человека как сложившуюся данность».— См.: Бур сов Б. Лев Толстой. Идейнее искания и творческий метод. М., 1961, с. 446.
48
Правда, в составе характеристики часто есть динамический элемент — биография. Однако ее динамика подчиняется структурным законам характеристики и принимает своеобразные формы. Довольно типичен такой вариант, когда в предыстории персонажа событийные сдвиги не оборачиваются психологической динамикой. С внешней стороны жизнь Пандалевского меняется несколько раз: он воспитывается в Белоруссии, «на счет благодетельной и богатой вдовы», устраивается на службу при помощи Другой вдовы, наконец, поселяется в доме Дарьи Михайловны Ласунской «в качестве приемыша или нахлебника». Но характер человека при любых поворотах остается тем же самым: все перемены обеспечены одними и теми же свойствами, причем не обозначено ни становление этих свойств, ни их эволюция. Иной раз эволюция черт характера может быть намечена, но ракурс ее изображения в этих случаях особый. Например, в предыстории Пигасова показано, как формируется, растет и, наконец, принимает почти маниакальную форму его озлобленность «противу всего и всех». Однако динамика характера дана как предпосылка его статического состояния — того, в котором он пребывает сейчас и которое характеризуется как постоянное и неизменное. «Он бранился с утра до вечера, иногда очень метко, иногда, довольно тупо, но всегда с наслаждением... Он доживал свой век одиноко, разъезжая по соседям... и никогда книги в руки не брал» (6, 248—250).
А разве не таков же ракурс, в котором изображается эволюция характера Лизы? Ведь и ее предыстория подводит к описанию стабильного состояния, внутри которого нет как будто бы никаких задатков перемены. «Вся проникнутая чувством долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, с сердцем добрым и кротким, она любила всех и никого в особенности...» (7, 243—244). Итог эволюции характера Лаврецко-го — совсем иное, но тоже стабильное состояние: «Скептицизм, подготовленный опытами жизни, воспитанием, окончательно забрался в его душу. Он стал очень равнодушен ко всему (7, 178). Итог эволюции
49
![]()
характера Елены — состояние напряженно-противоречивое. Это непрестанное чередование душевных гроз и тягостных затиший. Но сама устойчивая повторяемость взлетов и падений говорит об их равновесии, обнаруживая момент неподвижности в бурной динамике психологических переходов. В общем, предыстория обычно нацелена на итог и таким итогом обычно является статическое состояние изображаемого — характера персонажа, механизма его поведения, его взаимоотношений с окружающим миром.
Характеристики и предыстории обозначают комплекс объективных воздействий, участвующих в формировании характера. Обычно выделяются несколько групп воздействующих на личность социальных факторов. Прежде всего это воздействие первоначального воспитания, затем в юности и в ранней молодости— влияние различного рода философских, нравственных, социальных идей, далее — воздействие постоянных условий социального положения и окружения персонажа и, наконец, влияние разиообраз-. ных житейских случайностей. Все эти факторы выступают у Тургенева в ощутимо типичном, легко узнаваемом воплощении, с четкими приметами места и времени. Не менее четко обозначена в пред-ысториях-характеристиках направляющая роль этих факторов в становлении человеческой психо-' логии и поведения. Направляющая роль типических обстоятельств акцентируется не только в характеристиках персонажей уровня Пигасова. В пределах экспозиционного «слоя» тургеневских романов даже исключительность ставится в . зависимость от обстоятельств. Например, внутренняя самостоятельность Лизы и Елены отчетливо связана в их характеристиках с особенностями их воспитания — слабостью нравственного воздействия семьи, равнодушием родителей, ранним вторжением инородных влияний (Агафья, Катя) и т. п.
Другая величина, выделяемая характеристиками как формирующая характер сила, — изначальные свойства натуры персонажа. Об их значении для тургеневской концепции человека — речь впереди. По-
50
ка же важно отметить специфику их обрисовки внутри характеристик.
В отличие от Толстого, не доверявшего любым обобщенным определениям человеческих качеств, Тургенев, как это уже не раз отмечалось, характеризует-свойства своих персонажей, ориентируясь на систему стереотипных обозначений, сложившихся вне искусства. В рамках характеристики стереотипные определения и критерии обычно удовлетворяют писателя. В результате перед нами свойства взаимно отграниченные, тяготеющие к определенным социально-психологическим и моральным рубрикам. Эти свойства легко группируются вокруг единой социально-психологической доминанты и образуют какой-либо одноплановый ряд (так строятся характеристики Пан-далевского, Пигасова, Калитина, Анны Васильевны Стаховой и многих других второстепенных персонажей). Но даже когда скрещиваются несколько таких доминант (так строится, например, характеристика Паншина, сталкивающая комплексы типичных качеств светского человека, чиновника-карьериста и художника-дилетанта), это не меняет сути дела. Из совмещения контрастных формул может возникнуть сложное единство, но это единство сочетания, а не сплава. Разнородные свойства бывают представлены сосуществующими, иногда борющимися, но почти никогда характеристика не раскрывает их' взаимопроникновение, их взаимопереходность.
Можно сказать, что у Тургенева характеристика сводит характер к сумме морально-психологических стереотипов, а их сочетание возводит к влиянию типических обстоятельств среды и эпохи. Говоря иначе, характеристика прежде всего выявляет Типажность персонажа. Л. Я- Гинзбург пишет о стремлении Тургенева-романиста создавать «чистые беспримесные типы».32 Это в первую очередь и в наибольшей степени относится ' к тургеневским характеристикам. В одних случаях перед нами типы уже известные, получившие определенную оценку в общественном со-
Гинзбург Л. Указ, соч., с. 309.
51
![]()
![]()
знании. Таково содержание характеристик Пандалев-ского, Басистова, Пигасова, Дарьи Михайловны Ласунской, Михалевича, Паншина, Варвары Павловны Коробьиной, Берсенева, Шубина, Курнатовского, братьев Кирсановых и многих других. Иногда это типы новые, еще только слагающиеся (или уже сложившиеся, но еще не замеченные) и потому требующие осмысления, поиска типологических формул. Схемы подобных типов обычно намечаются характеристиками главных героев и героинь. Но независимо от этого различия тургеневская характеристика всегда схематизирует, всегда устремлена к идеальной типологической модели. Отсюда жесткость отбора ее слагаемых, ее отчетливая построенность, явная нацеленность действующих в ней внутренних соотнесений. Уникальное содержание индивидуальности неуловимо для тургеневской характеристики; она может лишь подвести к тем границам, за которыми оно находится.
Однако власть подобных принципов простирается лишь до известного предела. Включение характера в динамику сюжетного действия сразу же обнаруживает иные тенденции, противоположные законам обобщенной характеристики. Часто уже сама завязка сюжетной судьбы персонажа несет в себе резкое отклонение от венчающего его характеристику итога. Завязкой оказывается возникновение отношений, ставящих изображаемых людей в нетипичные для них ситуации.33
Вспомним хотя бы завязку «Рудина». В атмосферу обычных житейских разговоров и занятий внезапно вторгается пророк-энтузиаст и возвещает великие истины, придающие каждому мгновению жизни грандиозный метафизический смысл. Появление такого
33 В. М. Фишер показал, как важны нарушения «нормального» хода жизни персонажей для завязок тургеневских повестей (Фишер В. М. Повесть п роман у Тургенева. — В кн.: Творчество Тургенева. М., 1920, с. 14—15). Но.сюжетная структура тургеневских романов осталась за пределами наблюдений исследователя:
52
человека в такой обстановке всех ошеломляет, настолько оно не предусмотрено ее обычными законами. В этой обстановке Рудин все равно что иностранец или взрослый, попавший в компанию детей (оба сравнения прямо даны в тексте). С другой стороны, «биографическая» норма его собственной жизни также резко нарушена его отношениями с Натальей. Рудин оказывается в таком положении, в которое он ни разу в жизни не попадал. «Я первый раз встретился с душой совершенно честной и прямой», — признается он в прощальном письме. Сходная ситуация— в завязке «Дворянского гнезда». Вот ощущения Лизы, впервые заметившей, что ее уже что-то связывает с Лаврецким: «Ей и стыдно было и неловко. Давно ли она познакомилась с ним, с этим человеком, который и в церковь ходит редко и так рав- . нодушно переносит кончину жены, — и вот она уже сообщает ему свои тайны... Правда, он принимает в ней участие; она сама верит ему и чувствует к нему влечение; но все-таки ей стыдно стало, точно чужой вошел в ее девическую, чистую комнату» (7, 224). Опять очевидно нарушение сложившейся нормы, выход из обычной колеи. С другой стороны, любовь Лаврецкого к Лизе нарушает уравновешенно-безотрадный итог его предыстории. Нарушение «биографических» норм образует и завязку «Накануне». Московская барышня влюбляется в болгарского революционера — поворот почти невероятный с точки зрения обычных житейских возможностей. Да и для Инсарова, раз и навсегда решившего, что ему «русской любви не надо», его сближение с Еленой —явная неожиданность. Наконец, в основании сюжета «Отцов и детей» —все тот же ход. Лекарский сын — бедняк, плебей, нигилист — попадает в чуждую ему обстановку барского быта, в атмосферу дворянской культуры. Попадает и безнадежно влюбляется в холодную ари-стократку, дерется на дуэли, страдает от мировой скорби не хуже байроновских героев. А всех окружающих его появление сталкивает с проблемами, .о самом существовании которых они не догадывались прежде. Иными словами, характеры сразу же выво-
53
Проявления отмеченной закономерности (напоминаю, что речь идет о равновесии обузданных противоположностей) легко улавливаются и в других аспектах поэтики Тургенева, например, в организации .взаимодействия различных сюжетных линий.
Обычно линия героя-или героини резко отделяется от всех прочих высотой своего кульминационного взлета. Такие события, как гибель Рудина на баррикаде, уход Лизы в монастырь, отъезд Елены в Болгарию и, наконец, бесстрашная смерть Базарова, по значительности просто несоизмеримы с тем, что происходит в сюжетной «жизни» других персонажей. Отсюда— очевидная иерархия соответствующих линий внутри многосложного единства сюжета. Сюжетные судьбы действующих лиц развертываются у Тургенева как бы на разной высоте, а временами — чуть ли не в разных измерениях. Но этой иерархичности противостоят не'менее очевидные сюжетные параллелизмы, выявляющие в различиях момент неожиданного и часто парадоксального сходства.
Казалось бы, между Базаровым и его антагонистом Павлом Кирсановым не может быть ничего общего. Но история любви Базарова к Одинцовой многими чертами напоминает историю несчастной страсти Павла Петровича.36 Возможен параллелизм несколько иного типа, построенный на менее резком контрасте двух образов и потому выявляющий сходное в различном с меньшей остротой. Но в конечном счете функция параллелизма здесь та же самая, и осуществляется она вполне осязаемо. Таков параллелизм сюжетных линий Базарова и Аркадия Кирсанова, при всей их разности проведенных через ряд одинаковых ситуаций. • Оба безответно влюбляются в одну и ту же женщину, оба в какой-то момент начинают тяготиться атмосферой родного дома и оба (хотя и по разным причинам) на
36 См.: Б ялы и Г. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». М. —Л.. 1963, с. 107.
62
время бегут из нее. Параллелизм есть даже в сценах любовных объяснений Базарова с Анной Сергеевной и Аркадия с Катей. В обоих случаях объяснение прерывается накануне решающего момента, продолжается уже на следующий день и внезапно заканчивается признанием. Параллелизм ситуаций связывает сюжетные линии Рудина и Лежнева: перед нами судьбы двух людей, в юности прошедших через увлечение романтическим идеализмом, а затем, в зрелости, столкнувшихся с несокрушимой силой житейской прозы. Соотнесение обеих линий активизируется в эпилоге, когда бывшие друзья прямо сравнивают свои характеры и жизненные пути.
У Тургенева можно заметить и случаи пародийного параллелизма, когда одна сюжетная линия развертывает комически сниженный вариант другой. В XII главе первого тургеневского романа мы слышим рассказ о том, как в пору своих заграничных странствий Рудин увлекся француженкой-модисткой. И не так уж трудно заметить, что эта смешная история несет черты пародийного сходства с историей отношений Рудина и Натальи Ласунской. Ведь Рудин и Наталья тоже не поняли друг друга, не поняли, что искали в' любви совершенно разнога и в сущности переживали совершенно разные чувства, по недоразумению называя их одним и тем же словом. Есть пародийная перекличка в сюжетных линиях Рудина и Пандалевского: Рудин тоже многократно оказывается в положении приживальщика, хотя и живет на чужой счет «не как проныра, а как ребенок». Подобный же параллелизм — в соотношении линий Лаврецкого и его жёны. На определенном этапе Варвара Павловна разыгрывает пародийный вариант того же жизненного цикла: здесь есть и крах/ и разочарование, и возвращение на родину, и смирение, и даже добровольное затворничество в деревенской глуши. В «Накануне» некоторые звенья сюжетной линии Инсарова пародируются линией Курнатовского, комически дублирующего и роль героя в отношении Елены (Курнатовской тоже ее
63
жених), и проявления его качеств деятельного и непреклонного человека.37
Во всех вариантах важно то, что появляется основание для сравнения неравнозначных судеб. Они оказываются сопоставимыми, и уже это обстоятельство в известной степени уравнивает их. Тем большее значение имеют моменты их сходства, обнаруженные сопоставлениями. Сходство, пусть даже пародийное, заставляет воспринимать исключительные и обыкновенные судьбы как варианты одних и тех же универсальных категорий — человеческой жизни, судьбы личности в современной общественно-исторической ситуации и т, п. Именно так работают сюжетные параллелизмы в тургеневских романах, время от времени напоминая читателю о том, что все различия между «гигантами» и «пигмеями» не мешают тем и другим быть людьми, подвластными общим законам человеческой природы. В том же направлении действуют лирико-философские отступления в эпилогах (например, размышления о подстерегающей каждого человека смерти в последней главе романа «Накануне» или финальный аккорд «Отцов и детей», проникнутый надеждой на разрешение любых человеческих коллизий в бесконечности бытия). Наконец, уравнительные тенденции вносятся в романы и некоторыми ключевыми диалогами действующих лиц, придающими всему, что здесь происходит, общенациональный или даже общечеловеческий масштаб (таковы споры Рудина с Пигасовым, споры Лаврецкого с Лизой Калитиной, Михалевичем, Паншиным, диалог Шубина и Берсенева в I главе романа «Накануне», разговор Шубина с Уваром Ивановичем в XXX главе того же романа, таков знаменитый спор Базарова с Павлом Кирсановым или его же позднейший разговор с Аркадием Кирсановым в XXI главе романа «Отцы и дети»).
Однако любые разновидности сюжетных параллелизмов, философских диалогов и лирических отступлений не отменяют законов иерархического неравенства, 'действующих внутри тургеневского сюжета. Любая форма параллелизма выявляет здесь лишь сходство или одинаковость положений, в которых оказываются разные персонажи. При этом не обнаруживается их духовная общность или психологическое родство их переживаний. На фоне иерархической разности исключительных и обыкновенных судеб сюжетный параллелизм может нести оттенок унижения высокого и исключительного (есть, оказывается, ординарные ситуации, которых никто не минует). Что же касается универсальной проблематики философских диалогов и лирико-философских отступлений, то она скорее проецируется на сюжет, чем живет в его плоти. Эти диалоги и отступления действительно напоминают о единстве человеческой природы. Но характерно, что в тургеневском романе существует необходимость время от времени напоминать об этом.
Можно с полным основанием утверждать, что иерархические и уравнительные тенденции, противостоящие друг другу во взаимодействии сюжетных линий, сосуществуют на основе все того же закона взаимообуздания и сбалансированного равновесия противоположностей. Можно обнаружить и другие проявления того же закона. Пределы публикуемой работы не позволяют проследить их непосредственно, но в этом и пет особой нужды, поскольку универсальность отмеченного закона вполне очевидна. Взаимообуздание противопоставленных величин, ведущее к их равновесию и таким способом их объединяющее, является главным конструктивным принципом тургеневского романа. На этом принципе зиждется его художественное единство.
Очевидная эстетическая цель поэтики Тургенева— синтез истины и гармонии. Причем гармония призвана войти в искомый синтез как начало организующее, вносящее в него «высший порядок и ясный строй». Тем важнее мысль писателя о непремен-
65
'/«3 9Э
ном условии такой гармонии. Этим условием оказывается равновесие и конкретно — равновесие, обеспе-• чизаемое сдержанностью, всеобъемлющим ограничением вступающих во взаимодействие начал и стихий. Неразрывная связь гармонии и сдержанности подчеркивается Тургеневым по-разному и многократно.38 Есть основания считать это краеугольным пунктом его эстетики.
Именно здесь источник столь резкого расхождения тургеневской поэтики с поэтикой Толстого или Достоевского. В их романах преобладает иной тип художественного единства, основанный на противоречиях и безграничной подвижности образной мысли. Толстой на свой лад стремился соединить истину с гармонией и безусловно добился этого в «Войне и мире». Бесчисленные коллизии и контрасты не нарушают здесь общей гармоничности целого. 'Но это гармония особого рода — пренебрегающая стройностью пропорций, допускающая полную свободу взаимодействия разнородных начал, доводящая энергию их проявления до максимального предела'. Не случайно на смену этой свободной и незамкнутой гармонии приходит дисгармоническая структура «Анны Карениной».
Достоевский сразу же выступил разрушителем традиций гармонического искусства. По справедливому замечанию Г. М. Фридлендера, «преклонение перед гармонией... античности, Рафаэл-я, Пушкина» переходило у писателя в «мужественное сознание того, что современная ему больная и дисгармоническая «текущая» действительность требует для своего воплощения иных... форм художественного творчества».39 Это сознание обернулось открытием эстетической ценности стилевых диссонансов, разработкой поэтики, основанной на принципе «контрапункта», поисками HQBbix форм организации произведения, обес-
ай Подробнее об этом см.: Курляндскаи Г. Б. Указ, соч., с. 193—200.
зэфридлендер Г. М. Эстетика Достоевского. — В кн.: Достоевский — художник и мыслитель. М., [972, с. 112—113.
66
печивающих его целостность и законченность без гармонического согласования его компонентов.
Истоки этих свойств поэтики Достоевского и Толстого— в особенностях их миропонимания. И как это ни парадоксально на первый'взгляд, но дисгармонические тенденции, о которых идет речь, неразрывно связаны с оптимистическими началами в сознании обоих писателей. Оба романиста, открывшие глубочайшие противоречия общественной жизни и человеческой природы, угадывают за ними высшее единство и высшую целесообразность бытия. Отсюда вырастает уверенность, предполагающая реальные предпосылки гармонии человеческого духа и вместе с тем предпосылки социальной, в конечном счете — мировой гармонии. И они обнаруживаются (хотя и по-разному) в «Войне и мире», в «Анне Карениной», в «Преступлении и наказании», в «Подростке», в «Братьях Карамазовых». В этих романах открывается возможность воссоединения личности с народным целым и — глубже — возможность ее непосредственного приобщения к единству всемирной истории, к единству человечества.
Все это представляется Достоевскому и Толстому не только потенциалом. Толстой обнаруживает редкие, но важные исторические ситуации, когда единство человека с миром становится осязаемой реальностью. Подобным образом осмыслена в «Войне и мире» ситуация 1812 года: русская нация объединяется помимо официальных общественных форм — на основе естественной межчеловеческой связи. Еще важнее открытие других проявлений общности людей— в ежедневном быту, в рядовых переживаниях каждого.40 В романах Достоевского проблема единства человека с миром оказывается более трудной, даже мучительной. Однако она предстает разрешимой благодаря непосредственной слитности личного л всеобщего в сознании и поведении его героев. Иссле-
человек. М., 1963, с. 248—284.
40 См.: Бочаров С. Г. Л. Толстой и новое понимание человека. «Диалектика души». — В кн.; Литература и новый
67
дователи не раз отмечали тот факт, что герои Достоевского не только мыслят, но и живут в постоянной соотнесенности с целым миром, придавая своим поступкам и решениям универсальный смысл, а с другой стороны, измеряя свою жизнь критериями мировой справедливости. Именно в этом видит источник оптимизма Достоевского В. В. Кожинов: «Поскольку человек сознает'свое единство с человечеством (и стремится практически осуществить его), поскольку он чувствует свою личную ответственность перед миром и ответственность мира перед ним, человек сохраняет свои высшие возможности, свою истинную сущность, свой прекрасный облик. Если это чувство единства с миром есть, — значит разрешение всех противоречий возможно»41.
Открытия, намечающие возможность выхода" из трагического состояния мира, сближают двух писателей не меньше, чем беспощадность предпринятого ими анализа современности. Через мучительные, трагические коллизии мир может прийти к идеалу — уверенность в этом не покидает Достоевского и Толстого. В свете такой уверенности хаос переходной эпохи предстает косвенным проявлением высшей целесообразности, а любые противоречия, для самой эпохи неразрешимые, — ступенью в стремлении мира к совершенству. Эта уверенность позволяет найти эстетический смысл в дисгармоническом единстве противоположностей, в свободной игре разнородных стилевых стихий.
Поэтика Тургенева всем своим строем сигнализирует о совершенно ином понимании мира и человека. И, пожалуй, наиболее красноречивы на фоне искусства Достоевского и Толстого тургеневская установка на сдержанность и тургеневское стремление к обузданию крайностей, к поддержанию равновесия, пусть даже механического, если невозможно иное. Эта установка и это стремление нагляднее прямых деклараций свидетельствует о том, что Тургенев не
предвидит разрешения противоречий, открытых его романами. Идея мировой гармонии входит в его искусство лишь на правах субъективно-лирической медитации, никогда не оборачиваясь объективно обоснованным, оптимистическим доверием к жизни. Отсутствие перспектив реальной гармонии призвана компенсировать гармоническая закругленность романной структуры. Такая диалектика отчетливо проявляется в тургеневских романах 50-х — начала 60-х годов.
Основания такой диалектики тоже достаточно отчетливы. Тургеневские романы не обнаруживают высшей целесообразности бытия. Категория «общей жизни», характерная для Толстого. и в определенном варианте не чуждая Достоевскому, явно несвойственна художественному сознанию Тургенева. Между тем именно с этой категорией связаны в русском романе представления о возможности гармонического воссоединения личности и мира, о взаимопереходности индивидуального и общего. Как видно, Тургенев далек от подобных представлений: сюжетно-компо-зиционные законы тургеневского романа обнаруживают признаки иной концепции, основанной на резком разделении «я» и «не-я». Это означает невозможность прямого проникновения в тайну человеческой индивидуальности, ограниченность меры взаимопонимания и общности людей и в неменьшей степени—представление о невозможности гармонического единства отдельной личности, убежденность в том, что ее единство может осуществляться лишь через неустранимое противоречие.
41 Кожинов В. «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. -— В кн.: Три шедевра русской классики. М., 1971, с. 182.
68
3 99
