
Арбитраж 22-23 учебный год / Арбитражная практика № 4, апрель 2012
.pdf4, 2012
Цитата. «Требование о взыскании компенсации носит имущественный характер. Несмотря на то, что размер подлежащей взысканию компенсации определяется по усмотрению суда (абзац второй статьи 1301, абзац второй статьи 1311, подпункт 1 пункта 4 статьи 1515, подпункт 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ), в исковом заявлении должна быть указана цена иска в твердой сумме. Исходя из размера заявленного требования определяется подлежащая уплате государственная пошлина.
Если истцом не указана цена иска (размер требуемой компенсации), суд выносит определение об оставлении соответствующего искового заявления без движения (статья 136 ГПК РФ, статья
128 АПК РФ)».
Разумеется, истец, не может знать заранее исход дела и предполагать, как суд оценит тяжесть нарушения, степень вины нарушителя, будет ли, по мнению суда, срок нарушения длительным. В сложившейся ситуации истцу не остается ничего иного, как определить размер требуемой компенсации по собственному усмотрению и сформировать цену иска, исходя из которой он сможет оплатить госпошлину.
Цитата. «Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ» (п. 43.3 Постановления № 5/29).
Насколько было адекватно мнение истца по поводу размера компенсации и, следовательно, каков будет размер возмещенной ему государственной пошлины, станет ясно только при оглашении резолютивной части решения суда. В итоге может сложиться ситуация, когда сторона, формально выигравшая процесс, фактически терпит убытки за защиту своих прав, как в рассмотренном выше случае.
Второй подход: уменьшение компенсации не влияет на размер судебных расходов ответчика
Суды, признавая законными и обоснованными требования о возмещении компенсации, с учетом конкретных обстоятельств дела считают возможным уменьшить сумму компенсации. Однако это не влияет на определение размера судебных расходов, взыскиваемых с ответчика. Госпошлина по требованию о взыскании компенсации за нарушение исключительного авторского права подлежит оплате ответчиком в полном объеме, определенном исходя из размера заявленных требований. Уменьшение судом суммы компенсации не влияет на определение размера
судебных расходов, подлежащих взысканию с ответчика2.
К компенсации за нарушение авторских прав по аналогии можно применить положения о неустойке
Изложенный в указанной практике подход основывается, по мнению автора, на аналогии с положениями, трактуемыми в разъяснении ВАС РФ, изложенными в пункте 9 постановления Пленума ВАС РФ от 20.03.1997 № 6 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами законодательства Российской Федерации о государственной пошлине» (далее – Постановление № 6), согласно которому при уменьшении арбитражным судом размера неустойки на основании статьи 333 ГК РФ расходы истца по государственной пошлине подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее уменьшения.
Применение такой аналогии наиболее актуально, если придерживаться мнения компенсационной природы неустойки. Дело в том, что компенсация за нарушение авторских прав представляет собой меру гражданско-правовой ответственности. Поэтому, также как неустойка за нарушение обязательства, она является адекватной платой по отношению к
возможным убыткам3. Но следует упомянуть, что, хотя компенсационная теория неустойки получает на сегодняшний день все большее развитие, существует также в российской доктрине оценочная и штрафная теории неустойки. Согласно первой неустойка понимается как заранее установленная законом или договором оценка убытков, которые могут наступить вследствие
http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=9993[01.11.2014 19:30:38]

4, 2012
неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного неустойкой обязательства.
Сущность второй теории заключается в том, что неустойка рассматривается как некое возмездие (кара, наказание) за нарушение обязательства, призванное не только наказать неисправного должника, но и воздействовать на него с целью надлежащего исполнения
обязательства4.
Эффект применения аналогии компенсации за нарушение авторских прав и неустойки может иметь отрицательный характер. Возникает риск того, что истец, заранее зная о возложении расходов по уплате госпошлины в полном объеме на ответчика, в случае признания факта нарушения прав будет заявлять размер компенсации в максимально возможном объеме.
Третий подход: ответчик оплачивает госпошлину пропорционально удовлетворенным требованиям, а оставшуюся часть возвращают истцу
Возможна ситуация, когда факт нарушения авторских прав будет доказан, однако заявленные требования о взыскании компенсации, по мнению суда, завышены. Тогда он сам определяет размер компенсации.
Практика. ООО обратилось с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав. Факт правонарушения был доказан, однако заявленные требования о взыскании компенсации суд посчитал завышенными. Кроме того, при расчете суммы компенсации истец исходил из размера неполученный выгоды. На основании изложенного суд сам определил соразмерную и справедливую компенсацию в сумме 100 000 руб. Расходы по госпошлине суд возложил на ответчика пропорционально удовлетворенным исковым требованиям, оставшуюся часть госпошлины возвратил истцу как излишне уплаченную5.
Правда, этот способ распределения расходов по уплате госпошлины не получил широкого распространения на практике.
1 Постановление ФАС Уральского округа от 18.02.2010 по делу № А50-17605/2008, решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.02.2005 по делу № А40-56191/04-26-299 (оставлено в силе постановлением ФАС Московского округа от 14.08.2005).
2 Определения ВАС РФ от 26.08.2011 № ВАС-10425/11, от 23.08.2010 № ВАС-11464/10, от 10.03.2010 № ВАС-2113/10, от 29.01.2010 № ВАС-234/10, от 09.07.2009 № ВАС-8882/09;
Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 30.09.2010 по делу №А63-17038/2009, ФАС Московского округа от 11.05.2010 по делу № А40-89751/08-51-773, ФАС Западно-Сибирского округа от 15.01.2010 по делу № А45-4604/2009.
3 Определение ВАС РФ от 26.08.2011 № ВАС-10425/11.
4 См.: Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Вып. 10/ Под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой. М.: Статут, 2009.
5 Определение ВАС РФ от 31.10.2011 № ВАС-13730/11.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОРЫ
Защита интеллектуальных прав: как правообладателю получить достойную компенсацию
Н.В. Горностай
юрист юридической фирмы «ЮСТ», gornostay@yust.ru
 Почему суды отказывают в возмещении компенсации в двойном размере стоимости прав
Почему суды отказывают в возмещении компенсации в двойном размере стоимости прав
 По какой формуле ВАС РФ предлагает рассчитывать размер компенсации
По какой формуле ВАС РФ предлагает рассчитывать размер компенсации  Поможет ли выплате соразмерной компенсации заключение лицензионного
Поможет ли выплате соразмерной компенсации заключение лицензионного
http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=9993[01.11.2014 19:30:38]
4, 2012
договора
Гражданский кодекс предусматривает различные способы защиты нарушенных прав авторов и иных правообладателей. Так, лицо, исключительное право которого нарушено, может предъявить к нарушителю требование о признании права, о пресечении действий, создающих угрозу его нарушения, о возмещении убытков и другие. Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса в некоторых случаях, предусмотренных законом, правообладатель вправе вместо возмещения убытков потребовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение исключительных прав. К таким случаям согласно статьям 1301 и 1311 Гражданского кодекса относятся нарушения исключительного права на произведение и на объекты смежных прав. Указанная компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, и у правообладателя не возникает необходимости доказывать размер причиненных ему убытков. Многие правообладатели требуют в качестве компенсации двукратную стоимость права использования объекта интеллектуальной собственности на основании статьи 1301 Гражданского кодекса. Однако, как показывает анализ судебной практики, получить ее оказывается достаточно непросто.
Виды компенсации за нарушение исключительных прав
При подаче искового заявления в суд правообладатель может выбрать следующие виды компенсации за нарушение исключительных и смежных прав, предусмотренные статьями 1301, 1311 ГК РФ: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или фонограммы; в двукратном размере стоимости права использования произведения или объекта смежных прав, определяемом исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за их правомерное использование. Рассмотрим, как эти нормы работают на практике.
Компания А на основании лицензионного договора, предусматривающего исключительную лицензию, приобрела у Компании Б право использовать аудиовизуальное произведение (художественный фильм) на условиях исключительной лицензии в пределах определенной территории и способами, предусмотренными договором. В силу статьи 1259 Гражданского кодекса аудиовизуальное произведение, то есть произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств, является объектом авторских прав.
Исключительное право на аудиовизуальное произведение, в том числе право на его воспроизведение, распространение, импорт, доведение до всеобщего сведения и т.п., может передаваться по договору об отчуждении исключительного права на произведение или предоставляться по лицензионному договору. Заключение лицензионного договора не влечет за собой перехода исключительных прав к лицензиату, но права, приобретенные по договору, лицензиат согласно статье 1254 Гражданского кодекса вправе наряду с другими способами защиты защищать специальными способами, предусмотренными четвертой частью ГК РФ.
Таким образом, у Компании А возникло право на защиту исключительных прав, предоставленных ей по лицензионному договору. Тогда Компания А обращается в суд с требованием к нарушителю о выплате компенсации, предусмотренной абзацем 3 статьи 1301 ГК РФ, в виде двукратного размера стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая обычно взимается за его правомерное использование.
Казалось бы, при доказанности факта правонарушения суд должен удовлетворить требования правообладателя и взыскать компенсацию, рассчитанную путем умножения на два той суммы, которую Компания А заплатила Компании Б за правомерное использование художественного фильма. Но при обращении в суд Компания А столкнулась с неожиданными проблемами.
Для получения компенсации правообладатели заключают лицензионные договоры
При решении вопроса о выплате компенсации обладателю исключительной лицензии на объект интеллектуальной собственности суды редко соглашаются на ее выплату в двукратном размере стоимости нарушенных прав, рассчитанной на основании стоимости этих прав, указанной в лицензионном договоре (ст. 1301 ГК РФ). В качестве примера можно привести решение
http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=9993[01.11.2014 19:30:38]
4, 2012
Арбитражного суда Омской области от 04.05.10, постановления Восьмого арбитражного
апелляционного суда от 07.07.10 и Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 07.10.10 по делу № А46-48/2010.
Обращает на себя внимание следующий факт: по аналогичному делу, с участием того же истца, но другого ответчика, Арбитражный суд Омской области также удовлетворил требование правообладателя о выплате компенсации в двойном размере стоимости прав, рассчитанной исходя из цены лицензионного договора (решение от 17.11.10 по делу № А46-9744/2010). Однако при пересмотре данного дела Восьмой арбитражный апелляционный суд в удовлетворении требований правообладателя отказал. По его мнению, удовлетворяя заявленные требования, Арбитражный суд Омской области не учел разъяснения высших судебных инстанций.
Цитата. «Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения» (п. 43.4 постановления пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.09 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ»; далее
– Постановление № 5/29).
По мнению пленумов ВС РФ и ВАС РФ, при определении размера компенсации следует принимать в расчет вознаграждение, которое было бы выплачено правообладателю, если бы им был своевременно заключен лицензионный договор о выдаче простой (неисключительной) лицензии. Сумма, причитающаяся по такому договору, затем увеличивается в два раза. Это означает, что истец, обращаясь с иском в суд, должен обосновать размер заявленной им компенсации исходя из вознаграждения за правомерное использование права, установленного лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию. Проще говоря, представить расчет компенсации за нарушенное исключительное право исходя из стоимости такого права по договору, предусматривающему неисключительную лицензию на такое право.
Выходит, что для того, чтобы правообладатель смог воспользоваться своим правом на взыскание компенсации за нарушение его исключительных прав в двукратном размере стоимости таких прав, ему необходимо заранее заключить лицензионный (сублицензионный) договор, предусматривающий простую (неисключительную) лицензию. Иначе рассчитывать на соразмерную компенсацию не приходится.
Однако в самой статье 1301 говорится о том, что расчет осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения. Каких-либо пояснений, а тем более ограничений относительно того, какие обстоятельства могут относиться к «сравнимым», Гражданский кодекс не содержит.
Суды же, в свою очередь, по своему усмотрению определили значение термина «сравнимые обстоятельства», при которых взимается плата за использование произведения, отнеся к таким случаям только наличие у правообладателя договора, устанавливающего стоимость простой (неисключительной) лицензии на использование исключительных прав.
Правообладателям приходится искусственно влиять на стоимость неисключительной лицензии
Как следует из статьи 1236 Гражданского кодекса, различие исключительной и неисключительной лицензии заключается в том, что при неисключительной лицензии за лицензиаром сохраняется право выдачи лицензии другим лицам, а при предоставлении права использования произведения на основании исключительной лицензии лицензиар не вправе выдавать подобные лицензии. Лицензиат, приобретая исключительные права на произведение на основе договора, предусматривающего исключительную лицензию, рассчитывает на то, что ни одно третье лицо без его согласия не сможет использовать данное произведение. Большинство продаваемых лицензий на использование аудиовизуальных произведений – исключительные.
В то же время вышеуказанное Постановление № 5/29 ограничивает права правообладателей (лицензиатов) в выборе способа защиты принадлежащих им исключительных прав. И это
http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=9993[01.11.2014 19:30:38]
4, 2012
несмотря на то, что согласно статье 1301 Гражданского кодекса, право выбора того или иного
вида компенсации принадлежит правообладателю. А в силу статьи 1254 Гражданского кодекса и пункта 27 Постановления № 5/29 обладатели простой (неисключительной) лицензии не вправе защищать свои права способами, предусмотренными статьей 1252 Гражданского кодекса, устанавливающей право на получение компенсации. Таким правом обладают только лицензиаты – обладатели исключительной лицензии.
Получается, что обладатели прав на основании лицензионного договора, предусматривающего простую (неисключительную) лицензию, не могут рассчитывать на получение компенсации в двукратном размере стоимости прав в силу закона, а обладатели исключительной лицензии – на основании Постановления № 5/29. Хотя в законе четко сказано, что лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права, приобретенные по договору, предусматривающему исключительную лицензию, способами, предусмотренными специальными статьями Гражданского кодекса (в частности, 1250, 1252 и 1253 статьями кодекса).
Таким ограничительным толкованием закона суды вынуждают правообладателей определять стоимость простой (неисключительной) лицензии искусственным путем. Ведь зачастую компенсация в двукратном размере стоимости прав гораздо выгоднее, чем компенсация в 10 тысяч рублей (при выборе правообладателем компенсации в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, суды чаще всего выбирают минимальный размер) или в размере двукратной стоимости экземпляров произведения.
Правообладателям ничего не остается, как, например, формально заключить лицензионный (сублицензионный) договор с третьим лицом о предоставлении права использования произведения или заранее в лицензионном договоре, на основании которого лицо, право которого нарушено, приобрело исключительные права на произведение, предусмотреть возможность передачи таких прав по сублицензионному договору на конкретных условиях с указанием стоимости этих прав.
Очевидно, что сложившаяся на настоящий момент судебная практика свидетельствует о проблемах с применением положений о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, возникающих при буквальном применении положений пункта 3 статьи 1252, статей 1301 и 1311 Гражданского кодекса. Отсутствует единый подход к определению размера компенсации, что на практике крайне негативно сказывается на возможности правообладателей защищать свои права в суде.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СПОРЫ
Изменения антимонопольного законодательства заставят участников дистрибьюторских соглашений играть по новым правилам
Е.А. Большаков
старший юрист практики антимонопольного права адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», evgeny_bolshakov@epam.ru
 Может ли дистрибьютор товара составить конкуренцию его производителю
Может ли дистрибьютор товара составить конкуренцию его производителю
 Чем невыгоден для участников дистрибьюторского договора «третий антимонопольный пакет»
Чем невыгоден для участников дистрибьюторского договора «третий антимонопольный пакет»
 Когда закон позволяет включать в дистрибьюторский договор любые условия
Когда закон позволяет включать в дистрибьюторский договор любые условия
Дистрибьюторский договор – наиболее востребованная на сегодняшний день форма взаимодействия производителей товаров и компаний, которые их реализуют. Причем дистрибьюторская схема широко используется и российскими, и зарубежными организациями при осуществлении торговой деятельности.
Правда, при заключении подобного рода договоров часто возникают «накладки»: участники дистрибьюторского договора при его составлении учитывают в первую очередь стоящие перед ними бизнес-задачи, а вот антимонопольные запреты анализируют по остаточному принципу.
http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=9993[01.11.2014 19:30:38]
4, 2012
Между тем с точки зрения антимонопольного регулирования дистрибьюторские отношения всегда были и остаются одним из наиболее сложных и спорных вопросов. Более того, после
вступления в силу так назывемого «третьего антимонопольного пакета»1 законодательство подверглось значительным изменениям, что еще более запутало и так непростую ситуацию.
Насколько существенный характер носят данные изменения применительно к дистрибьюторским отношениям и как они могут повлиять на правила взаимодействия производителей и дистрибьюторов – этим вопросам и посвящена данная статья.
На мой взгляд, целесообразно заострить внимание на вопросах, которые не разрешались в принципе или не в полной мере покрывались ранее действовавшим законодательством, а затем оценить внесенные изменения уже через призму поставленных проблем.
Антимонопольное законодательство не позволяет однозначно отнести дистрибьюторский договор к вертикальным соглашениям
Любой дистрибьюторский договор содержит элемент договора поставки. До внесения поправок в Закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) это часто рассматривалось как достаточное основание для характеристики дистрибьюторского договора как вертикального соглашения.
В то же время в тексте прежней редакции Закона о защите конкуренции помимо указанного критерия был назван и еще один – между сторонами соглашения отсутствует конкуренция.
Цитата. «"Вертикальное" соглашение – соглашение между хозяйствующими субъектами, которые не конкурируют между собой, один из которых приобретает товар или является его потенциальным приобретателем, а другой предоставляет товар или является его потенциальным продавцом» (п. 19 ст. 4 Закона о защите конкуренции).
С формальной точки зрения такой критерий, как отсутствие конкуренции между сторонами договора, действительно позволяет отграничить картельные (горизонтальные) соглашения от вертикальных. Однако прежняя редакция все же оставляла как минимум два неразрешенных вопроса, а именно:
 о каком товарном рынке идет речь при исследовании наличия или отсутствия конкуренции;
о каком товарном рынке идет речь при исследовании наличия или отсутствия конкуренции;
 являются ли конкуренцией по смыслу указанной нормы ситуации, когда производитель наряду с продажами в адрес дистрибьютора осуществляет прямые продажи.
являются ли конкуренцией по смыслу указанной нормы ситуации, когда производитель наряду с продажами в адрес дистрибьютора осуществляет прямые продажи.
Что касается первого вопроса, то и прежнее, и новое законодательство оставляют его без ответа. На практике сформировалось понятие «соответствующего товарного рынка» как рынка товара, являющегося предметом договора, или связанного с ним рынка. Однако отсутствие четких ориентиров в законе все равно оставляет возможность различной трактовки данного понятия, в том числе и не в пользу хозяйствующих субъектов.
Решение второго вопроса (о конкуренции сторон дистрибьюторского договора) является еще более сложной задачей, чем ответ на первый вопрос. Дело в том, что в тексте дистрибьюторских соглашений часто содержится указание на то, что производитель сохраняет за собой право осуществлять прямые продажи на соответствующей территории. И, как правило, такие продажи действительно имеют место. Но находятся ли в этом случае производитель и его дистрибьютор в состоянии конкуренции?
Цитата. «Конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке» (п. 7 ст. 4 Закона о защите конкуренции).
Логическое толкование приведенной нормы показывает, что производитель и его дистрибьютор в принципе не могут находиться в состоянии конкуренции в отношении приобретаемого дистрибьютором товара. Например, в случае, если на рынке функционируют только один производитель и его дистрибьюторы, решение первого о переходе к модели прямого сбыта полностью устранит конкуренцию.
http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=9993[01.11.2014 19:30:38]
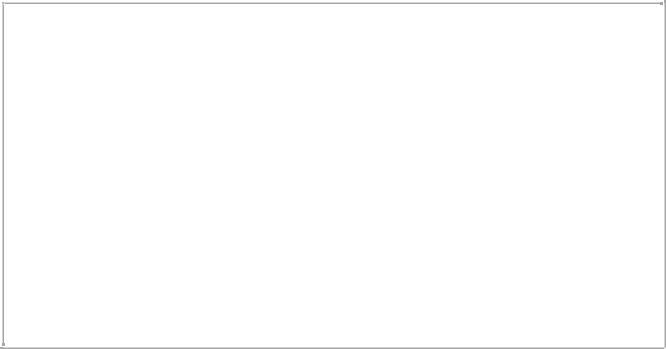
4, 2012
Иными словами, односторонними действиями производителя конкуренция в такой ситуации
может быть полностью ликвидирована. С учетом этого о конкурировании разумно говорить в ситуации, когда каждый из экономических субъектов имеет независимый источник получения конкурирующего товара.
Соглашения с дистрибьюторами, осуществляющими прямые продажи, российские суды не всегда относят к «вертикальным» соглашениям
В европейском законодательстве понятие «конкурирования» имеет четкие границы. В частности, пункт 4 статьи 2 Резолюции Еврокомиссии № 330/2010 от 20.04. 2010 разделяет конкурирование на уровне продавца и на уровне производителя. При этом соглашение рассматривается как вертикальное и подпадает под все применимые изъятия, если производитель производит и самостоятельно продает товар, а дистрибьютор занимается лишь продажами и не является изготовителем взаимозаменяемого товара.
Между тем в российской практике данный вопрос трактуется однобоко2.
Практика. Производитель товара (муки) заключил с покупателем договор, согласно которому последний приобретал муку по льготным ценам и имел право реализовать ее в пределах региона и с учетом скидок для отдельных категорий покупателей. Регион реализации и размеры скидок были императивно определены производителем. Управление ФАС России расценило данное соглашение как нарушающее антимонопольное законодательство (соглашение хозяйствующих субъектов, ограничивающее конкуренцию) и вынесло предписание об устранении и недопущении нарушений.
Производитель и дистрибьютор обжаловали указанное предписание в арбитражный суд, указав, что заключенное между ними соглашение является «вертикальным».
Однако суды первой, апелляционной и кассационной инстанций в удовлетворении заявления отказали, встав на сторону антимонопольного органа. Обосновали они данную позицию тем, что покупатель приобретал товар не для собственного употребления или переработки, а для последующей реализации третьим лицам. Это значит, что покупатель, так же как и производитель, выступал на рынке реализации товара в качестве продавца и являлся прямым конкурентом производителя. Суды решили, что при таких обстоятельствах заключенный между сторонами договор не соответствует критериям «вертикального» соглашения, поскольку в нем есть элемент конкуренции контрагентов (п. 19 ст. 4 Закона о
защите конкуренции)3.
Последствием вынесения судебных решений с выводами, аналогичными приведенным, может  стать распространение всех запретов, предусмотренных для картельных соглашений (ч. 1 с. 11 Закона о защите конкуренции), на соглашения производителей и дистрибьюторов независимо от доли данных участников на рынке.
стать распространение всех запретов, предусмотренных для картельных соглашений (ч. 1 с. 11 Закона о защите конкуренции), на соглашения производителей и дистрибьюторов независимо от доли данных участников на рынке.
Изменения, внесенные в антимонопольное законодательство, должны были существенно скорректировать сложившуюся ситуацию. Действительно, понятие «вертикального» соглашения в статье 4 было кардинально изменено: «вертикальным» отныне является соглашение хозяйствующих субъектов, один из которых приобретает товар, а другой предоставляет (продает) товар. Других критериев не предусмотрено, поэтому согласно новой редакции закона любой дистрибьюторский договор, безусловно, является вертикальным соглашением.
Цитата. «"Вертикальное" соглашение – соглашение между хозяйствующими субъектами, один из которых приобретает товар, а другой предоставляет (продает) товар. Не является "вертикальным" соглашением агентский договор» (п. 19 ст. 4 Закона о защите конкуренции).
Однако снимает ли это риски распространения на вертикальные соглашения запретов, которые касаются заключения картельных соглашений (ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции)?
Ответ – нет, поскольку вместе с процитированной статьей 4 «третьим антимонопольным пакетом» были внесены серьезные изменения и в статью 11 Закона о защите конкуренции. Норма части 1.1 статьи 11 о неприменимости запретов части 1 к вертикальным соглашениям (она была введена «вторым антимонопольным пакетом») исключена из структуры статьи. Часть
http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=9993[01.11.2014 19:30:38]
4, 2012
1 теперь устанавливает запреты для всех соглашений конкурентов, а часть 2 – для
вертикальных соглашений.
Очевидно, что в рамках новой редакции закона данные понятия являются пересекающимися, и формально на соглашения продавцов и покупателей (вертикальные), каждый из которых продает на рынке (конкуренты на уровне продажи), могут распространяться все запреты, установленные частью 1 статьи 11 закона.
Доля каждой компании на рынке реализации товара «диктует условия» для сторон дистрибьюторского договора
Существенным критерием допустимости любого вертикального соглашения является недостижение каждой из его сторон порога в 20 процентов на товарном рынке (ст. 12 Закона о защите конкуренции). Если все участники соглашения отвечают этому критерию, то в дистрибьюторский договор можно включить любые условия, в том числе и находящиеся под безусловным запретом (например, установить для дистрибьютора цену перепродажи). Но, несмотря на сказанное, приходится констатировать, что на практике в большинстве случаев продолжают действовать все запреты без исключения.
Обычно производитель имеет нескольких дистрибьюторов и речь идет не об одном, а о системе договоров. В практике ФАС России и судебной практике был очень распространен подход, согласно которому действия в рамках вертикальных соглашений трактовались
антимонопольным органом как координация4. Прежняя редакция закона понимала под координацией согласование одним лицом действий других хозяйствующих субъектов, которые приводят к запрещенным последствиям, в частности:
 не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками);
не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками);
 навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора;
навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора;
 экномически и иным образом не обоснованному установлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар;
экномически и иным образом не обоснованному установлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар;
 сокращению или прекращению производства товаров, на которые имеется спрос либо на поставки которых размещены заказы при возможности их рентабельного производства;
сокращению или прекращению производства товаров, на которые имеется спрос либо на поставки которых размещены заказы при возможности их рентабельного производства;
 созданию препятствий к доступу на товарный рынок или выходу из него другим хозяйствующим субъектам (ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции).
созданию препятствий к доступу на товарный рынок или выходу из него другим хозяйствующим субъектам (ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции).
Таким образом, при наличии двух или более дистрибьюторских соглашений их оценка с точки зрения антимонопольных нарушений осуществлялась независимо от доли хозяйствующего субъекта на рынке. В этой части изменения, внесенные «третьим антимонопольным пакетом», носят крайне существенный характер. Теперь в законе прямо предусмотрено, что действия, совершаемые по вертикальному соглашению, не являются координацией.
Цитата. «Координация экономической деятельности – согласование действий хозяйствующих субъектов третьим лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких хозяйствующих субъектов и не осуществляющим деятельности на товарном рынке, на котором осуществляется согласование действий хозяйствующих субъектов. Не являются координацией экономической деятельности действия хозяйствующих субъектов, осуществляемые в рамках "вертикальных" соглашений» (п. 14 ст. 4 Закона о защите конкуренции).
Таким образом, формулировка приведенной нормы позволяет утверждать, что при недостижении участниками дистрибьюторского договора «критической» доли в 20% на товарном рынке в такой договор можно включить любые условия.
Установление рекомендуемых цен по-прежнему остается рискованным
Прежняя редакция Закона о защите конкуренции налагала безусловный запрет на установление цены перепродажи, а также ограниченичивала право продавать товары конкурентов. Единственное внесенное «третьим антимонопольным пакетом» изменение в части запретов
http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=9993[01.11.2014 19:30:38]
4, 2012
«per se» касается допустимости установления максимальной цены перепродажи.
Несмотря на очевидную либерализацию, представляется, что воспользоваться этим положением в полной мере в контексте обратной силы смогут немногие. Все же включение в договор положений, прямо нарушающих законодательство, являлось существенным риском.
Однако с принятием очередных поправок в Закон о защите конкуренции сложности в трактовке куда более распространенного условия – рекомендованных цен – сохранились, к сожалению, в полном объеме, и риски, связанные с предложением рекомендаций по ценам, остаются существенными.
Стоит отметить, что перечень запретов на «вертикальные» соглашения отнюдь не исчерпывается формальными запретами, установленными в части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Цитата. «Запрещаются "вертикальные" соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением "вертикальных" соглашений, которые признаются допустимыми в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), если:
 такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара, за исключением случая, если продавец устанавливает для покупателя максимальную цену перепродажи товара;
такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара, за исключением случая, если продавец устанавливает для покупателя максимальную цену перепродажи товара;
 такими соглашениями предусмотрено обязательство покупателя не продавать товар хозяйствующего субъекта, который является конкурентом продавца. Данный запрет не распространяется на соглашения об организации покупателем продажи товаров под товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавца или производителя» (ч.2 ст. 11 Закона о защите конкуренции).
такими соглашениями предусмотрено обязательство покупателя не продавать товар хозяйствующего субъекта, который является конкурентом продавца. Данный запрет не распространяется на соглашения об организации покупателем продажи товаров под товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавца или производителя» (ч.2 ст. 11 Закона о защите конкуренции).
На участников дистрибьюторского договора распространяются также и все запреты для случаев, когда такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции (ч. 4 ст. 11 Закона о защите конкуренции).
Между тем для «вертикальных» соглашений, которые и прежде квалифицировались по части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции, ситуация существенно не изменилась. Для того чтобы изменение было не формальным, а сущностным, требуется пересмотр стандартов доказывания соглашений, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции.
Раньше, рассматривая споры о нарушении «вертикальными» соглашениями установленных законом (в прежней редакции) запретов, представители органов ФАС России останавливались на указании на то, что спорное условие ограничивает конкуренцию. А подробного и глубокого анализа объективных проявлений такого ограничения проверяющие органы не проводили.
Если же, основываясь на новой редакции Закона о защите конкуренции, органы ФАС России выявят, что соглашение могло привести, например, к навязыванию условий договора, а также укажут, что это могло ограничить конкуренцию, то сама по себе такая оговорка никак существенно не сможет повлиять на ситуацию и просто лишит поправки своего практического правового значения.
Более того, законодатель в некотором смысле даже расширил перечень запретов для дистрибьюторского договора, поскольку прямо конкретизировал и указал, какие условия однозначно следует рассматривать как имеющие признаки ограничения конкуренции.
Безусловно, одним из наиболее существенных практических изменений законодательства является необходимость проводить анализ рынка при рассмотрении дел о нарушениях, которые были исключены из картельных соглашений (ч. 1 ст. 11) и теперь отражены в части 4 той же статьи 11 (иные соглашения, приводящие или могущие привести к ограничению конкуренции на товарном рынке).
В завершение статьи хотелось бы отметить еще два момента.
Во-первых, сейчас даже признание дистрибьюторского договора запрещенным соглашением не ставит руководителей компаний под угрозу уголовной ответственности. Такая ответственность может наступить только при заключении хозяйствующими субъектами – конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) (ч. 1 ст. 178 Уголовного кодекса РФ).
Во-вторых, как показывает анализ изменений антимонопольного законодательства, по-прежнему сохраняется множество сложных и нерешенных вопросов. Будем надеяться, что
http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=9993[01.11.2014 19:30:38]
4, 2012
сложности, частично выделенные и рассмотренные в настоящей статье, будут разрешены либо
в рамках «четвертого антимонопольного пакета», либо посредством постепенной выработки однозначного подхода в правоприменительной практике.
1 Федеральный закон от 06.12.2011 № 401-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2 См., напр.: постановление ФАС Поволжского округа от 19.10.2011 по делу № А79-9164/2010. 3 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 19.01.2012 по делу № А63-929/2011.
4 См., напр.: постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 16.12.2010 по делу № А331952/2010.
НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ
Выбор способа обеспечения обязательств предопределяет налоговые последствия для сторон сделки
Кристина Юрьевна Крученко
юрист Московской коллегии адвокатов «Ваш судебный представитель» (г. Москва), mermaid_2004@bk.ru
 Какие доходы и расходы возникают у сторон по сделке при уплате суммы неустойки
Какие доходы и расходы возникают у сторон по сделке при уплате суммы неустойки
 Почему заключение договора поручительства превращает поручителя в плательщика НДС
Почему заключение договора поручительства превращает поручителя в плательщика НДС
 Как следует учитывать сумму задатка в целях налогообложения прибыли
Как следует учитывать сумму задатка в целях налогообложения прибыли
Пожалуй, ни один гражданско-правовой договор не обходится без специальных положений о способах обеспечения исполнения обязательств по нему. Эти способы многообразны, и их перечень вовсе не исчерпывается указанным в ГК РФ.
Очевидно, что целью применения обеспечительных инструментов является побуждение должника к исполнению принятого им на себя обязательства надлежащим образом. Но помимо частноправовых последствий включение в договор, а затем и фактическое применение обеспечительных конструкций может привести и к определенным налоговым последствиям. Наглядно налоговые аспекты применения обеспечительных конструкций можно рассмотреть на примере самых популярных из них – неустойки, залога, удержания, задатка и поручительства.
Сумма неустойки облагается налогом на прибыль в качестве внереализационного дохода или расхода
Неустойка – это, пожалуй, самый популярный способ обеспечения исполнения обязательств. Его популярностью обусловлено и большое количество судебных споров, связанных с применением этой обеспечительной конструкции.
Цитата. «Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков» (п. 1 ст. 330 ГК РФ).
Порядок налогообложения сумм неустойки, полученных кредитором и выплаченных должником, не зависит от вида неустойки (законная или договорная).
Налог на прибыль организаций. В части налога на прибыль НК РФ однозначно квалифицирует суммы неустойки как внереализационные доходы (у получающей неустойку стороны – кредитора) и внереализационные расходы (у выплачивающей стороны – должника).
Так, внереализационными признаются доходы «в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней
http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=9993[01.11.2014 19:30:38]
