
Корф М.А. Жизнь графа Сперанского
.pdf
Удалениe Сперанскoго и жизнь его в заточении. 1812–1816
му. Я был тогда один из самых лучших и надежнейших исполнителей. Но как только движением дел приведен я был в противуположность им и в разномыслие, так скоро превратился в человека опасного и во все то, чтó Вашему Величеству известно более, нежели мне. В сем положении мне остается или уступать им, или терпеть их гонения. Первое я считаю вредным службе, унизительным для себя и даже опасным. Дружба их еще более для меня тягостна, нежели разномыслие. К чему мне разделять с ними дух партий, худую их славу и то пренебрежение, коим они покрыты в глазах людей благомыслящих? Следовательно, остается мне выбрать второе. Смею мыслить, что терпение мое и опыт опровергнут все их наветы. Удостоверен я также, что одно слово Ваше всегда довлеет отразить их покушения. Но к чему, Всемилостивейший Государь, буду я обременять Вас своим положением, когда есть самый простой способ из него выйти и раз навсегда прекратить тягостные для Вас и обидные для меня нарекания. Способ сей состоит в том, чтоб, отделив звание государственного секретаря и сложив с меня дела Финляндские, оставить меня при одной должности директора комиссии. Тогда: 1) зависть и злоречие успокоятся. Они почтут меня ниспровергнутым, я буду смеяться их победе, а Ваше Величество раз навсегда освободите себя от скучных нареканий. Сим приведен я буду паки в то счастливое положение, в коем быть всегда желал: чтоб весь плод трудов моих посвящать единственно Вам, не ища ни шуму, ни похвал, для меня совсем чуждых. Смею привести здесь на память тот девиз, который некогда Вам понравился: «j’ai désiré de faire du bien, mais je n’ai pas désiré de faire du bruit, parceque j’ai senti que le bruit ne faisait pas de bien, comme le bien ne faisait pas de bruit». 2) Тогда, и cиe есть самое важнейшее, буду я в состоянии обратить все время, все труды мои, на окончание предметов вышеизображенных, без коих, – еще раз смею повторить, – все начинания и труды Ваши будут представлять здание на песке. Из сего Ваше Величество усмотреть изволите, что не охлаждение к делам, но самая польза и успех дел заставляют меня желать и просить сего разделения. Не от трудов, не от службы, – сколько, впрочем, она для меня ни тягостна и по стесненному положению домашних экономических моих дел, и по личным неприятностям, – я ищу сим уклониться, но желаю и ищу дать времени моему лучшее и полезнейшее употребление. Простите мне, Ваше Величество, еще одно откровенное здесь изъяснение. Из всех тех, кои имеют счастье к Вам приближаться, я имел случай может быть
221

Часть третья
более других познать силу и пространство Ваших мыслей и желаний, не в подробностях ежедневных текущих дел, но в самых коренных истинах, на коих стоят государства. Следовательно, доколе истины сии будут составлять главный предмет Ваших намерений, доколе останется самый слабый луч надежды в их исполнении, доколе могу я хотя несколько быть для сего полезным, дотоле никакие уважения, никакие неприятности не превозмогут над моим желанием видеть их событие».
Государь не исполнил просьбы Сперанского, которую и сам он заявил, быть может, больше только для своего ограждения. Оставшись при всех прежних обязанностях, он принужден был вести, рядом, и реформы законодательные, и административные, и меры финансовые. Его неприятелям, в союзе с народным говором, продолжало открываться самое обширное поле действий. Человека, который еще так недавно мечтал «обновить» Poccию, стали изображать в таких красках, что даже малочисленные друзья его, утомленные борьбой с общим мнением, начали один за другим от него отступаться. Только Государь еще поддерживал его противу всех.
Но приближалась минута, когда и эта подпора должна была отпасть. Пока толпа бездейственно роптала, люди более честолюбивые искали из малосознательного ее ропота извлечь себе пользу. В их глазах, как мы уже сказали, вина Сперанского состояла не в его действиях, а
вего значении и силе при Дворе; в том, что ему удалось в такое короткое время из ничтожества стать в главе государственного управления;
втом, наконец, что он – мешал им. Этим оправдывались в их понятиях и все средства к его низложению. Сперва, однако, они предпочли попытаться на разделение с ним власти, что во всяком случае казалось тогда легче, чем ее сокрушить. Два лица, уже облеченные в некоторой степени доверием Государя, предложили его любимцу приобщить их к своим видам и учредить из них и себя, помимо Монарха, безгласный, тайный комитет, который управлял бы всеми делами, употребляя Государственный совет, Сенат и министерства единственно в виде своих орудий1. С негодованием отвергнул Сперанский их предложе-
1В таком точно таинственном виде и этими именно словами Cперанский сам в одной найденной между его бумагами записке (на французском языке) описал сделанное ему предложение, не пояснив ближе его сущности. С нашей стороны не отваживаемся здесь ни на какое толкование, которое во всяком случае было бы только самопроизвольною догадкою. Из той же записки, хранящейся ныне в государственном архиве, заимствованы и некоторые дальнейшие подробности нашего рассказа.
222

Удалениe Сперанскoго и жизнь его в заточении. 1812–1816
ние; но он имел неосторожность, по чувству ли презрения к ним или, может быть, по другому тонкому чувству, умолчать о том перед Государем. Благородное его отвращение от доноса было в этом случае непростительною политическою ошибкою против самого себя. Кабинетный труженик, занятый более делами, нежели людьми, не разглядел при всей своей прозорливости расставленной ему сети, не подумал, что против таких замыслов мало одного презрения. Если честь и высшее чувство не позволили ему согласиться на дерзкое предложение, то самосохранение требовало огласить его. Промолчав, Сперанский дал своим врагам способ сложить вину своих замыслов на него, связать ему руки, заподозрить его искренность в отношении к его благодетелю1; падение его сделалось неизбежным. Но падением обыкновенным, увольнением или удалением от службы, цель заговорщиков (мы не можем назвать их иначе) не была бы достигнута. Это значило довести дело только до половины, потому что Сперанский и отставленный мог снова восстать, проникнуть в тайны их коалиции, напасть на них в свою очередь и наконец разрушить шаткий союз. Чуткая предусмотрительность царедворцев, искушенных в придворных интригах, боялась возможности подобного оборота дел; им нужно было поставить соперника в такое безвыходное положение, чтобы он не мог ни написать строчки, ни произнести слова помимо их истолкований и пересудов. Средствами к тому представлялись только дальняя ссылка
истрогий присмотр за сосланным. Но какой взять предлог? Заговорщики нашли его в открывавшейся войне. В минуту великих политических переворотов, говорили они, уже и одного предположения опасности достаточно, чтобы оправдать все возможные меры осторожности, а здесь – гораздо больше, чем простое предположение. Возможно ли, чтобы Сперанский, роняя своими распоряжениями ценность наших ассигнаций, проводя в народное понятие какие-то воображаемые государственные долги, обременяя народ новыми налогами, расстраивая своими преобразованиями все части управления и раздражая ими все сословия, делал это без преступного намерения, без особой тайной цели? Пусть только заберут его бумаги: там, наверное, найдутся неопровержимые доказательства его злых умыслов; но забрать бумаги
ирассмотреть их с должною строгостью можно будет тогда только, когда самого его вышлют из столицы и удалят от всякого влияния на де-
1 И это все взято из той же записки.
223
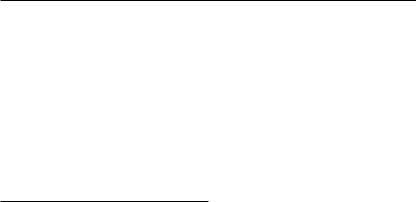
Часть третья
ла и на людей. Другим предлогом выставлялось, что для предстоящей войны нужны деньги, а их нет и достать невозможно иначе как только при том же условии – удалении Сперанского, потому что он лишил государство всякого кредита. На помощь этим наветам, может быть, и тому впечатлению, которое оставила в уме Государя предшествовавшая им записка Карамзина, стали появляться подметные письма, расходившиеся по Петербургу и Москве в тысяче списков и обвинявшие Сперанского не только в гласном опорочивании политической нашей системы, не только в предсказывании падения Империи, но даже и в явной измене, в сношениях с агентами Наполеона, в продаже государственных тайн и проч.1 За двумя главными союзниками, по-
1 В числе таких писем ходило по рукам одно, будто бы за подписью графа Растопчина (на некоторых копиях к его подписи было прибавлено: «и Москвитяне». Числа на разных экземплярах были выставлены различно: 5, 14, 17 марта). Но было ли сказанное письмо точно писано Растопчиным или по крайней мере составлено при его участии? Такой вопрос, по нашему мнению, и существовать не может. Растопчин при известной заносчивости и строптивости характера был, однако, человек чрезвычайно умный, чрезвычайно образованный и искусно владевший пером, а письмо с мнимою его подписью, несмотря на некоторое, правда, подражание его тону и слогу, представляет по всему своему содержанию верх грубого невежества, нелепости, незнания политических обстоятельств и безграмотства. Изображая Сперанского изменником, продавшим Poccию Наполеону, оно оканчивалось угрозою, что если этот предатель не будет сменен и если вообще советы письма останутся неисполненными, то «сыны отечества необходимостью себе поставят двинуться в столицу и настоятельно требовать как открытия сего злодейства, так и перемены правления». Нет, кажется, сомнения, что приводимое письмо, украшенное именем Растопчина только для авторитета и эффекта перед толпою, родилось в самых низших слоях чиновничества, в том сословии, над которым разразился указ 1809 года об экзаменах. Это подтвердилось отчасти и исследованием. Один экземпляр письма был захвачен полициею у служившего при герольдии титулярного советника Алексеева, показавшего, что он получил его от губернского секретаря Мылова и раздал в несколько рук. Император Александр, уже находившийся в то время при армии и которому управлявший Министерством полиции Вязмитинов отослал это письмо в Вильну, возвращая его 13 мая, писал, что «нужно добраться подробно, ктó сочинитель подобных бумаг», и что «cиe письмо уже дошло до него и другим путем». Вследствие того по полицейскому розыску было отобрано в Петербурге 10 экземпляров и открыто, что к Алексееву письмо дошло уже к седьмому – все через мелких чиновников – первоначально от надворного советника Коржавина, который, однако, остался недопрошенным, потому что умер скоропостижно 28 марта. На этом дело и кончилось. Мы сочли нелишним войти в такие подробности об этой пошлой бумаге, потому что она еще и теперь некоторыми приписывается Растопчину. Бантыш-Каменский в биографии последнего, помещенной в «Словаре достопамятных людей Русской земли», именно говорит: «может быть, Растопчин далеко распространял усердие свое, как человек ошибался, но он говорил не за себя одного, за древнюю столицу, которая избрала его представителем, уполномочила ходатайствовать у престола в пользу и защиту отечества», и тут же, в выноске под строкою, означает: «письмо к Госу-
224
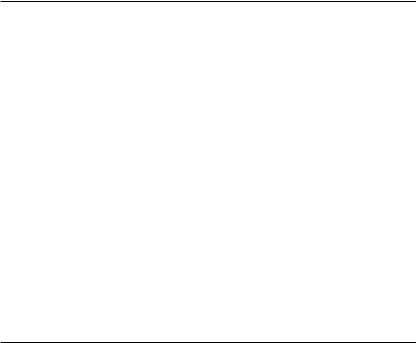
Удалениe Сперанскoго и жизнь его в заточении. 1812–1816
ложившими основу всему делу, потянулась толпа немалочисленных их клевретов. Чтó сегодня Государь слышал в обвинение Сперанского от одного, то завтра пересказывалось ему снова другим, будто бы совсем из иного источника, и такое соглаcиe вестей, естественно, должно было поражать Александра: он не подозревал, что все эти разные вестовщики – члены одного и того же союза.
Такими путями введен был в заблуждение благодушный Монарх. В беспокойстве духа от предстоявшей войны, увлеченный и близкими к нему людьми, и передаваемою через них молвою народною, обманутый искусно представленным ему призраком злоумышления и той черной неблагодарности, которая наиболее должна была уязвить его возвышенную и рыцарскую душу, Император Александр решился в виду грозных политических обстоятельств принесть великую для его сердца жертву.
II
Здесь мы должны ввести в наш рассказ новое лицо, хотя и постороннее началу и развитию описываемого нами события, но оставшееся, как кажется, не без влияния на его развязку.
дарю графа Растопчипа от 17 марта 1812 года» (т. III, стр. 124). Г. Лонгинов также разделяет убеждение, что письмо было действительно от Растопчина. В оставленных после себя записках (на французском языке) граф Растопчин, упомянув кратко о происхождении и карьере Сперанского и о возбужденной им против себя неприязни Двора и всего народа, прибавляет: «г. Сперанский был удален через пять дней после моего приезда в Петербург. Как он пал жертвою сокровенной и оставшейся нераскрытою интриги, то ссылка его возбудила слух, будто бы обнаружена какая-то его измена. В этой истории публичная молва вздумала было приписать некоторую роль и мне, хотя никто, конечно, не удивился более меня случившемуся, когда оно дошло до меня на следующий день. Я до сих пор уверен, что причиною ссылки Сперанского были внушения господ N.N.*, принесших его
вжертву мнимому общему мнению. Пользуясь в то время значительным доверием при Дворе, оба эти лица пожелали еще более упрочить свое положение низвержением соперника, который и по своим дарованиям, и по привычке к нему Государя казался им опасным. Таково, однако ж, было действие, – довольно, к несчастью, обыкновенное, – клеветы, что Сперанский прослыл в народе за злодея, изменившего своему Монарху, и что его имя поставили рядом с именем Мазепы». Истинное письмо Растопчина, несколько позднейшее, которое мы приведем в следующей главе, доказывает, впрочем, что он и сам, по крайней мере впоследствии, едва ли не разделял это народное убеждение.
*Здесь названы те два лица, о которых и мы выше упомянули, но которых имена мы умалчиваем, потому что слух или хотя бы и распространенное до некоторой степени
впублики мнение еще не составляют ни судебной, ни даже исторической улики, а других доказатедьств у нас в руках нет.
225

Часть третья
В 1802 году, при обозрении Александром Дерптского университета, проректор Паррот, пользовавшийся европейской известностью как естествоиспытатель, приветствовал его замечательною речью.
Молодой Монарх, сочувствовавший всему прекрасному, был особенно увлечен этим приветствием и пожелал видеть Паррота у себя. Личность оратора поддержала приятное впечатление, произведенное его речью, и с тех пор Александр, неведомо для массы, поставил дерптского профессора в такие к себе отношения, которые уничтожали все лежавшее между ними расстояние. Паррот не только был облечен правом, которым и пользовался очень часто, писать к Государю в тоне не подданного, а друга о всем, что хотел, о предметах правительственных, домашних, сердечных, не только получал от него самого письма самые задушевные, но и при каждом своем приезде из Дерпта в Петербург шел прямо в Государев кабинет, где по целым часам оставался наедине с царственным хозяином. Александр со всем порывом свойственной ему сердечной теплоты искал приобрести и упрочить дружбу скромного ученого, нередко доверяя ему свои тайны, и государственные, и частные. Этот ученый был честный, умный, добросовестный немец, конечно, более мечтатель, нежели практик, но всегда правдивый и прямодушный; с бескорыстием и смелостью человека, ничего не искавшего и даже отклонявшего всякое внешнее изъявление милости, он предался Александру всею душою и далекий от всякой лести, строгий в своих приговорах как совесть постепенно присвоил себе роль и права сокровенного ментора. Проведя начало 1812 года в Петербурге и собравшись выехать обратно в Дерпт, он вечером 15 марта имел прощальную аудиенцию; но увлеченный чрезвычайною важностью происходившего при ней разговора, решился на следующий день еще написать Государю. И разговор их, и это письмо были – о Сперанском. Должно думать, что именно перед самою аудиенциею нашего профессора заговорщики успели нанести государственному секретарю, доносами и лжеизобличениями своими, последний, решительный удар. Письмо Паррота от 16 марта проливает новый свет на это дело; из него видно даже, что коварно обманутый Монарх готов был, в первом гневе, превзойти самые дерзкие надежды врагов Сперанского. Вот выписка из этого примечательного письма1:
1 Паррот вел переписку с Государем на французском языке, на котором и это письмо было написано.
226

Удалениe Сперанскoго и жизнь его в заточении. 1812–1816
«Одиннадцать часов ночи. Вокруг меня глубокая тишина. Сажусь писать моему возлюбленному, моему боготворимому Александру, с которым не хотел бы никогда разлучаться. Уже сутки прошли со времени нашего прощания, но сердце влечет меня еще раз возобновить его на письме... В минуту, когда Вы вчера доверили мне горькую скорбь Вашего сердца об измене Сперанского, я видел Вас в первом пылу страсти и надеюсь, что теперь Вы уже далеко откинули от себя мысль расстрелять его. Не могу скрыть, что слышанное мною от Вас набрасывает на него большую тень; во в том ли Вы расположении духа, чтобы взвесить справедливость этих обвинений, а если б и были в силах несколько успокоиться, то Вам ли его судить; всякая же комиссия, наскоро для того наряженная, могла бы состоять только из его врагов. Не забудьте, что Сперанского ненавидят за то, что Вы слишком его возвысили. Никто не должен стоять над министрами, кроме Вас самих. Не подумайте, чтобы я хотел ему покровительствовать: я не состою с ним ни в каких сношениях и знаю даже, что он несколько меня ревнует к Вам. Но если бы и предположить, что он точно вивовен, чего я еще вовсе не считаю доказанным, то все же определить его вину и наказание должен законный суд, а у Вас в настоящую минуту нет ни времени, ни спокойствия духа, нужных для назначения такого суда. По моему мнению, совершенно достаточно будет удалить его из Петербурга и надсматривать за ним так, чтобы он не имел никаких средств сноситься с неприятелем. После войны всегда еще будет время выбрать судей из всего, что около Вас найдется правдивейшего. Мои сомнения в действительной виновности Сперанского подкрепляются, между прочим, и тем, что в числе второстепенных доносчиков на него находится один отъявленный негодяй, уже однажды продавший другого своего благодетеля1. Докажите умеренностью Ваших распоряжений в этом деле, что Вы не поддаетесь тем крайностям, которые стараются Вам внушить. От находящих свой интерес следить за Вашим характером не укрылась, я это знаю, свойственная Вам черта подозрительности и ею-то и хотят на Вас действовать. На нее же, вероятно, рассчитывают и неприятели Сперанского, которые не перестанут пользоваться открытою ими слабою струною Вашего характера, чтобы овладеть Вами...»
1 Это лицо названо в письме Паррота по фамилии. Оно уже встречалось и в нашей книге.
227

Часть третья
17 числа, в воскресенье, Сперанский спокойно обедал у своей приятельницы, г-жи Вейкардт, как приехал туда фельдъегерь с приказанием ему явиться к Государю в тот же вечер, в 8 часов. Приглашение это, которому подобные бывали очень часто, не представляло ничего необыкновенного, и Сперанский, заехав домой за делами, явился во дворец в назначенное время. В секретарской ожидал приехавший также с докладом князь Александр Николаевич Голицын; но государственный секретарь был позван прежде. Аудиенция продолжалась слишком два часа. Сперанский вышел из кабинета
вбольшом смущении, с заплаканными глазами и, подойдя к столу, чтоб уложить в портфель свои бумаги, обернулся к Голицыну спиною, вероятно, с намерением скрыть свое волнение. Замкнув портфель, он скорыми шагами удалился из комнаты и уже только выйдя
вдругую, как бы вдруг опомнился, отворил опять до половины дверь
ипротяжно, с особенным ударением, выговорил: «прощайте, ваше сиятельство!» Это прощание было надолго1. Более девяти лет предопределено было Сперанскому не видаться ни с Голицыным, ни с самим Александром... Вслед затем Государь выслал сказать Голицыну, что никак не может его принять, а просит приехать завтра, после засадания Государственного совета.
Но в чем же состояли тайны этой аудиенции? Если б передавать теперь на бумаге все, что было говорено о ее содержании, как в то самое время, так и впоследствии, будто бы со слов самого Сперанского или даже со слов Императора Александра, то нам, при отсутствии всяких основательных поводов к предпочтению одного свидетельства другому, пришлось бы внести сюда целый ряд сказаний самых разнообразных
инередко совершенно между собою противуречащих; а могилы – без-
1Вся эта сцена описана нами со слов самого князя Голицына. Другой очевидец, генерал-адъютант граф Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, бывший в тот день дежурным и тоже находившийся в секретарской комнате, со своей стороны рассказывал нам, что Сперанский при выходе из кабинета был почти в беспамятстве, вместо бумаг стал укладывать в портфель свою шляпу и, наконец, упал на стул, так что он, Кутузов, побежал за водою. Спустя несколько секунд, дверь из Государева кабинета тихо отворилась и Александр показался на пopoге, видимо, растроганный: «еще раз прощайте, Михайло Михайлович», – проговорил он и потом скрылся. М.А. Дмитриев в своей статье, под заглавием «Мелочи из запаса моей памяти» (Москвитянин, 1834, т. II, отд. I, стр. 109), к рассказу об этой сцене, схожему с нашим, прибавляет, что в секретарской комнате, кроме князя Голицына, дожидался еще и министр юстиции И.И. Дмитриев. Но оба очевидца, на которых мы выше сослались, о присутствии тут Дмитриева ничего не упоминали.
228

Удалениe Сперанскoго и жизнь его в заточении. 1812–1816
молвны1. Поэтому не повторяя здесь изустных рассказов, сложившихся большею частию понаслышке, даже по догадкам, мы ограничимся только передачею того, на что есть несомненные письменные доказательства. Ими утверждаются два следующих обстоятельства: во-первых, Александр, исчисляя бывшему своему любимцу причины, побуждавшие его с ним расстаться, умолчал, может быть, по чувству великодушия, а может быть, уже и сам начав сомневатъся в своем сомнении, о главной – именно о взведенном на Сперанского извете в измене и преступных сношениях с неприятелями России. Это ясно из Пермского письма, в котором Сперанский, конечно, прежде всего и со всею силою восстал бы против такого гнусного извета, но в котором он писал только: «я не знаю с точностью,
вчем состояли секретные доносы, на меня взведенные. Из слов, кои,
при отлучении меня, Ваше Величество сказать мне изволили, могу только заключить, что были три главных пункта обвинений: 1) что финансовыми делами я старался расстроить государство; 2) привести налогами
вненависть правительство; 3) отзывы о правительстве»; во-вторых, нет между тем никакого сомнения, что донос об измене в самом деле существовал и что ему, по крайней мере в первую минуту, Александр дал некоторую веру. Это ясно из вышеприведенного письма Паррота, ясно
ииз дневника, веденного Сперанским по возвращении с поста Сибирского генерал-губернатора. Хотя дневник этот большею частью до того краток, что многое из его содержания представляет теперь одни за-
1Сперанский в своих разговорах не только с близкими к нему, но и с посторонними, нередко бывал сообщителен и откровенен болеe чем, может быть, в его положении позволяли обыкновенные условия придворной и светской жизни. Но касаться последних объяснений с ним Императора Александра и вообще подробностей аудиенции 17 марта 1812 года он упорно избегал, даже и при деланных ему вопросах. Так, когда купец Попов, бывший в Перми первым поверенным всех рассказов опального о делах
илюдях той эпохи (это объяснится подробнее ниже), раз вздумал завести речь о том, как происходило прощание с ним Государя, Сперанский с крайним неудовольствием вдруг совсем замолк, после чего Попов уже никогда более не отваживался с ним снова о том заговаривать. Даже при частых беседах о своем прошедшем с дочерью отец всегда обходил последнее свидание с Императором Александром, а на вопросы ее отвечал, что про то должен ведать и быть в том судьею – один Бог; однажды же при настояниях ее узнать сколько-нибудь более он не в шутку рассердился на нее и запретил впредь всякие подобные расспросы. После этого позволительно думать, что если Сперанский
ибыл действительно когда-нибудь вынужден говорить с кем-либо другим о прощальной своей аудиенции, то или лишь отыгрывался от назойливого любопытства общими фразами, или, может быть, рассказывал дело так, как ему представлялось соответственнейшим в отношении к личности слушателей; последние же при передаче слышанного ими другим могли опять расцвечивать этот рассказ прикрасами собственной фантазии.
229
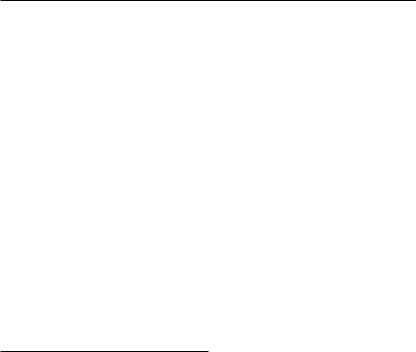
Часть третья
гадочные иероглифы; но под 31 августом 1821 года мы находим в нем следующее замечательное место: «Работа у Государя Императора. Пространный разговор о прошедшем. Донос якобы состоял в сношении с Лористоном и Блумом1... Вообще, кажется, начало и происшествие сего дела забыты. Confusion, intrigues, commérages. En s’occupant des choses, on néglige les hommes. Но все в руке Провидения, всегда справедливого, всегда милосердного».
Из дворца государственный секретарь проехал к Магницкому, но застал только его жену, утопавшую в слезах; мужа в тот же вечер внезапно увезли в Вологду. Возвратясь к себе, Сперанский был встречен министром полиции Балашовым2 и правителем канцелярии Министерства Де-Сангленом. Они ожидали его прибытия для опечатания его кабинета. У подъезда стояла почтовая кибитка. Тот, для кого она была приготовлена, попросил только позволения отложить некоторые из своих бумаг, чтобы переслать их, в особом пакете за его печатью, при нескольких, тут же им написанных строках Государю. Балашов согласился3. Потом надо было ехать. У Сперанского не достало духа разбудить тещу и дочь, чтобы проститься с ними. Он благословил только дверь их спальни и оставил записку, которою приглашал обеих отправиться вслед за ним по миновании зимы4. Когда и это было кончено, уже поздно ночью, частный
1Лористон был в 1812 году французским, а Блум – датским послом при нашем Дворе.
2В записках, оставленных Балашовым и по разным другим предметам, довольно подробных и любопытных, об этом собственно обстоятельстве упомянуто только вскользь следующими немногими словами: «В марте 1812 года имел я очень тяжелое мне поручение отобрать все бумаги у Сперанского и Магницкого и послать каждого из них, с полицейским офицером, в дальние губернии под надзор».
3В пакете было несколько тайных дипломатических депеш, взятых Сперанским из Министерства иностранных дел без особого на то высочайшего разрешения, что послужило потом поводом к увольнению от службы Жерве, бывшего посредником в доставлении сказанных депеш, и к заключению в крепость выдававшего их советника Министерства Бека. Между тем это открытие чрезвычайно обрадовало неприятелей Сперанского, дав им случай – как сам он выразился – «всю громаду их лжи прикрыть некоторою истиною». В сущности тут было одно, конечно не совсем скромное, любопытство, которое Сперанский оправдывал (в Пермском письме) тем, что, «стоя в средоточии дел, он всегда и по этим предметам имел доступ к Государю и все вести, помещавшиеся в депешах иностранных дипломатов, всегда в тысячу раз лучше и подробнее знал, нежели сами они».
416 марта 1823 года Сперанский писал своей дочери, уже опять из Петербурга: «сейчас вспомнил, что сегодня 16 марта. Что будет завтра? Думаю, ничего; но что было тому ровно 11 лет? Что было, когда Лиза моя проснулась и не нашла своего родного? Его между тем вело за руку Провидение, вело, сохраняло, утешало, даже забавляло как ребенка. В сем только отношении день сей будет для меня всегда незабвенным».
230
