
- •Теоретические проблемы становления человеческого общества
- •Возникновение праорудийной деятельности. Стадо ранних предлюдей
- •Эпоха архантропов — начальная стадия становления человеческого общества
- •15). В области тонкой моторики расположен третий очаг интенсивного развития (71. С. 15).
- •Эпоха палеоантропов — заключительная стадия становления человеческого общества
- •Завершение становления человеческого общества. Возникновение рода и человека современного физического типа
- •Принятые сокращения
- •Использованная литература
- •Человеческой истории
- •I [оздний классический палеоантроп из Ла Феррасси (Франции) (реконструкция м. М. Герасимова) . О Вход в пещеру Шанидар (Ирак) — место находки палео-а нтропов.
Оглавление
Предисловие — 3
Глава первая
Теоретические проблемы становления человеческого .общества — 5
Глава вторая
Возникновение праорудийной деятельности. Стадо ранних предлюдей — 44
Глава третья
Возникновение производственной деятельности. Стадо поздних предлюдей — 89
Глава четвертая
Превращение стада поздних предлюдей в праобщество формирующихся людей — 107
Глава пятая
Археология и палеоантропология о начале социогенеза и его основных этапах — 142
Глава шестая
Эпоха архантропов — начальная стадия становления человеческого общества — 176
Глава седьмая
Эпоха палеоантропов — заключительная стадия становления человеческого общества — 204
Глава восьмая
Завершение становления человеческого общества. Возникновение рода и человека современного физического типа — 256
Заключение — 293
Принятые сокращения — 296
Использованная литература — 298
Ю.И.Семенов
На заре
человеческой истории
Москва «Мысль» 1989
ББК 63.3(0)2 СЗО
РЕДАКЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНОМУ РАБОЧЕМУ ДВИЖЕНИЮ
Рецензенты — доктор философских .чаук. профессор X. Н. Момджян, доктор исторических наук А. И. Першиц
На форзаце —
Австралопитек африканский — один из ближайших предков человека (реконструкция 3. Еуриана)
0504010000-122 004(01) - 89
81-88
ISBN 5-244-00092-6
© Издательство «Мысль». 1989
Предисловие
а
![]()
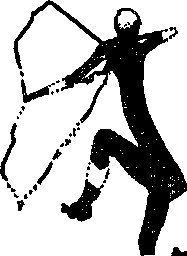
Предлагаемая работа — не первый труд автора, посвященный этой проблеме. Те, кто давно уже интересуется вопросами антропогенеза и социогенеза, возможно, знакомы с моей монографией «Как возникло человечество», опубликованной в 1968 г. И у них естественно должен возникнуть вопрос об отношении между этими двумя работами. Не представляет ли новая работа переработанный вариант ранней? На этот вопрос может быть дан только один ответ — отрицательный. Это совершенно новое исследование, новое не только по структуре, но в значительной степени и по содержанию.
В переходе от стада животных к человеческому
обществу можно выделить два основных переломных момента: переход от стада животных — предшественников человека к формирующемуся обществу (праобще-ству) и переход от формирующегося общества к готовому, сложившемуся обществу. В книге «Как возникло человечество» достаточно полно и детально рассмотрен лишь второй переломный момент. Что же касается первого, то он был затронут лишь в самых общих чертах. О самом главном — зарождении «скелета» общества — системы производственных, социально-экономических отношений сказано очень мало. И это не случайно. В конце 50-х — начале 60-х годов, когда была написана книга «Как возникло человечество», наука не давала материала для конкретных суждений по этому вопросу.
За истекшие более чем два десятилетия положение резко изменилось. Во-первых, впервые в истории науки было проведено множество исследований поведения обезьян, включая человекообразных, в естественных условиях. Во-вторых, получила развитие научная дисциплина, которую за рубежом именуют экономической антропологией, а у нас — экономической этнографией. Огромный материал, собранный ею, дал возможность реконструировать первоначальную форму первобытных производственных отношений и выявить объективную логику их эволюции.
Все это, вместе взятое, сделало возможным перекинуть мост от биологической формы движения материи к социальной, раскрыть внутренний механизм зарождения и формирования производственных отношений.
Генезис производственных отношений — главное в предлагаемой вниманию книге. Но вполне понятно, что содержание ее этим далеко не исчерпывается. Становление общества — формирование не только социально-экономических, но и всех социальных отношений вообще. В книге рассматривается хозяйство и образ жизни наших далеких предков — формирующихся людей, а где возможно, и их духовная жизнь.
Разумеется, в книге уделяется внимание и второму переломному моменту, но меньше. Основные положения по этому вопросу, выдвинутые мною более двадцати лет назад, не только не были поставлены под сомнение, но, наоборот, получили подтверждение в новом материале, который и приводится в книге.
Глава первая
Теоретические проблемы становления человеческого общества

настоящему времени археологами обнаружены десятки, если не сотни тысяч каменных орудий, относящихся к самой ранней эпохе развития человечества. Тем не менее восстановление эволюции каменной индустрии этого периода является делом нелегким. У археологов нет единства мнений по многим вопросам. Отсутствует, в частности, даже общепризнанная периодизация эволюции каменной техники.
Трудно восстановить и историю формирования физического типа человека, хотя в распоряжении науки имеется значительное число остатков формирующихся людей. В этой области еще много спорного и нерешенного. Исследователи, например, предлагают разные схемы эволюции человека, нередко значительно отличающиеся друг от друга, по-разному решают вопрос о факторах, определивших переход от животного к человеку, и т. п.
Однако самой трудной является задача реконструкции процесса становления человеческого общества, т. е. формирования общественных отношений. От самих этих отношений ничего не сохранилось, ибо они, как известно, не представляют собой чего-то вещественного, не имеют физического существования.
Из-за отсутствия прямых данных о характере общественных отношений в начальную эпоху человеческой
истории мы можем основываться только на косвенных. Но если даже прямые данные (остатки людей, каменные орудия) можно интерпретировать по-разному, то тем более это относится к косвенным. Любая более или менее детальная реконструкция процесса становления общества неизбежно является гипотетической.
В условиях, когда данных мало и все они косвенные, первостепенное значение приобретают общетеоретические положения, которыми руководствуется исследователь в своей попытке нарисовать более или менее конкретную картину становления общественных отношений.
Проблема социального и биологического. Самой важной проблемой, без правильного решения которой невозможно рассчитывать на объективное воссоздание процесса становления общественных отношений, является вопрос о том, что такое общество и что, следовательно, нужно понимать под социальным. Выявление природы социального предполагает выяснение его отношения к биологическому. Присуще ли общество только человеку, или же оно существует и в животном мире? От того или иного ответа на этот вопрос зависит сам подход к решению проблемы социогенеза.
Наряду с видом, популяцией и другими, подобными им, группировками у части животных существуют и такие, все члены которых тесно связаны, находятся в постоянном взаимодействии, знают друг друга и отличают от посторонних животных. Такие группы можно было бы назвать зоологическими объединениями или просто объединениями. Если под обществом понимать просто совокупность индивидуумов, которые живут в постоянном взаимодействии друг с другом, то зоологические объединения с неизбежностью придется признать обществами. Именно такую позицию занимает подавляющее большинство зарубежных исследователей. Они постоянно пишут об «обществах», «общественной жизни» животных, о «социальной организации», «социальной структуре», «социальных отношениях», «социальных традициях», вообще о «социальном» у животных (425; 432; 492). Подобная же терминология встречается и в советской литературе (98. С. 843; 134. С. 21—22). С такой точки зрения социальное присуще и животным, и человек — одно из многих общественных животных.
Но в животном мире безраздельно господствуют биологические закономерности. В нем нет ничего, что не относилось бы к биологической форме движения материи, нет ничего надбиологического, суперорганического. Если социальное существует и в животном мире, то это означает, что оно представляет собой одно из проявлений биологического.
Логичным из этого был бы вывод, что общество человека есть одно из зоологических объединений, а сам он представляет собой по своей сущности лишь биологическое существо. Некоторые из исследователей так и делают (434. С, 478). Однако далеко не все. Несводимость явлений общественной жизни людей к биологическому слишком бросается в глаза.
Несомненен факт, что все люди, живущие на Земле в течение последних 35 — 40 тыс. лет, относятся к одному биологическому виду — Homo sapiens. Но столь же бесспорно, что поведение людей, входящих в состав разных обществ, нередко существенно различается. И речь идет не о всегда возможных индивидуальных или групповых вариациях поведения. У людей, входящих в состав разных обществ (а если общества являются антагонистическими, то и в состав разных классов), могут быть совершенно различные потребности, стимулы, мотивы поведения и т. п. Совершенно ясно, что эти различия имеют свою основу не в структуре организма людей и не в биологии человека вообще, а в чем-то ином, отличном от биологического.
Многие зарубежные исследователи объявляют такой основой культуру, имея в виду прежде всего или исключительно духовную культуру. Рождаясь и вырастая в том или ином обществе, человек усваивает его культуру, которая и делает человека тем, что он есть. Именно культура, а не структура организма, не биология определяет поведение людей. Культура у данных исследователей выступает одновременно и как присущее исключительно лишь человеку, и как качественно отличное от биологического и более высокое, чем последнее. С этим связана нередко встречающаяся в их работах характеристика культуры как надбиологического, суперорганического (305; 323; 493. С. 12-17).
Суперорганический, надбиологический характер культуры ярко проявляется в особенностях ее развития.
И здесь, как и в биологическом развитии, имеют место преемственность, наследование, передача информации от одного поколения к другому. Но если при биологическом развитии информация записывается в молекулах ДНК и передается через зародышевые клетки, то в данном случае она закрепляется в сознании и передается через посредство примера, показа и языка. В результате эволюция культуры может идти независимо от биологического развития.
Некоторые исследователи особо выделяют внегенети-ческую форму передачи информации от поколения к поколению и именно в наличии ее у человека видят суть его отличия от животных. При этом они пользуются для ее обозначения терминами «социальное наследование» или «социальная преемственность». Соответственно они говорят о «социальной программе», противопоставляя ее «генетической программе» (48. С. 36—39; 49. С. 16 — 17; 154. С. 199). Однако, несмотря на применение термина «социальный», а не «культурный», их взгляды ничем по существу не отличаются от тех, которые развиваются исследователями, видящими специфику человека в наличии у него культуры.
Подобного рода понимание сущности человека обусловливает определенный подход к проблеме перехода от биологического к более высокому качеству. Она выступает как вопрос становления не общества, а культуры.
С тем, что культура присуща только человеку и что она представляет собой суперорганическое, надбиологи-ческое явление, можно согласиться. Но нельзя принять взгляд, по которому в наличии у человека культуры заключена сущность его отличия от животных, точно так же как нельзя признать правильной точку зрения, по которой суть отличия человека от животных заключается в наличии у него сознания, хотя сознание и присуще одному только человеку.
Нельзя ограничиться объявлением культуры основой, программой поведения человека. Необходимо ответить на вопрос, что лежит в фундаменте этой программы, почему в данном обществе существуют именно такие, а не иные нормы, культурные ценности, почему культура этого общества именно так, а не иначе ориентирует, побуждает действовать человека. Иными словами, нужно найти объективную основу той части культуры, той
части общественного сознания, которая определяет человеческое поведение, выступает как его программа.
Эту объективную основу культурной программы исследователи, стоящие на охарактеризованных выше позициях, отыскать не могли. У них получалось, что единственным источником существующей в сознании культурной программы поведения является само сознание. Суперорганическое, надбиологическое развитие выступало как чисто духовный процесс, имеющий источник в себе самом. Иначе как идеалистической такую точку зрения не назовешь. Изменить подобный характер этой концепции не могут и встречающиеся у некоторых ее сторонников утверждения о том, что культура не зависит от человека, управляет человеком и т. п. (492. С. 13-14).
Выявление идеалистической сущности рассмотренной выше концепции стало одной из причин возникновения в последние десятилетия среди ученых немарксистского направления течений, известных под названием «этология человека» и «социобиология». Сторонники их не могли примириться с фактическим отрицанием материальной основы человеческого поведения. Как они указывали, в господствующей суперорганической теории культуры все нормы поведения человека, т. е. действий людей по отношению друг к другу, выступают по существу в качестве «свободных продуктов человеческого воображения» (244. С. 9). Стремясь преодолеть эту точку зрения, они начали искать материальный базис социального поведения человека и, как казалось им, нашли его в биологии человека, в его генотипе.
По их мнению, человеческое социальное поведение в своих основных чертах так же генетически запрограммировано, как и анатомия человека. И эти генетически запрограммированные поведенческая и анатомическая системы являются единым базисом человеческой социальной организации. Иначе говоря, культура не есть что-то суперорганическое, это простб своеобразное проявление биологического. Мир человека есть часть животного царства, всецело подчиненная законам биологии (459; 497).
Таким образом, стремление преодолеть идеализм в понимании отличия человека от животных, который господствовал у одной части западных исследователей,
10/Н
привело другую их часть к отрицанию существования качественной грани между человеком, с одной стороны, и животными — с другой, т. е. к биологизации человека. Преодолеть как тот, так и другой взгляды, раскрыть подлинную сущность человека, а тем самым и его качественное отличие от животных можно только с позиций марксизма. Марксизмом впервые было установлено, что кроме общественных отношений, определяемых сознанием, зависящих от сознания, существуют и такие, которые не только не зависят от сознания людей, но, наоборот, определяют их сознание. Этими объективными общественными связями являются производственные, социально-экономические отношения, имеющие своей основой производительные силы.
Система этих отношений — не что иное, как особый, своеобразный вид материи — социальная материя, или общественное бытие. Эта социальная материя бестелесна, невещественна, не представляет собой физической реальности. Но при всем этом она обладает основным свойством материи — быть первичной по отношению к сознанию. Именно эта социальная материя является объективным источником той части сознания, которая определяет поведение людей, т. е. общественного сознания в узком смысле слова. Она выступает как объективная сила, которая определяет интересы людей, их отношение ко всем общественным явлениям, их желания, намерения. Именно она — основной источник главных мотивов человеческой деятельности. Тем самым она всецело определяет сущность поведения людей.
Своеобразие социальной материи помимо всего прочего заключается в том, что она в отличие от природной материи в норме не может существовать без сознания. Социально-экономические связи в норме не могут существовать иначе как в волевых отношениях, а последних, разумеется, нет и быть не может без воли и сознания. Общественное бытие первично по отношению к сознанию только в том смысле, что оно само, не определяясь взглядами людей, т. е. не завися от них, в конечном счете детерминирует сознание и волю людей, а тем самым все их поступки и соответственно их волевые отношения.
Таким образом, ошибка тех исследователей, которые видели специфику человека в наличии у него культуры,
заключалась вовсе не в признании бытия суперорганического, надбиологического, а в том, что суперорганическое они по существу прямо или в конечном счете сводили к сознанию, к духовной деятельности людей.
Человеческое сознание, бесспорно, является суперорганическим. Однако кроме духовного суперорганического существует материальное суперорганическое, представляющее собой основу первого. Только выявление материального суперорганического, социальной материи дало возможность раскрыть коренное отличие общества человека от объединения животных.
Человеческое общество всегда существовало и существует как совокупность отдельных конкретных обществ. Каждое такое общество представляет собой определенную совокупность людей, связанных воедино прежде всего системой социально-экономических отношений. Как любое другое материальное явление, эта система функционирует и развивается независимо от сознания и воли людей, которых она связывает. Наличие в основе любого конкретного общества такой материальной системы с неизбежностью превращает его в особый организм, развивающийся по законам, отличным от законов развития живой материи. Именно это и дает основание говорить об общественном развитии как о новой, высшей форме движения материи, отличной от биологической. Социальная форма движения материи не исчерпывается изменениями одной лишь социальной материи, т. е. системы производственных отношений. Она включает в себя также движение социально организованной материи, прежде всего развитие производительных сил. Развитие общества, разумеется, не сводится к движению материи. Оно включает в себя развитие общественного сознания и всех вообще общественных явлений, а не только социальной и социально организованной материи. Но в своей основе, в своей сущности оно представляет собой прежде всего особую форму движения материи.
Возникновение и развитие объединений животных не есть самостоятельный процесс, идущий по своим специфическим законам, а всего лишь момент эволюции того или иного биологического вида, всецело определяемой законами биологии. Ни с какой другой, более высокой, чем биологическая, формой движения материи мы здесь
не сталкиваемся. Ничего суперорганического, надбиологического в животном мире не существует.
В свете материалистического понимания истории под социальным следует понимать исключительно лишь особую форму движения материи, качественно отличную от биологической, и все порожденное ею, а под обществом — не любое объединение, а лишь такое, которое представляет особый организм, развивающийся по законам, отличным от биологических. И в этом значении общество присуще только людям. Ни о каком социальном или даже его зачатках в животном мире не может быть и речи.
В животном мире нет обществ. В нем существуют только зоологические объединения. Соответственно и связи внутри этих объединений не могут быть названы социальными. Однако нужда в термине, который мог бы служить для обозначения этих связей, имеется. Так как от слова «объединение» трудно образовать прилагательное, то таким термином могло бы стать слово «гре-гарный» (от латинского цгех — стадо). В таком случае можно было бы говорить о грегарных связях, грегарной организации, грегарной структуре, о грегарных и одиночных животных, грегарной и одиночном образах жизни и т. п.
Открытие социальной материи, а тем самым выявление качественного отличия общества человека от объединений животных позволило вскрыть сущность отличия человека от животных.
Животное есть только биологическое существо, есть только биологический организм. В том, что животное есть биологический организм, заключена его сущность. Именно потому, что животное только биологическое существо, оно таково, каков его биологический организм. Иное дело — человек. Он прежде всего общественное существо. Именно в этом заключается его сущность, именно этим он качественно отличается от животных. Сущность человека как общественного существа проявляется в том, что он таков, каков тот социальный организм, в состав которого он входит. Лежащая в основе социального организма система социально-экономических отношений, детерминируя сознание и волю людей, определяет мотивы и стимулы их деятельности, а тем самым все их поведение, все их прочие отношения.
С изменением социально-экономической структуры общества, происходящей в результате прогресса производительных сил, меняется содержание общественной воли, исчезают одни и появляются другие правила и нормы поведения, другие социальные ценности, изменяются намерения людей, мотивы и стимулы их деятельности. Как писал К. Маркс, «сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» (1.С.З).
Но, став общественным существом, человек не перестал быть биологическим организмом. У него, как и у любого животного, существуют определенные биологические потребности или инстинкты, удовлетворение которых — необходимое условие его бытия. К ним относятся прежде всего пищевой и половой инстинкты, а также инстинкт самосохранения. Но если у животного эти и другие биологические потребности являются единственными и поэтому безраздельно господствующими стимулами его поведения, то у человека они всегда подчинены другим мотивам, имеющим корни не в его материальной биологической организации, а в материальной структуре общества. Социальные стимулы и мотивы, как правило, господствуют над биологическими. Ими прежде всего определяется поведение человека. Удовлетворение биологических потребностей всегда контролируется обществом. Оно происходит в определенных рамках, с соблюдением определенных норм и правил. Биологическое у человека всегда опосредовано социальным, пронизано им, находится под его постоянным воздействием и контролем.
Будучи социальным существом, человек не может жить без общества. Именно возникновение общества кладет грань между животным и человеком. Человек появляется там, где возникает общество, зарождается социальное.
Проблема начала и конца социогенеза. Как явствует из сказанного, общество — это не всякая совокупность индивидов, а только такая, в основе которой лежат социально-экономические, производственные отношения, представляющие собой особый вид материи. Поэтому становление общества есть прежде всего возникновение этого вида материи, появление новых отношений, каче
ственно иных, чем те, что существуют в животном мире, превращение зоологического объединения в особого рода организм, развивающийся по законам, отличным от биологических.
Ясно, что социально-экономические, производственные отношения не могут возникнуть и существовать без производства. Человек, будучи социальным существом, с неизбежностью является существом производящим. Производство есть необходимый признак человека. Только возникновение производственной деятельности могло привести к появлению общества и человека.
Отличие человека от животных и человеческого общества от объединений животных столь велико, что не может быть речи о мгновенном превращении животного в человека и объединения животных в общество. С неизбежностью должен был существовать длительный период превращения животного в человека и объединения животных в человеческое общество, т. е. становления человека (антропогенеза) и формирования общества (социогенеза).
Антропогенез и социогенез — это вовсе не два самостоятельных, параллельно протекающих процесса. Становление человека есть прежде всего формирование его сущности. Но сущность человека — вся совокупность общественных отношений. Таким образом, формирование человека есть прежде всего становление всей совокупности общественных отношений, т. е. становление общества. Иначе говоря, антропогенез и социогенез представляют собой две неразрывно связанные стороны одного единого процесса — становления человека и общества (антропосоциогенеза).
Отсюда следует, что начало антропогенеза было одновременно и началом социогенеза, конец антропогенеза — одновременно и концом социогенеза. В самом общем виде положение о существовании периода становления общества, являющегося одновременно и периодом формирования человека, содержится у Ф. Энгельса. Он писал о формировавшихся людях и готовом человеке, только вместе с которым возникло общество, о стадах первобытных людей (3. С. 489—491; 6. С. 138), у В. И. Ленина встречается упоминание о первобытном стаде, обуздывавшем зоологический индивидуализм, о стаде первобытных людей (8. С. 10; 9. С. 232.).
Но свое конкретное воплощение это положение получило в созданной советскими антропологами и отчасти археологами научной теории, именуемой концепцией двух скачков (24; 121; 121 а; 155; 156). Согласно этой теории, в эволюции человека существуют два узловых пункта, два переломных момента. Первый и наиболее важный из них — это отмеченный началом изготовления орудий переход от стадии животных предшественников человека к стадии формирующихся людей, каковыми являются питекантропы и другие сходные с ними формы (архантропы) и неандертальцы (палеоантропы). Второй скачок — происшедшая на грани раннего и позднего палеолита смена палеоантропов людьми современного физического типа (неоантропами, Homo sapiens), являющимися подлинными, готовыми людьми. Первый скачок означал появление социальных закономерностей, второй — установление их полного и безраздельного господства в человеческих объединениях.
Коллектив формирующихся людей — питекантропов и неандертальцев уже не был чисто биологическим объединением и в то же время еще не был подлинным человеческим обществом. Он представлял собой становящееся человеческое общество.- Формирующиеся люди жили в формирующемся обществе, за которым постепенно закрепилось название первобытного человеческого стада.
Возникнув, теория двух скачков получила широкое признание в советской науке. Однако в последней существуют и другие точки зрения, сторонники которых выступают с критикой теории двух скачков.
Одна группа ученых считает, что уже питекантропы, не говоря о неандертальцах, были подлинными, готовыми людьми, а их объединения — подлинным человеческим обществом. Поэтому термин «первобытное стадо» к последним неприменим (28; 76). Фактически отрицая наличие периода становления человеческого общества, сторонники данной точки зрений по существу настаивают на том, что превращение стада животных предшественников в человеческое общество произошло сразу. Тем самым и антропогенез или рассматривается ими как разовый акт, или сводится лишь к формированию физического типа человека.
Другую точку зрения, противоположную первой,
16/П
отстаивал Б. Ф. Поршнев. Ни питекантропы, ни неандертальцы, полагал он, ни в каком смысле не были людьми. Они были животными и только животными. Соответственно их объединения носили чисто биологический характер. Первыми людьми были появившиеся на грани раннего и позднего палеолита неоантропы. Только с их появлением зародилось человеческое общество (109; 111. С. 104-105, 373, 389).
Источником как той, так и другой точки зрения является односторонний подход к реальному процессу становления человека и общества. В период антропосо-циогенеза человеческое общество одновременно и существует, ибо оно уже возникает, и не существует, ибо оно еще не возникло. Всякое становление обязательно является единством бытия и небытия. Сторонники первой точки зрения абсолютизируют момент бытия общества, игнорируя момент небытия, сторонники второй — раздувают момент небытия, игнорируя момент бытия. Одни абсолютизируют первый скачок, превращая его в единственный, другие — второй скачок, тоже превращая его в единственный.
Кроме прямых защитников первой точки зрения к ней в той или иной степени близки и некоторые другие исследователи, также выступающие против теории двух скачков. Главным объектом их критики является термин «первобытное человеческое стадо», используемый сторонниками последней концепции.
Вкладывая в этот термин свой собственный смысл, а именно понимая «первобытное стадо» как чисто биологическое объединение, некоторые из них приписывают сторонникам теории двух скачков полное отрицание существования социальных связей, вообще социального в период, предшествующий возникновению неоантропа (38. С. 129). Подобное утверждение не имеет под собой оснований. Термин «первобытное стадо» применяется сторонниками концепции двух скачков для обозначения становящегося человеческого общества, представляющего собой систему формирующихся социальных связей. Особенно активно исследователи, относящиеся к данному течению, возражают против применения термина «первобытное стадо» для обозначения коллективов людей второй половины раннего палеолита вообще, мусть-ерского времени в особенности. Они называют эти
объединения и общинами, и локальными группами, и, наконец, зарождающимися родами (87. С. 40; ИЗ. С. 138-146; 120. С. 76 и др.)
Из работ этих исследователей не всегда можно уяснить, чем, по их мнению, являлся коллектив людей начала раннего палеолита, который часть их считает возможным называть стадом,— чисто биологическим объединением или же формирующимся обществом. Столь же нелегко из этих работ понять, что, по мнению их авторов, представляли собой объединения людей второй половины раннего палеолита, которые стадом уже не являлись,— формирующееся или уже готовое общество. Большинство этих ученых, по-видимому, склоняется ко второй точке зрения.
В качестве доказательства они ссылаются на новые данные, свидетельствующие о существовании в мустьер-скую эпоху магических обрядов и долговременных жилищ. Но материалы о тотемизме и магической обрядности в мустье давно уже имеются в распоряжении науки. Что же касается долговременных жилищ, то сам по себе факт их бытия в мустье не может рассматриваться как доказательство того, что в данную эпоху мы имеем дело с уже готовым, а не с формирующимся обществом.
Но никакие данные науки не ставят под сомнение факт, который лег в основу вывода, что формирование человеческого общества завершилось лишь с переходом от раннего палеолита к позднему. В течение всего раннего палеолита шел процесс эволюции человека как биологического вида. Между архантропами, палеоантропами и неоантропами существуют значительные морфофизио-логические различия, которые, во всяком случае, не могут быть оценены ниже, чем видовые. Процесс трансформации архантропов в палеоантропов и последних в неоантропов с точки зрения биологии не может рассматриваться иначе, как процесс видообразования, возникновения новых биологических видов.
С появлением неоантропа развитие человека как биологического вида прекратилось. Это отнюдь не значит, что человек вообще перестал развиваться. Наоборот, только с появлением неоантропа началось стремительное, непрерывно убыстряющееся развитие человечества. За какие-то 35—40 тыс. лет человечество прошло путь
от каменного топора до атомных электростанций и космических кораблей, от первобытнообщинного строя до социализма. Но все эти колоссальные изменения не затронули человека как биологический вид. Человек коренным образом изменился, но не как биологическое, а как социальное существо.
Все это неопровержимо свидетельствует, что с появлением неоантропа развитие человека стало безраздельно определяться социальными закономерностями, что только вместе с ним возникло готовое, сформировавшееся человеческое общество. С появлением неоантропа завершился не только антропогенез, но и социогенез, закончился единый процесс становления человека и общества — антропосоциогенез.
Но если не появилось никаких новых данных, которые заставили бы пересмотреть верхнюю границу периода формирования человека и общества, то с нижней границей этого периода обстоит сложнее.
Социальное, как уже указывалось, нетелесно, невещественно. Поэтому о его зарождении можно судить лишь по косвенным данным. Социальное невозможно без материального производства. Только последнее способно его породить. Социальное существо есть обязательно существо и производящее. Производство есть необходимый признак человека. Отсюда делался и нередко сейчас делается вывод, что оно представляет собой и достаточный признак человека, что любое производящее существо обязательно является человеком, что именно возникновение производственной деятельности кладет грань между животным и человеком.
Это отнюдь не означает, что сторонники такой точки зрения полагали, что наличие одной лишь производственной деятельности само по себе делает данное существо человеком. Они как само собой разумеющееся принимали, что производящее существо должно было обладать сознанием и жить в системе социальных связей. И основания для такого допущения были.
Столь характерная для животных приспособительная деятельность заключается в использовании для удовлетворения потребностей существующих в природе готовых вещей. В отличие от нее производственная деятельность заключается в создании для удовлетворения потребностей таких вещей, которые в природе
в готовом виде не существуют. Материальное производство есть преобразование вещей, есть материальное творчество.
Деятельность по созданию той или иной вещи, необходимой для удовлетворения потребности, может привести к желаемому результату только в том случае, если она будет определяться этим желаемым результатом. Однако он не может существовать к началу деятельности в качестве объективного предмета. В противном случае она была бы излишней. Результат деятельности не может существовать к ее началу иначе, как в форме субъективного образа желаемого предмета, т. е. лишь как идеальное.
Результат деятельности, существующий к ее началу в форме идеального, есть не что иное, как цель. Цель, определяя течение деятельности, превращает ее в процесс своей собственной реализации. Необходимым условием успешного реального преобразования мира является его идеальное преобразование. Материальное творчество предполагает и требует существования идеального, духовного творчества. Производственная деятельность требует особой формы отражения мира, не существующей у животных,— активного, творческого отражения, включающего в себя в качестве необходимого момента создание образов вещей, которые еще не существуют и не существовали ранее.
Создание образов еще не существующих вещей невозможно без отражения еущественного общего, необходимого в реально существующих явлениях. Поэтому в качестве необходимого момента данная форма отражения мира должна включать в себя специальные образы общего, необходимого. Такими образами могут быть только понятия и системы понятий, которые в свою очередь невозможны без слов, без языка.
Иначе говоря, производственная деятельность требует и предполагает существование понятийного мышления, т. е. сознания, и языка. Человеческое сознание не только отражает мир, но и через практику обратно воздействует на него, обеспечивая преобразование мира в соответствии с поставленными целями. Человеческое сознание, взятое в его обратном воздействии на материю, есть не что иное, как человеческая воля. Познание необходимости и действие в соответствии с познанной
необходимостью делают человека свободным. Сознание, воля, свобода присущи только человеку.
Производственная деятельность в принципе, в идеале является целенаправленной, волевой, свободной. Именно это дало самое важное основание для вывода, что она может быть только сознательной, волевой, целенаправленной, но ни в коем случае не условнорефлекторной, какой является приспособительная деятельность животных. Отличие в содержании с неизбежностью определяет различие в форме.
Правда, некоторыми советскими исследователями изложенный выше взгляд на соответствие между содержанием и формой деятельности не разделяется. Однако возражение у них вызывает вовсе не тезис о том, что производственная деятельность может быть только волевой, сознательной. Они выступают с критикой положения о том, что приспособительная деятельность всех, включая высших, животных может быть только условнорефлекторной, но не волевой, сознательной. Как утверждают они, данные науки неопровержимо доказывают, что поведение высших животных не может быть сведено к одним лишь условным рефлексам, что у этих животных существует интеллект, разум, рассудок, мышление, что их деятельность является в известной степени разумной (79; 84. С. 11-12; 91. С. 121).
Подобного рода взгляды далеко не новы. Все эти идеи отстаивались более ста лет назад представителями зоопсихологии и были подвергнуты в свое время жесточайшей критике И. П. Павловым (105. С. 108, 229, 262268). Гаданиям зоопсихологов И. П. Павлов противопоставил научную, материалистическую концепцию поведения животных и отражения мира в их мозгу — теорию высшей нервной деятельности.
Решение вопроса о том, существует ли у животных мышление, необходимо предполагает достаточно четкое раскрытие содержания этого понятия. На наш взгляд, под мышлением нужно понимать исключительно лишь ту форму отражения мира, которая была обрисована выше: активное творческое отражение объективной реальности в форме понятий, существующее только в неразрывном единстве с языком. Это отражение мира имеет своей основой не только материальные процессы в мозгу, но и социальную форму движения материи,
поэтому оно, включая в себя указанные процессы, не сводится к ним, не исчерпывается ими. Оно представляет собой особую форму движения, имеющую свои особые законы, качественно отличающиеся от тех, что управляют физиологическими процессами в мозгу. Такое отражение объективной реальности может быть порождено только производством. Оно представляет собой не биологическое, а социальное явление. И поэтому если понимать под мышлением, интеллектом, разумом подобного рода отражение, то о таком мышлении у животных не может быть и речи.
Современные сторонники зоопсихологии, утверждая, что мышление, интеллект существуют и у животных, вкладывают в эти слова какое-то совершенно иное понимание, которое они, к сожалению, не раскрывают, что делает дискуссию с ними нередко спором о словах. Но если обратиться к существу дела, то необходимо прежде всего исходить из того, что животное есть существо только биологическое. Из этого следует, что любой процесс отражения мира в мозгу любых животных, не исключая высших, есть явление только биологическое, без остатка сводимое к биологическим процессам. Биологическое и только биологическое явление представляет собой поведение животных. Именно такое понимание лежит в основе созданной И. П. Павловым теории высшей нервной деятельности животных. Как неоднократно подчеркивал И. П. Павлов, отражение мира в мозгу животных является исключительно процессом лишь высшей нервной деятельности (165. С.58,81,120, 178, 262, 279, 313, 350, 362, 369, 390, 451, 467 и др.).
И в свете понимания животного как существа только биологического допущение, что отражение в мозгу животных не сводится к условнорефлекторной деятельности, может означать только предположение о существовании в мозгу животного кроме процессов высшей нервной деятельности еще каких-то более высоких, но тем не менее биологических и только биологических процессов. И если бы такая более высокая биологическая форма отражения мира была действительно обнаружена, то ее нельзя было бы назвать мышлением, ибо это означало бы, с одной стороны, игнорирование глубокого качественного различия между этим чисто биологическим явлением и активным отражением мира в мозгу
человека, представляющим собой не биологическое, а социальное явление, а с другой — неоправданное противопоставление этой биологической формы отражения мира другим, биологическим же формам его отображения.
Но в действительности к настоящему времени никаких других, более высоких, чем высшая нервная деятельность, биологических процессов в мозгу животных не обнаружено. Все зоопсихологи, говорящие о наличии у животных интеллекта, мышления, ограничиваются описанием тех пли иных актов поведения животных и истолкованием их по аналогии с человеческими, даже не пытаясь раскрыть их реальные механизмы. Павловская теория высшей нервной деятельности и в настоящее время является единственной концепцией, раскрывающей механизм поведения животных и отражения мира в их мозгу. II этой теории вполне достаточно, чтобы без остатка объяснить все поведение любого высшего животного, не исключая человекообразных обезьян (33).
Некоторые из современных зоопсихологов, стараясь обосновать свои положения, обращаются к авторитету И. П. Павлова, который, как они утверждают, тоже допускал существование у животных кроме процессов высшей нервной деятельности и мышления (79. С. 10). И. П. Павлов действительно говорил о существовании у животных «элементарного, конкретного м ы ш л е н и я», но под последним он понимал отнюдь не какую-то форму отражения мира в мозгу животного, отличную от высшей нервной деятельности, а саму высшую нервную деятельность (105. С. 386).
В отличие от взгляда, согласно которому вся деятельность высших животных является условнорефлекторной, вывод, что производственная деятельность может быть только волевой, сознательной, не ставился под сомнение. Он находился в полном соответствии с теми фактами, которыми располагала наука.
Один из этих фактов состоит в том, что производственная деятельность не была обнаружена ни у одного из ныне существующих видов животных, включая и самых высших. И этот факт остается неопровергнутым, несмотря на появившиеся в последние десятилетия работы, в которых в той или иной форме утверждается о существовании производственной деятельности у жи
вотных, особенно у высших человекообразных обезьян (111. С. 386-388; 252. С. 472; 492).
О производственной деятельности можно говорить только в том случае, если мы сталкиваемся с изготовлением орудий при помощи орудий. Ни у одного из современных животных в естественных условиях такой деятельности не обнаружено. У них встречаются, как правило лишь спорадически, действия по использованию готовых природных предметов в качестве орудий. Наблюдается у них обработка природных предметов при помощи органов тела. Обработанные предметы также могут использоваться в качестве орудий. Наконец, в условиях неволи у обезьян были отмечены случаи воздействия одним предметом на другой, результатом которых было их изменение. Но эти измененные предметы если и использовались в качестве орудий, то только в условиях эксперимента, как подражание действиям экспериментатора.
~ Т-аким образом, из всех ныне живущих существ производственная деятельность присуща одному лишь человеку, который обладает сознанием, волей и живет в обществе. Еще несколько десятилетий назад не вступали в противоречие с положением о том, что производственная деятельность может быть только сознательной и никакой другой, данные палеоантропологии и археологии.
20—30 лет назад древнейшими из известных производящих существ были питекантропы. Принадлежность этих существ к числу людей не вызывала у специалистов сомнений. Их морфофизиологическая организация вообще, структура мозга в частности хотя и отличалась от той, что присуща современным людям, но в целом носила достаточно отчетливый человеческий характер.
Лет 35—40 назад имелись определенные основания полагать, что непосредственными предками питекантропов были человекообразные обезьяны, в принципе не отличавшиеся ни по своей морфологической организации, ни по характеру деятельности от современных антропоидов. Отсюда напрашивался вывод, что производственная деятельность пришла непосредственно на смену обычной животной деятельности по присвоению предметов природы, подобной той, что наблюдается у со
временных высших приматов, и что производственная деятельность с самого начала была не условнорефлек-торной, а волевой, сознательной.
С открытием австралопитеков последние, а не ископаемые человекообразные обезьяны стали рассматриваться как непосредственные предшественники питекантропов. Австралопитеки значительно отличались от человекообразных обезьян. Они передвигались на задних конечностях, имели свободные верхние конечности и систематически использовали камни, палки и другие природные предметы для защиты от врагов и для охоты. Однако они не производили, а лишь приспосабливались к среде с помощью природных орудий. Чисто животной была их морфологическая организация. Поэтому вопрос об их природе не вызвал среди специалистов больших споров. Они, несомненно, были не людьми, а животными, хотя и очень своеобразными, отличными от всех ныне существующих животных. Точнее всего их можно было бы назвать предлюдьми (прегомининами).
В 60-х годах XX в. выяснилось, что непосредственными предшественниками питекантропов были не австралопитеки, а происшедшие от них существа, которые при своем открытии были названы Homo habilis, что означает «человек умелый» (331). Вокруг вопроса о природе хабилисов развернулась оживленная дискуссия. Одни исследователи настаивают на том, что хабилисы являются людьми, другие рассматривают их как животных.
Чтобы понять суть проблемы и споров вокруг нее, нужно обратиться к фактам. К настоящему времени можно считать установленным, что хабилисы изготовляли орудия при помощи орудий, т. е. производили. Столь же твердо установлено, что по своей морфофизиологиче-ской организации, включая структуру мозга, они сколько-нибудь существенно от австралопитеков не отличались. Как вынуждены признать даже самые упорные защитники человеческого статуса хабилисов, если бы у последних не было найдено орудий, то никто из исследователей не усомнился бы в том, что они являются животными (137. С. 83).
Иначе обстоит дело с питекантропами. Для определения их принадлежности к людям достаточно анализа одной лишь их морфологической организации. И этот факт признается всеми антропологами, не исключая тех,
кто считает хабилисов людьми (138. С. 33; 157. С. 89 — 90; 220. С 50 и др.).
Таким образом, грань, отделяющая животную мор-фофизиологическую организацию от человеческой, проходит не между австралопитеками и хабилисами, а между хабилисами и питекантропами. Все это, вместе взятое, дает основания для вывода, что только с переходом к питекантропам начали формироваться такие специфические человеческие особенности, как мышление, воля, язык.
Иначе говоря, накопленный к настоящему времени наукой материал настоятельно требует отказа от положения о том, что производственная деятельность с самого начала была сознательной и волевой. В свете новых данных стало ясно, что производственная деятельность, с одной стороны, мышление и язык — с другой, возникли не одновременно, а с разрывом примерно в 0,5 — 1 млн лет.
И эти открытия не только не опровергают, а, наоборот, подтверждают и одновременно конкретизируют положение о том, что труд породил сознание. Хотя производственная деятельность в идеале выступает только как сознательная и волевая, реально она не могла возникнуть иначе как в животной форме. На это обстоятельство в свое время прозорливо указывал К. Маркс. Определив труд как сознательную, волевую, целенаправленную деятельность, К. Маркс тут же подчеркнул, что он не рассматривает здесь «первых животнообразных инстинктивных форм труда», а предполагает труд «в такой форме, в которой он составляет исключительное достояние человека» (2. С. 189). Появлению труда как целенаправленной сознательной деятельности, по мнению К. Маркса, предшествовал период, когда «труд еще не освободился от своей примитивной, инстинктивной формы...» (там же). Говоря об инстинктивном характере первоначального труда, К. Маркс имел в виду только одно, а именно что эта деятельность не направлялась волей и сознанием, была животной по своему механизму. В свете современных данных о механизме поведения высших животных форму, в которую была облечена при своем возникновении производственная деятельность, нельзя охарактеризовать иначе как условнорефлектор-ную.
Эта форма с самого начала находилась в противоречии с производственной деятельностью, что, однако, не исключало полностью какого бы то ни было развития последней. Но рано или поздно и эта крайне ограниченная возможность была полностью исчерпана. Начиная с определенного момента дальнейшее совершенствование производственной деятельности в животной оболочке стало невозможным. Необходимым теперь стало освобождение производственной деятельности от животной формы, превращение ее в сознательную, волевую, что, разумеется, предполагало начало существенной перестройки морфофизиологической организации производящих существ, и прежде всего структуры их мозга. Если производственная деятельность возникла с хабилисами, то сознательной, волевой она начала становиться лишь с переходом к питекантропам.
Таким образом, современные данные заставляют пересмотреть то решение проблемы грани между животными и человеком, которое долгое время было общепринятым в нашей науке. Утверждая, что грань между животными и человеком создает возникновение производственной деятельности, исследователи имели в виду, что вместе с ней возникает мышление и язык. Теперь, когда выяснилось, что производственная деятельность возникла и первоначально развивалась в условнорефлек-торной форме, невозможно обойтись без четкого ответа на вопрос, что же именно кладет эту грань: переход от использования природных орудий к изготовлению орудий с помощью орудий или начало формирования мышления, воли, языка и соответственно специфически человеческой морфологической организации. Многие антропологи склоняются ко второму ответу. Они исходят из того, что без специфической человеческой морфологической организации нет человека. Поэтому они относят хабилисов не к людям, а к животным. Первыми людьми они считают питекантропов (57; 73; 158; 220; 490 и др.).
Как уже отмечалось выше, истинную грань между животными и человеком создает появление социального, прежде всего социально-экономических отношений. Но материальные социально-экономические отношения в норме не могут существовать иначе, как проявляясь в волевых общественных отношениях. Общественное бытие в норме не может существовать без общественно
го, а тем самым и индивидуального сознания. Поэтому формирование социальных отношений не могло начаться намного раньше зарождения мышления, воли, языка.
Производственная деятельность при своем возникновении была облечена в животную оболочку не только условнорефлекторного поведения, но и зоологического объединения. На определенном этапе объективной необходимостью стало освобождение производства как от той, так и от другой животной оболочки. Началось формирование мышления и языка и одновременно становление материальных, производственных отношений. Не только материальные социально-экономические отношения не могли оформиться без мышления и языка, но и мышление и язык не могли появиться без материальных, производственных отношений, ибо по самой своей сущности они представляют собой явления социальные. Материальное социальное и духовное социальное могут существовать в норме только вместе. Общественное бытие и общественное сознание могут формироваться только в единстве.
Начало формирования общественного бытия и общественного сознания было одновременно и началом становления человеческого общества, а тем самым и человека. Формироваться человеческое общество стало, таким образом, не с появлением хабилисов, а с переходом от них к питекантропам. Только последние были людьми, еще формирующимися, но людьми. Что же касается хабилисов, то они являются не людьми, а животными, но животными особого рода — предлюдьми. Если австралопитеков можно охарактеризовать как ранних предлю-дей, то хабилисов — как поздних предлюдей, непосредственно предшествующих людям.
Таким образом, новые открытия палеоантропологии и археологии не только не поставили под сомнение созданную К. Марксом и Ф. Энгельсом трудовую теорию антропосоциогенеза, но, наоборот, подтвердили ее. Одновременно они в значительной степени позволили ее конкретизировать. Только возникновение производственной деятельности могло привести к появлению человека и общества. Труд действительно создал человека, однако далеко не сразу. Потребовался 0,5—1 млн лет для того, чтобы развитие производственной деятельности привело к превращению животных в первых, еще
только формирующихся людей, а их объединения — в формирующееся общество. И еще 1,6 млн лет понадобилось для того, чтобы развитие производственной деятельности смогло привести к появлению готовых людей и готового общества. Начавшийся 1,6 млн лет назад процесс становления человека и общества завершился лишь 35 — 40 тыс. лет назад.
Проблема сущности социогенеза. На протяжении всего этого длительного периода мы имеем дело с обществом еще не готовым, а формирующимся. Его чаще всего называют первобытным человеческим стадом. Более точным, на наш взгляд, был бы термин «праобще-ство».
Становление общества было процессом формирования первой формы его существования — первобытного общества. Последнее всегда существовало как совокупность значительного числа конкретных отдельных обществ, социальных организмов, которые чаще всего именуются первобытными общинами. Становление общества было, таким образом, генезисом первобытной общины. Формирующиеся социальные организмы представляли собой становящиеся первобытные общины. Поэтому их с полным правом можно было бы назвать также праобщинами. Праобщество всегда реально существовало как совокупность конкретных отдельных пра-обществ, или праобщин.
Формирование человеческого общества было генезисом первобытнообщинной социально-экономической формации. Именно это обстоятельство послужило основанием для включения этапа становления общества в первобытнообщинную формацию в качестве первой стадии развития последней.
Непосредственная преемственная связь между пра-обществом и первобытным обществом несомненна. Бесспорно, что эпоха праобщества была временем становления именно первобытнообщинных, а не каких-либо других общественных отношений.
Но это не должно заслонять того несомненного факта, что в эпоху праобщества формировалось не просто первобытное общество, а человеческое общество вообще, возникали не просто первобытнообщинные отношения, а общественные отношения вообще. И как становящееся общество праобщество противостоит всему гото
вому человеческому обществу вообще, начиная с первобытного и кончая коммунистическим. Качественная грань, отделяющая праобщество от общества, является более глубокой, чем рубежи между первобытным обществом и первой классовой общественно-экономической формацией, между рабовладельческим и феодальным обществами и т. д., т. е. между общественно-экономическими формациями, ибо первая отделяет стадию превращения стада животных в человеческое общество от стадии развития готового, сформировавшегося общества, а вторые — одну ступень развития готового общества от другой его ступени.
История человечества прежде всего делится на два основных периода: историю праобщества (период становления общества) и историю собственно человеческого общества (период развития готового, сформировавшегося общества). Стадии развития последнего — общественно-экономические формации, первой из которых является первобытнообщинная. Если при изучении истории готового человеческого общества мы можем абстрагироваться от биологических особенностей человека, то при изучении праобщества мы обязательно должны принимать во внимание не только социальное, но и биологическое.
Формирование человеческого общества представляло собой превращение животного объединения в социальный организм, становление материальных социально-экономических отношений, а тем самым и всех прочих общественных отношений. Основой этого процесса было развитие производственной деятельности.
Для материальных социально-экономических отношений существовать — значит определять волю, а тем самым поведение людей. Начало становления социально-экономических отношений представляло собой зарождение новых, социальных по своей природе факторов поведения, завершение этого процесса — превращение этих факторов в безраздельно господствующие, всецело определяющие поведение человека.
Вполне понятно, что становление новых, социальных факторов поведения не могло не быть процессом оттеснения на задний план ранее безраздельно господствовавших биологических факторов поведения — инстинктов, процессом их ограничения социальными фактора
ми. Становление человеческого общества было процессом обуздания зоологического индивидуализма, завершившимся утверждением человеческого коллективизма. Социальное могло возникнуть только в упорной борьбе с биологическим.
Изложенное выше понимание становления человеческого общества является не единственным в науке. Против него выдвигались различного рода возражения. Особенную критику вызывало положение о том, что становление человеческого общества было процессом обуздания животного эгоизма и что социальное возникло как противоположность биологическому и утверждалось лишь в упорной борьбе с последним.
Правда, полное отрицание существования зоологического индивидуализма у животных предков человека встречается лишь у очень немногих авторов, да при этом оно иногда сочетается у них с признанием существования этого явления у формирующихся людей (9а. С. 105; 10. С. 32). Большинство авторов не ставят под сомнение существование этого явления среди животных. Однако они считают, что говорить о господстве в животном мире ничем не сдерживаемого зоологического индивидуализма нельзя (135. С. 268-270; 140. С. 94, 97). По мнению некоторых из них, в животном мире наряду с зоологическим индивидуализмом существует и зоологический коллективизм. Как утверждают они, у животных существует общественный, или стадный, инстинкт, который не только заставляет их объединяться, но и побуждает отдельную особь жертвовать своей жизнью для благополучия стада или взаимной выручки. И у предков человека зоологический коллективизм был той силой, которая обуздывала и обуздала зоологический индивидуализм (135. С. 268-270).
Другие авторы не употребляют понятия «животный коллективизм». Однако они также утверждают, что у обезьян, например, существуют «какие-то биологические механизмы для ограничения зоологического индивидуализма, включая и половой инстинкт...» (140. С. 103) и даже запреты половых связей между родственниками по материнской линии (там же. С. 97).
Из всего этого следуют выводы о том, что социальное имеет глубокие биологические корни (135. С. 268), что «уже в высших типах зоологических объединений были
зачатки и предпосылки некоторых форм поведения и институтов, таких, как учет интересов коллектива и кровного родства по материнской линии, экзогамия, взаимопомощь и некоторых других, позднее развившихся у древнейших людей...» (140. С. 103), что социальные связи представляют собой не столько отрицание биологических, сколько их продолжение на более высоком уровне (9а. С. 105).
Авторы почти всех указанных работ ссылаются на новейшие данные этологии вообще, этологии приматов в особенности, которые, по их мнению, опровергают тезис о господстве в мире животных зоологического индивидуализма. Как утверждают они, выдвинутые ими положения основываются на этих данных, являются необходимым выводом из них (9а. С. 104—105; 140. С. 94-97).
Однако в действительности ничего нового в их положениях нет. Об общественных, или нравственных, инстинктах, о коллективизме в мире животных, о подавлении отдельными особями своих потребностей во имя интересов объединения много писалось и в XIX в. и в начале XX в. (62; 63; 78; 133). Этими же авторами отстаивался взгляд на отношения в обществе человека как на дальнейшее развитие связей, существовавших в объединениях животных. Различие только в том, что они прямо характеризовали объединения животных как общества и соответственно писали не о зачатках и предпосылках социального, а о подлинном социальном в животном мире. Эту традицию, как мы уже видели, продолжает большинство современных буржуазных исследователей, работающих в этой области. И они отнюдь не ограничиваются использованием терминов «общество», «социальная организация», «социальные отношения» в применении к миру животных. Стирая грань между человеческим обществом и объединением приматов, они пишут, что в последнем содержатся все основные элементы первого (432. С. 230). Некоторые из них, ссылаясь на новейшие данные этологии, заходят так далеко, что обнаруживают в животном мире и право собственности, построенное на тех же принципах, что и право собственности у человека, и чувства чести, справедливости, собственного достоинства (80. С. 44—46) и даже коммунистические отношения (260. С. 144).
Только материалистическое понимание истории дает возможность понять сущность социального, а тем самым и его качественное отличие от биологического. Исследователи, не придерживающиеся его, с неизбежностью должны были положить в основу отличения социального от биологического не сущность, а внешние признаки. Обнаружив в животном мире явления, в том или ином отношении сходные с теми, что имеют место в человеческом обществе, они дают им такое же объяснение, что и последним, и соответственно объявляют социальными, а не биологическими. Но социализация животных с неизбежностью влечет за собой биологизацию человека. Наблюдая в человеческом обществе явления, в том или ином отношении сходные с теми, что отмечены в животном мире, эти же исследователи дают им такое же, что и последним, объяснение и характеризуют их как биологические. Причем если социальными именуются явления, которые можно истолковать как выражение коллективизма, то биологическими — явления прямо противоположного характера. Так, например, совместные действия по защите от врагов в животном мире истолковываются как проявление чувства товарищества, солидарности членов коллектива, а войны в человеческом обществе — как результат действия унаследованного от животного мира инстинкта агрессивности (166; 346).
Практически при таком подходе всякая грань между социальным и биологическим стирается. А она существует. И в основу различения социального и биологического должны быть положены не внешние признаки явлений, а их внутренняя сущность. Какие бы черты сходства ни существовали, например, между потреблением добычи после совместной охоты у гиеновых собак, с одной стороны, и потреблением продукта охоты у низших охотников-собирателей — с другой, они представляют собой совершенно разные вещи. И наоборот, какое бы огромное различие ни существовало между коллективизмом и индивидуализмом в человеческом обществе, они имеют между собой фундаментальное общее. Корни и того и другого уходят в конечном счете к системе производственных отношений, они представляют собой социальные явления, порожденные социальными факторами.
Новейшими данными о поведении обезьян в естественных условиях, о структуре их объединений наука в основном обязана исследованиям зарубежных ученых, которые в подавляющем большинстве своем очень далеки от материалистического понимания общества. Ни один исследователь никогда не излагает факты такими, какими они являются сами по себе. Вольно или невольно он дает им определенное истолкование. И важно уметь отличить собственно факты от той интерпретации, в какой они поданы. Необходим критический анализ. Вопреки утверждениям некоторых советских ученых (140. С. 95—96; 141. С. 54) учет родства по материнской линии и запрет половых отношений между родственниками по матери, тенденция к экзогамии у обезьян представляют собой не факты, а всего лишь определенную их интерпретацию.
Несмотря на утверждения некоторых советских ученых (135. С. 269), не является фактом существование социального инстинкта. Здесь тоже налицо определенная интерпретация фактов, причем такая, которая не выдерживает никакого критического анализа. Действительно, допустим, что такой инстинкт существует на самом деле и что именно его действие лежит в основе существования объединения животных. Но ведь совершенно ясно, что объединение людей в общество обусловлено действием совершенно иных факторов. В основе человеческого общества лежит не какой-либо инстинкт, а производство. Однако если упомянутый выше инстинкт способен привести к образованию только зоологических объединений, но не общества человека, то он никак не может быть назван общественным. В результате некоторые авторы предпочитают его именовать не социальным, а стадным (134).
Однако для объяснения возникновения и существования у животных объединений нет никакой нужды прибегать к допущению даже стадного инстинкта, не говоря уже о социальном. Как особенно ясным стало в результате последних исследований, возникновение и существование у животных стад, стай диктуется вовсе не каким-то внутренним влечением к объединению себе подобных, а потребностью приспособления к среде, потребностью удовлетворения таких инстинктов, как оборонительный и пищевой. Основным фактором, определя-
3'«/35
ющим образование стад у обезьян, является потребность в защите от хищников. Хищники объединяются в стаи в основном потому, что совместная охота более результативна, чем одиночная. И кроме того, наличие стаи создает более благоприятные условия для обеспечения существования потомства. II совершенно неудивительно, что во всех сколько-нибудь серьезных работах по этологии, увидевших свет в последнее время, понятие социального или стадного инстинкта совершенно не употребляется.
Как уже указывалось, авторы, которые пользуются понятием социального или стадного инстинкта, понимают его как фактор, который заставляет животных не только объединяться, но и заботиться друг о друге, жертвовать собой во имя интересов коллектива и т. п. Если оставить в стороне отношения внутри муравейников, роев пчел и тому подобных образований, которые представляют собой_ ле объединения, а своеобразные составные биологические организмы, то науке известен только один вид повседневной систематической заботы животных о себе подобных. Это забота взрослых животных о детенышах. Здесь мы действительно сталкиваемся с действием определенного инстинкта. Но он не может быть назван социальным даже в том случае, если под обществом понимать объединения животных. Не может быть он назван и стадным. Забота о потомстве отмечена и у тех видов животных, у которых нет ни стад, ни стай. И конечно, во всех этих случаях не может быть и речи о действиях во имя интересов коллектива или даже просто объединения. Если здесь и можно говорить о чьих-либо интересах, то только об интересах вида, причем слово «интерес» в данном контексте требует серьезных оговорок.
Инстинкт, о котором идет речь, обычно именуется материнским или родительским. Точнее всего его называть инстинктом заботы о детенышах, или, короче, попечительским. Он входит в качестве составной части в инстинкт воспроизводства вида, другим компонентом которого является половой инстинкт.
Попечительский инстинкт удовлетворяется путем заботы о других, причем заботы об удовлетворении таких инстинктов этих других, как пищевой и оборонительный. Поэтому хотя подобного рода действия индивида
и диктуются стремлением к удовлетворению своего инстинкта и в этом смысле являются индивидуалистическими, все же охарактеризовать их как выражение зоологического индивидуализма было бы вряд ли правильным. Вероятно, их можно было бы охарактеризовать как проявления зоологического альтруизма, столь же качественно отличного от альтруизма в человеческом обществе, как отличен зоологический индивидуализм от человеческого. Однако ни о каком коллективизме, пусть даже животном, здесь не может быть и речи. Попечительский инстинкт существует и у одиночных животных.
Животный альтруизм представляет собой феномен, ограниченный во всех отношениях. Он носит четко выраженный односторонний характер и охватывает крайне ограниченную сферу отношений животных: заботу проявляют только взрослые животные и лишь По отношению к детенышам, причем только до тех пор, пока детеныши не окажутся способными заботиться сами о себе. В животном мире отсутствует систематическая забота взрослых особей друг о друге. В отношениях между взрослыми животными, не входящими в составной биологический организм, зоологический альтруизм не имеет места.
Попечительский инстинкт — единственная в животном мире потребность организма, удовлетворение которой состоит в проявлении заботы о других. Все прочие инстинкты данного животного индивида требуют и предполагают его заботу исключительно лишь о себе самом. Таковы пищевой и половой инстинкты, а также инстинкт самосохранения.
Все эти инстинкты в отличие от попечительского, являющегося альтруистическим, можно было бы охарактеризовать как индивидуалистические. Пищевой инстинкт взрослого индивида может быть удовлетворен одним и только одним способом — путем обеспечения им самого себя пищей. И этот инстинкт непосредственно побуждает только к одному — поискам пищи для себя и только для себя. Если животное при этом найдет столько пищи, что ее хватит и для других, или если найденной пищей завладеет другая особь, то это ни в малейшей степени не меняет общей направленности его поведения. Оно ориентировано на заботу только о самом себе. Фак-
торами, ориентирующими животное на заботу о самом себе, являются и другие индивидуалистические инстинкты.
Именно эта детерминированность поведения животного действием индивидуалистических зоологических инстинктов, направленность, ориентация поведения животного на заботу о самом себе и есть то, что принято называть зоологическим индивидуализмом. Индивидуалистические зоологические инстинкты определяют поведение животного во всех сферах его деятельности, кроме области отношений к детенышам. В этом смысле можно с полным правом говорить о господстве зоологического индивидуализма в животном мире, взятом в целом.
Некоторые авторы отождествляют зоологический индивидуализм с зоологической агрессивностью. И затем, ссылаясь на то, что эта агрессивность в свете новейших наблюдений над стадными взаимоотношениями животных оказалась мнимой, они делают вывод об отсутствии в животном мире зоологического индивидуализма (9а. С. 105). Прежде всего следует подчеркнуть, что зоологическая агрессивность вовсе не является мнимой. Многочисленные факты ее проявления описаны в трудах этологов, не исключая и самых последних (81. С. 68, 85, 90, 104-106; 173; 257; 380; 419; 481). Но самое главное заключается в том, что ставить знак равенства между зоологическим индивидуализмом и зоологической агрессивностью нельзя. С одной стороны, зоологическая агрессивность может быть связана с проявлением попечительского инстинкта, т. е. животного альтруизма. Это имеет место тогда, когда детенышам угрожает опасность со стороны других животных. С другой стороны, зоологический индивидуализм вовсе не обязательно проявляет себя в конфликтах, стычках, драках. Если, например, пищи много и она рассеяна в пространстве, то никаких конфликтов между животными может и не быть, хотя поведение каждого из них и в данном случае направлено на удовлетворение своего и только своего инстинкта.
Когда стремления двух животных к удовлетворению своих инстинктов сталкиваются, то это тоже совсем не обязательно ведет к стычке. Если между ними устанавливаются отношения доминирования, то подчиненное животное уступает доминирующему без сопротивления, отказываясь в данный момент от удовлетворения
своего инстинкта. Некоторые авторы истолковывают это явление как ограничение зоологического индивидуализма. Здесь, несомненно, имеет место подавление инстинктов одного животного другим животным. Но оно представляет собой не ограничение зоологического индивидуализма, а, наоборот, самое яркое выражение последнего. В данном случае одно животное удовлетворяет свои инстинкты, не только не считаясь с потребностями другого, но и за его счет. Зоологический индивидуализм может, разумеется, проявиться в конфликтах, стычках, драках. В таком случае он особенно нагляден. Но это всего лишь одна из форм его выражения, не более.
Зоологический индивидуализм, т. е. ориентация поведения животного на удовлетворение своих индивидуалистических инстинктов, не только не исключает, но, наоборот, в определенных условиях предполагает объединение животных для совместной деятельности. Там, где животные в одиночку оказываются не в состоянии удовлетворить свои индивидуалистические инстинкты, их стремления к удовлетворению этих инстинктов заставляют их объединяться для совместной деятельности.
Зоологический индивидуализм ни в малейшей степени не исключает возникновения между отдельными взрослыми животными чувств симпатии, привязанности. Не исключает он и актов взаимной помощи между ними, если только они не ведут к лишению одного из них возможности удовлетворить свои инстинкты. У шимпанзе, детально изученных Дж. Лавик-Гудолл, одно животное могло прийти на помощь другому, которое подверглось нападению третьего. У них же одна мать-шимпанзе в ответ на просьбу трехлетней дочери дала ей банан, когда располагала несколькими. Однако единственный банан она дать отказалась. И когда дочь попыталась вырвать его у нее, завязалась ожесточенная борьба, в ходе которой животные, сцепившись, катались по земле. Другая мать-шимпанзе вообще никогда не давала бананов своей двухлетней дочери. Когда дочь получала банан от людей, мать бросалась к ней и отнимала (81. С. 68).
Конечный вывод, к которому пришла упомянутая исследовательница, состоял в том, что, несмотря на внешнее сходство некоторых явлений, «проводить прямые параллели между поведением обезьян и поведением
человека неправильно, так как в поступках человека всегда присутствует элемент нравственной оценки и моральных обязательств, неведомых шимпанзе» (там же. С. 176). «Еще большие отличия в поведении и психике шимпанзе и человека,— продолжает Дж. ван Лавик-Гудолл,— обнаруживаются при рассмотрении мотивов, которые лежат в основе успокоительных жестов. Человеческие существа способны действовать, исходя из бескорыстных побуждений: мы можем искренне сочувствовать попавшему в беду человеку, стараемся утешить его, разделить с ним его горести. Маловероятно, чтобы шимпанзе были способны испытывать зти эмоции. Даже члены одной обезьяньей семьи, связанные между собой родственными узами, никогда не руководствуются в своих отношениях друг к другу альтруистическими принципами» (там же). Таким образом, наличие в объединении шимпанзе актов взаимной помощи ни в малейшей степени не только не отменяет, но даже и не подрывает господства в нем, как в любом другом объединении животных, зоологического индивидуализма.
Именно это господство зоологического индивидуализма стало на определенном этапе развития стада поздних предлюдей препятствием для дальнейшего развития производственной деятельности. Его обуздание стало необходимостью. И качественно новые, социальные отношения возникли первоначально как средство обуздания зоологического индивидуализма. Поэтому ошибочно рассматривать социальные связи как дальнейшее развитие биологических. Они возникли и зародились как отрицание последних. Но противоречие между производственной деятельностью и биологическими отношениями, формами животного поведения нельзя, разумеется, понимать как абсолютное. Производственная деятельность пришла в непримиримое противоречие с сущностью биологических отношений, которая заключалась в господстве внутри объединения зоологического индивидуализма, и потребовала его обуздания. Что же касается отдельных сторон биологических отношений, отдельных форм поведения, то они могли и не представлять на начальных этапах формирования человеческого общества препятствия для развития производства. Не было, например, нужды в подавлении попечительского инстинкта. Но в дальнейшем развитии альтруизм
в отношении к потомству получил и новую — социальную — основу. Не только не исчезли с переходом к пра-обществу совместные действия, но, наоборот, получили всемерное развитие. Однако теперь в их основе лежали не биологические, а социальные стимулы. Так же обстояло дело и с различными актами взаимопомощи.
Однако это не дает оснований рассматривать ни совместную деятельность в животном мире, ни взаимную помощь среди животных как зачатки социальных отношений. В лучшем случае можно говорить лишь о биологических аналогах социальных явлений, способствовавших возникновению социального.
О том, что становление человеческого общества было процессом ограничения биологических инстинктов, процессом обуздания зоологического индивидуализма, неопровержимо свидетельствуют данные социальных наук. Все конкретные общества, которые знает наука, относятся к числу готовых, сформировавшихся. И во всех этих социальных организмах, включая и самые архаичные, все биологические инстинкты, присущие человеку, находятся под контролем общества. Особенно строгим, тщательным был этот контроль в первобытных социальных организмах.
Но если в сформировавшемся обществе биологические инстинкты ограничены, введены в социальные рамки, то отсюда следует, что период, предшествовавший появлению такого общества, был временем ограничения этих инстинктов, их введения в социальные рамки, т. е. временем обуздания зоологического индивидуализма возникавшими социальными факторами. Становление человеческого общества завершилось, когда все биологические инстинкты были поставлены под социальный контроль и тем самым полностью ликвидирован зоологический индивидуализм.
Борьба социального и биологического в течение всего периода формирования общества носила упорный характер. Обуздываемый, но полностью еще не обузданный зоологический индивидуализм представлял для праобщества и пралюдей грозную опасность. Прорывы зоологического индивидуализма означали освобождение тех или иных членов праобщины из-под социального контроля, превращение индивидуалистических инстинктов в единственные стимулы их поведения. Там, где это при
обретало массовый характер, происходило разрушение социальных отношений и исчезновение социальных стимулов поведения. Все это могло привести и приводило к распаду праобщип и гибели их членов.
Ограничение проявления биологических инстинктов было объективной потребностью развития праобщества, которая с неизбежностью должна была найти свое выражение в формирующейся воле праобщины (праморали), а через нее и в воле каждого прачеловека. Необходимостью было, таким образом, появление норм поведения, ограничивающих проявление биологических инстинктов. Эти нормы с неизбежностью должны были носить негативный характер, т. е. они были запретами. Данные этнографии позволяют составить представление о том, какой именно характер носили эти первобытные запреты. Они выступали в форме табу (123. С. 275—281).
Весьма вероятно, что форму табу носили все вообще первые нормы поведения, в том числе и такие, которые имели позитивное содержание. Это связано с тем, что в праобществе все новые, социальные потребности были одновременно и потребностями в ограничении биологических инстинктов.
Становление человеческого общества с необходимостью предполагало обуздание, введение в определенные рамки таких важнейших индивидуалистических потребностей, как пищевая и половая. И в первую очередь такому ограничению должен был подвергнуться пищевой инстинкт.
Социально-экономические отношения, система которых образует основу общества, есть прежде всего отношения собственности. На ранних стадиях эволюции первобытного общества все средства производства и предметы потребления были полной собственностью коллектива, который поэтому с полным правом может быть назван первобытной коммуной. Соответственно социально-экономические отношения, лежащие в основе раннего первобытного социального организма, могут быть названы первобытно-коммунистическими, или комм у 11 а л и ("ги ч е с к и м и. Коммуналистической была и собственность на самый важный предмет потребления — пищу. Вся пища, добытая членами коллектива, причем совершенно независимо от того, была ли она добыта совместно или в одиночку, была полной собственностью
коллектива. И эта полная собственность социального организма на всю пищу могла выразиться и выражалась в одном - распределении пищи между всеми его членами, причем совершенно независимо от того, участвовали они в ее добывании или не участвовали.
Такого рода распределение часто именуют уравнительным. Однако оно не предполагает с необходимостью распределение продукта между всеми членами социального организма поровну, хотя последнее и могло иметь место. Суть такого распределения заключалась в том, что каждый член социального организма имел право на часть созданного в нем продукта исключительно лишь в силу своей принадлежности к нему. Его тоже можно было бы назвать коммуналистическим (126).
Вполне понятно, что формирование такого рода отношений собственности означало установление социального контроля над проявлением пищевого инстинкта. По всей вероятности, первые нормы, регулировавшие распределение пищи, а тем самым и ограничивавшие пищевой инстинкт, носили форму табу. Это, однако, только предположение, ибо никаких пищевых табу, которые могли бы быть истолкованы как пережитки этих первоначальных, самых древних запретов, в первобытных обществах, известных этнографам, не обнаружено.
Иначе обстоит дело с половыми запретами. В первобытных обществах существует большое количество самых разнообразных половых табу. И самой важной из всех этих норм, регулирующих отношения между полами, является экзогамия.
Экзогамия вовсе не исчерпывается требованием вступать в брак вне данной социальной группы. Другой ее стороной является абсолютный запрет всех половых (как брачных, так и внебрачных) отношений между членами данной группы. Ее можно было бы назвать агамией (от греческого «а» — не, «гамос» — брак, половая связь). И эта вторая сторона выступает главной, определяющей. Экзогамия группы — производное от ее агамии.
Единственными агамными группами являются род и фратрия, представляющая собой первоначальный род. В агамии, а не в наличии общего предка заключена сущность рода. Род может не иметь предка, и ранний,
первоначальный род его не имел. Но без агамии рода нет и быть не может.
Имеются серьезные основания полагать, что первобытное общество, по крайней мере на ранних стадиях своего развития, было родовым. Везде в первобытном обществе, где мы встречаем безродовую организацию, она возникла в результате распада родовой. Агамия была в прошлом человечества явлением всеобщим, универсально распространенным.
Агамный запрет был фундаментальным принципом поведения людей родового общества. О его значении говорит хотя бы тот факт, что в родовом обществе он был единственной нормой поведения, нарушение которой каралось смертью. Убийство сородича, как правило, прощалось коллективом, нарушение агамного запрета — никогда.
Агамный запрет был типичным табу. Его нарушение рассматривалось как такое действие, которое неизбежно каким-то таинственным образом должно было навлечь на всех членов рода неведомую, но грозную опасность. Нарушитель агамного табу выступал в глазах сородичей как человек, совершивший самое тяжкое из возможных преступлений. Именно поэтому его так жестоко наказывали.
Агамный запрет рассматривался в родовом обществе как средство нейтрализации какой-то неведомой и поэтому особенно страшной опасности, угрожающей существованию. Однако в действительности на всех этапах эволюции этого общества нарушение агамии никакой реальной опасности ни для индивида, ни для коллектива не представляло.
Возникает вопрос: могло ли у всех без исключения человеческих коллективов, рассеянных по земному шару, зародиться представление о страшной опасности, которую таят в себе половые отношения между их членами, если бы никакой такой опасности в действительности не существовало? Ответ на него, по нашему мнению, может быть только один. Опасность, которую призвана была нейтрализовать родовая агамия, действительно существовала, но в эпоху, предшествовавшую ее появлению, т. е. в дородовой период истории человечества. А это означает, что в дородовую эпоху половые отноше= ния между членами коллектива представляли для. него
реальную угрозу. Но такую опасность могли представлять только нерегулируемые, т. е. промискуитетные, половые отношения. Отсюда следует вывод, что в дородовую эпоху если не все, то по крайней мере такой животный инстинкт, как половой, еще не был введен в социальные рамки, не был до конца обуздан, ограничен. Полностью поставлен под социальный контроль он был лишь с появлением агамии и, следовательно, рода.
Но отсюда может следовать только один вывод: дородовая эпоха истории человечества совпадает с периодом становления человеческого общества. Готовое человеческое общество возникает только вместе с родом. Первобытная община возникает, таким образом, в форме рода, является общиной родовой.
Положение о том, что род возник вместе с человеком современного физического типа при переходе к позднему палеолиту, было выдвинуто советскими археологами П. П. Ефименко (50) и П. И. Борисковским (23) еще в начале 30-х годов XX в. Это мнение разделяли и все сторонники теории двух скачков. Оно выдержало проверку временем, и из него следует исходить при решении проблемы генезиса человеческого общества. Формирование человеческого общества, по крайней мере на заключительном его этапе, было процессом становления рода.
Теперь, когда установлено существование особого периода формирования человеческого общества и выявлены его границы, когда в общих чертах раскрыта сущность социогенеза и его итог, можно перейти к более конкретной реконструкции процесса превращения стада животных в социальный организм.
Глава вторая
