
Арбитраж 22-23 учебный год / Арбитражная практика № 4, апрель 2016
.pdf
серьезную роль, нежели сейчас, в становлении цивилизованного гражданского общества в России»
О стагнации юридического рынка в России, его перспективах, благотворительном забеге юристов Legal run и онлайн-арбитраже в третейском суде рассказал Андрей Васильевич Корельский, адвокат, управляющий партнер и основатель адвокатского бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры».
БИОГРАФИЯ
•В 1999 году окончил с отличием Архангельский кооперативный колледж.
•В 2004 году также с отличием окончил Юридический институт Северного (Арктического) федерального университета (ранее Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова).
•2002–2003 годы — стажировка в University of Lapland (Финляндия) на кафедре Европейского права.
•В 2005 году прошел курс повышения квалификации на юридическом факультете им. М. М. Сперанского Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
•Имеет 14-летний опыт судебной практики.
•Адвокат, управляющий партнер и основатель адвокатского бюро КИАП.
•До основания бюро работал в юридической фирме VEGAS LEX (2005–2010), занимал позицию руководителя арбитражной практики.
•Ассоциированный член Королевского института арбитров Великобритании (CIArb).
•Член International Bar Association.
•С 2015 года является членом Правления Российской арбитражной ассоциации (РАА).
•Возглавляет в бюро практику судебных споров. Основная специализация — разрешение споров, третейское судопроизводство, медиация.
•Рекомендован ведущими международными рейтингами Chambers Europe, Chambers Global, Legal 500 EMEA и Best Lawyers.

работаете управляющим партнером.
— Наша компания образовалась весной 2010 года, когда мы с моими партнерами Ильей Ищуком и Константином Астафьевым ушли из юридической фирмы VEGAS LEX. Я пришел в эту фирму в 2005 году на должность старшего юриста и создал в дальнейшем отдельную арбитражную практику.
После ухода мы хотели заниматься тем же, чем занимались ранее, создать небольшой юридический бутик с исключительно судебной специализацией. Но в первые же месяцы к нам стали поступать запросы, которые оказались более широкими, чем запланированный круг нашей деятельности; пришлось перестраиваться.
—Отчаяния не было никогда? Стартапы все-таки не у всех легко идут…
—Поначалу было непросто. Решение об уходе из прежней компании мы не готовили заранее, оно было эмоциональным и спонтанным, поэтому перестраиваться пришлось, так сказать, «с колес». Мы искали офис, и первые, с кем пришлось столкнуться, оказались мошенниками: они взяли с нас аванс на ремонт офиса, а после мы уже выяснили, что здание, в котором мы собирались снимать офис, является объектом регулярных рейдерских атак. Возможность вернуть аванс была, но только через суд. А это время, которым мы тогда не располагали, мы смотрели вперед. И буквально через несколько дней мы нашли свой первый офис, с прекрасным видом с 15 этажа на центр Москвы. Сделали там ремонт и приступили к работе.
Начинали втроем, а сейчас у нас 30 юристов, из них 11 партнеров плюс 10 специалистов бэкофиса. У нас нетипичная для многих российских юридических фирм компания, мы не стараемся делать особо много партнеров. Напротив, нам ближе опыт западных фирм, в которых прозрачные правила для тех талантливых юристов, которые демонстрируют высокий потенциал и способности, чтобы становиться партнерами. Вокруг каждого партнера создается небольшая ячейка из юристов по определенным специализациям. В практике интеллектуальной собственности, например, юридическое образования для некоторых сотрудников является вторым, первое же было получено по техническим дисциплинам: физмат, химия, биология и проч. Оно и понятно, ведь приходится работать со сложными патентными проектами для различных компаний в области фармацевтики, машиностроения, IT-технологий, телекома и т. д.
— А патентные поверенные занимаются регистрацией патентов?
— Да, но в не таком большом количестве, как лидеры рынка в этой сфере, где бизнес делается на объеме, количестве зарегистрированных патентов. Нам же в большей степени интересна более сложная работа, как правило, связанная с конфликтом тех или иных патентов, которые перерастают в глобальные споры в сфере интеллектуальной собственности. Все, наверное, слышали про патентную войну между Apple и Samsung, где количество различных споров по всему миру исчисляется сотнями. У нас довольно много подобных дел, как по патентам, так и по товарным знакам, и по авторским правам, и т. д. Поэтому самым популярным местом у наших IPспециалистов помимо самого Роспатента является небезызвестный так называемый СИП – Суд по интеллектуальным правам. Считаем его одним из самых лучших специализированных судов, созданных за последнее время, очень толковых судей объединили под одной крышей, очень грамотно разбирают сложнейшие дела, даже по западным меркам.
— Понятно. В общем, по широкому спектру всего правового поля работаете. Антимонопольная практика, я слышал, была у вас сильная. Анна Нумерова — одна из выпускниц РШЧП — у вас работала, как раз по антимонопольному праву специализировалась. А еще какие-то выпускники РШЧП остались?
— Антимонопольная практика — один из наших флагманов. Илья Ищук — признанный эксперт на рынке в этой сфере — участвовал во многих прецедентных и громких антимонопольных разбирательствах последних лет, является одним из ключевых экспертов в сфере ритейла и регулирования рынков по закону о торговле. Аня Нумерова была у нас партнером некоторое время назад, но получила очень интересное предложение от лидера нашего юридического рынка — юридической фирмы ЕПАМ. Мы расстались очень хорошо, до сих пор дружим, помогаем друг другу по работе. Она сейчас возглавляет некоммерческое
партнерство «Содействие конкуренции», а недавно получила официальную награду от Президента РФ за вклад в развитие этого направления в нашей стране, которое действительно по многим параметрам довольно передовое, даже по мировым меркам. Мы ей очень гордимся. Кроме нее из выпускников РШЧП у нас работала Лина Тальцева. Илья Дедковский — тоже наш выпускник, один из ключевых сотрудников фирмы на сегодня. Еще один выпускник РШЧП — Кирилл Труханов, которого я когда-то принимал на работу в арбитражную практику компании VEGAS LEX к себе в команду, следим и радуемся его успехам. Он большой молодец, недавно
бренд. Я в поступающих резюме уже привык отмечать себе, если кто-то претендует на вакансию с таким дипломом. Но сейчас открытых вакансий практически нет.
—А что, рынок стагнирует?
—Очень много свободных юристов сейчас на рынке, соответственно конкуренция среди них за освобождающиеся позиции очень высока. А у юридического бизнеса дела сейчас не сахар. Знаете же, да? Когда реальный сектор падает на 5–10%, то обслуживающий его внешний консалтинг падает на все 30–40%. Клиенты начинают на всем экономить: на рекламе, маркетинге и на внешнем юридическом сопровождении тоже, что вполне объяснимо. Семинары повышения квалификации урезают, подписку на журналы сокращают и т. п.
—Но в долгосрочной перспективе отказ от юриста чреват. Неужели про это забывают? Сегодня сэкономил несколько сотен тысяч за год, а расплачиваться за ошибку потом десятками миллионов…
—Да, это очевидно. Но компании часть вопросов закрывают силами внутренних юристов, многие из которых пришли как раз из консалтинга. Когда внутренний юрист востребован, постоянно занят профильной работой, то компании это обходится гораздо дешевле, чем постоянно нанимать внешнего консультанта. Но все равно сейчас открытых вакансий юристов на рынке немного, а резюме юристов в активном поиске работы огромное количество. Ко мне в день по 3–5 резюме поступает на электронную почту, хотя на нашем сайте прямо написано, что вакансий нет. За эти годы я создал огромный кадровый резерв, там сотни резюме очень толковых юристов разного уровня и специализаций, но в год мы берем не более 3–5 новых юристов, растем постепенно, тем более сейчас. Поэтому очень часто рекомендую лучших своим клиентам и коллегам по цеху в консалтинг. Времена непростые, надо помогать друг другу. Много приходит резюме от юристов со степенью бакалавра.
—Этих, наверное, первыми в корзину отправляете?
—Часто да, если это, конечно, не какой-нибудь уникум. А какой смысл? Если на те же деньги согласны магистры из престижных вузов, уже более зрелые и подготовленные. При этом рынок юруслуг продолжает падать, вот уже второй год как.
—Два года?! Я думал, только начал.
—Нет, давно уже. Как начали иностранцы уходить с рынка. По разным причинам: кто-то по политическим, из-за санкций, а кто-то чисто по экономическим. Произошло резкое падение уровня жизни и платежеспособности населения в России, за ним резко упал потребительский спрос, девальвация и инфляция усугубили ситуацию, народ стал экономить. Поэтому многие иностранцы пошли «на выход», пусть может и временно, но это инвестиции, которые в очень приличных объемах утекают с нашего рынка, в то время, когда они очень нужны. Кроме того, в силу ухудшения экономической ситуации подняли снова голову рейдеры и различные мошенники с криминальным прошлым. Начинают реализовывать проекты с инструментарием из 90-х: с подделками документов, с рейдерскими атаками, с переписыванием реестров акционеров и недвижимости, что тоже не добавляет позитива, особенно для иностранцев. А они, как правило, менее защищены и подготовлены к такому поведению третьих лиц.
—О, я тоже тут узнал одну очень некрасивую историю, с Катерпилларом. Дорогущую технику в лизинг сдавали, цены в иностранной валюте. Потом сбой и расторжение договора лизинга, технику вернули, договорились, по какой цене. Те продали технику по этой цене, дальше уступка лизингополучателем своего требования «о возврате выкупной цены» какой-то юридической конторе, иск от нее к лизингодателю и итог — взыскали с лизингодателя сумму, превышающую ту, которую ему заплатил лизингополучатель. Ни техники, ни денег. Бизнес по-русски!. Это уже арбитражная система. И кассация отказалась приостанавливать исполнение. Цена вопроса — миллиард, кажется. Был бы я иностранцем, уже бы начал лыжи складывать.
С другой стороны, я со своим хорошим знакомым из Германии недавно встречался, он говорит, что никуда они не денутся, все только и ждут, чтобы вернуться.
—Да, это правда. У нас тоже довольно много таких дел, когда иностранные компании, работающие в России, видимо, в силу своей врожденной добропорядочности и добросовестности при ведении бизнеса, когда сталкиваются вот с такими маргинальными проявлениями, впадают в некий транс и шоковое состояние, а российские суды, куда они в итоге обращаются за защитой, очень часто подходят к таким ситуациям довольно формально. Все это, конечно же, негативно влияет на наш инвестиционный климат в стране. Что касается экономики, то чем ниже упадем, тем выше потом отскочим. Многие уже говорят, что мы на том самом дне, будем надеяться, что ниже не пойдем. Поэтому мы сейчас в основном занимаемся так называемыми «похоронными услугами» для иностранного бизнеса: ликвидируем представительства и их «дочки», сопровождаем банкротные проекты, пытаемся вытащить долги от недобросовестных контрагентов, для многих из которых экономический кризис в России лишь предлог для неисполнения обязательств под «общий шумок», а не реальные финансовые трудности. Некоторые так быстро уезжают, что оставляют нам мебель и технику, мы ее вынуждены раздавать потом по разным учреждениям, в том числе детским. Замещение есть какое-то, но его пока на рынке не сильно

никто не ждет, да и они осторожно к нам относятся, инвестиции есть, но незначительные.
—Ну, китайцы своего не упустят…
—Они сейчас подходят к юриспруденции спокойно, это все-таки не европейцы, которые каждую запятую проверяют и без визы юристов ни один документ не подпишут. Культура и ментальность очень разные, по крайней мере пока. Возможно, глобализация экономик выровняет в будущем эти вещи в разных странах. Большинство же иностранных компаний — наших клиентов — с офисами в России и без таковых, можно сказать, сейчас наша основная опора для дальнейшего развития.
Так или иначе, они довольно много заказывают нам юридической работы по своим российским проектам, многие из-за резкой девальвации поменяли своих глобальных иностранных консультантов на нас, поскольку мы более гибки в ценообразовании, предоставляем соизмеримый уровень качества экспертизы и коммуникаций; 90% наших юристов уверенно владеют английским языком, поскольку до 70% об общего объема работы так или иначе связано с иностранным бизнесом. Поэтому образно можно сказать, что КИАП — это такой маленький интеллектуальный Газпром, продающий за валютную выручку, в отличие от газовой монополии, за рубеж не нефть и газ, а российские юридические мозги, которые, в отличие от углеводородов, безлимитны. Так что, думаю, что российский Центральный банк должен быть нам благодарен за поддержку российской национальной валюты и наш, пусть маленький, но от того не менее важный, вклад в положительный торговый баланс страны.
—Ладно, с иностранцами понятно, а о каких-то интересных проектах расскажете?
—Могу рассказать про Legal Run, интересно?
—Да, давайте, слышал об этом проекте. В прошлом году как раз команда юристов из РШЧП выиграла приз, как лучшая корпоративная команда бегунов.
—Если кратко, то Legal Run —это первый международный благотворительный забег, объединяющий представителей одного профессионального сообщества — юристов. В забеге в различных городах мира принимают участие российские и иностранные юрфирмы, внутренние юридические службы компаний, студенты и преподаватели юридических факультетов. Многие участвуют в забегах в формате корпоративных команд.
Проект фандрайзиноговый — сбор взносов проходит во время онлайн-регистрации на забег, при этом деньги напрямую попадают на счет давнего партнера проекта — благотворительного фонда «Подари жизнь». Организация забегов проходит за счет частных пожертвований и средств спонсоров —
юридических фирм. Legal Run проходит при поддержке Федеральной палаты адвокатов РФ и традиционно приурочен к трем праздникам: 1 июня — День защиты детей, 31 мая — День российской адвокатуры и Всемирный день отказа от курения. Проект существует с 2014 года. Впервые прошел 31 мая 2014 года в Москве, в парке «Новодевичьи пруды».
В2015 году официально организованные масштабные забеги прошли уже не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске и даже Лондоне. Более 1500 юристов-бегунов приняли участие в забегах по всему миру. Более того, помимо официальных забегов в перечисленных городах в этот же день по всему миру прошла акция Global Legal Run — глобальные флэшмобы юристов в рамках поддержки проекта Legal Run. В акции приняли участие около 200 человек в тех городах и странах, куда официальный забег Legal Run пока не дошел: 31 мая 2015 года они вышли на улицы своих городов и пробежали произвольную дистанцию, сделав добровольное символическое пожертвование на счет фонда «Подари жизнь». Таким образом, юристы Legal Run бежали в 26 городах и 14 странах: в России — от Владивостока до Калининграда, в Европе — от Праги до Лиссабона; даже в США несколько юристов присоединились к забегу. В рамках проекта удалось собрать более 2,6 млн руб. На эти средства была оказана адресная помощь восьми тяжелобольным детям с онкологическими заболеваниями.
Вэтом году к вышеперечисленным городам присоединились юристы из Екатеринбурга, Тюмени и Воронежа. География и интерес к спортивному образу жизни и благотворительности у юристов расширяются, и это здорово.
—А зачем вам такой проект? Ведь на него уходит огромное количество времени, это отвлекает Вас и вашу команду от основной юридической деятельности.
—Это правда, времени уходит очень много, подготовка занимает несколько месяцев. Но с каждым годом проект поддерживает все большее количество людей. Например, только в этом году московский этап Legal Run поддерживает, в том числе и финансами, более 20 московских юрфирм, в других городах проведения местные юридические компании также объединяются. Мы стремимся
высокие стандарты и вдохновить представителей других профессий и сообществ на поиск и реализацию подобных идей. Нам также очень важно объединить людей, особенно юристов, которые сейчас крайне разрозненны, поднять их выше своих личных амбиций и коммерческих интересов, а это непросто. Но мы не ищем легких путей и продолжаем верить, что участники одного конкурентного рынка могут быть вместе, зарывать «топоры войн», как в древности, на время проведения Олимпийских игр, потому что вместе делать добрые дела приятнее, интереснее и веселее. Как видно из слогана проекта «Беги. Улыбайся. Помогай», он призывает профессиональное сообщество юристов объединяться, чтобы помогать тем, кому это так нужно, чтобы жить…
—Возвращаясь к юриспруденции, позволю себе вопрос по антимонопольному праву, который меня сейчас занимает. Скажите, а на интеллектуальную собственность тоже должно распространяться антимонопольное регулирование, по-вашему? Например, я — производитель лекарства от рассеянного склероза. Иностранец. Конкурирую с другими производителями таких препаратов, и довольно успешно. Зашел на российский рынок, начал продавать через российского дистрибьютора. Год продавал, два продавал, а на третий мне окончательно разонравилось, как он работает, и я принял решение торговать своим препаратом через собственную дочернюю компанию. И тут антимонопольный орган мне говорит, мол, это нехорошо, что ты расстался с российским дистрибьютором и будешь продажи выстраивать через свою компанию, нам это не нравится, ты на конкуренцию можешь плохо повлиять, из-за чего цена на твое лекарство может вырасти и российские потребители будут недовольны. И признали мои действия нарушающими антимонопольное законодательство. Это верно, как Вы считаете? Мне вот немного не по себе от этого решения: я — производитель лекарства, я его придумал и вложил огромные деньги в его разработку, мне принадлежит исключительное право. Я
—монополист по своей природе, хочу использую его, хочу нет, а мне начинают говорить: нет, ты давай торгуй так, чтобы была полная конкуренция в отношении твоего товара и цена была бы низкой.
—Я примерно догадываюсь, о каком громком деле, которое недавно было рассмотрено в Верховном суде РФ, идет речь. Я, как и многие эксперты-юристы на рынке, считаю принятое решение по этому делу неправильным и даже в какой-то степени абсурдным. Помимо материальных противоречий в этом деле меня очень смутила использованная процессуальная форма, которая позволила российскому дистрибьютору достигнуть необходимого для себя результата в высшей судебной инстанции. Все это не добавляет плюсов нашей судебной системе, тем более, когда вот так с помощью так называемых спецопределений заместителей Председателя Верховного суда пересматриваются дела по щелчку пальцев одного человека, по существу, почти не практикующего в качестве судьи, а выполняющего больше административно-организационные функции. При этом так легко перечеркиваются судебные акты, к которым имели отношение как минимум 10 профессиональных судей в нижестоящих судебных инстанциях, в том числе и 3 профильных судьи с соответствующей специализацией из экономической коллегии самого Верховного суда.
Скажу больше, после ликвидации Высшего арбитражного суда, когда было четко и понятно, как и для чего работает надзорная инстанция, какие цели ставятся во главу угла, а в первую очередь это единообразие судебной практики, вся текущая конструкция рассмотрения споров в Верховном суде носит, для меня лично, крайне сомнительный характер с точки зрения достижения этих же самых целей. Ведь если мы вспомним, то именно единообразие судебной практики стало девизом при ликвидации высшей судебной инстанции для предпринимателей. О каком единообразии можно говорить, когда для многих нижестоящих судов сегодня практикой Верховного суда становятся судебные акты, вынесенные коллегиями по так называемым делам во второй кассации.
Не спорю, что такие дела рассматриваются по существу, но не широким Президиумом, как ранее в ВАС, а лишь тройками судей, как и в апелляционных, и кассационных инстанциях, в которых, чего скрывать, зачастую только один судья, в силу загруженности так называемых «боковых судей», очень подробно изучал материалы дела. Сама форма «второй кассации», выражусь, может быть, грубо, но настолько для меня лично уродлива, что говорить про нее, как про эффективный механизм для выработки единообразной судебной практики, не приходится, при всем моем уважении к судьям в коллегиях. Так называемая вторая кассация в Верховной суде фактически занимается устранением судебных ошибок нижестоящих судов, а это задача судов апелляционных и кассационных инстанций. Поэтому надзорные функции высшей судебной инстанции почти не работают. Почему бы еще не сделать в Верховном суде третью или еще четвертую кассацию? Я, конечно, утрирую, но на самом деле, при огромном количестве судебных инстанций для обжалования решений нижестоящих судов, а если добавить все возможные формы для обжалования, в том числе привнесенные из устаревшего советского ГПК в действующий АПК РФ, то их будет порядка десятка, а единообразия практики как не было, так и нет. Отсюда и появляются на самом верху такие вот казуальные спорные судебные акты, которые мы с Вами обсуждали выше. У нас есть дела в арбитражных судах, которым уже более 7 лет, а мы на четвертом судебном круге находимся до сих пор в первой инстанции. И это, конечно, ненормально. При этом Президиум Верховного суда собирается крайне редко и, конечно, единичные дела по экономическим спорам, которые могут попасть в Президиум, ну никак не могут эту практику формировать в нужном объеме и качестве.
«спецполномочий» у замов и Председателя Верховного суда. Считаю это типичным архаизмом и пережитком советской судебной системы. При этом, при моем общем скепсисе к действующей структуре Верховного суда, к которой мы все теперь должны подстраиваться сейчас, все-таки радует, что Пленум Верховного суда последние полтора года работает довольно эффективно и почти каждый месяц выдает все новые и новые разъяснения по тем или иным вопросам материального и процессуального права.
Хотя некоторые наши коллеги идут дальше и считают, что и постановления Пленума являются лишними для нашей судебной системы, что между законодательством и правоприменением по конкретным делам не должно быть никаких посреднических разъяснений, что в этом плане в свое время прецедентообразуюзщие дела в Президиуме ВАС и обзоры по конкретным делам были куда более правильными ориентирами для нижестоящих судов при формировании единообразной судебной практики, нежели комментарии судей высшей судебной инстанции, изложенные в виде очередного Пленума. Многие эксперты с этим не согласны, но я считаю, что сейчас, когда у Президиума Верховного суда фактически отсутствует роль по формированию единообразия судебной практики, наличие постановлений Пленумов является лучшим из имеющихся механизмов для формирования таких стержнеобразующих разъяснений для практики, нежели это будут исключительно отдельные судебные акты коллегий по конкретным делам. В любом случае на сегодня цель судебной реформы не достигнута, до единообразия нам еще ой как далеко. Рассуждая ранее про Китай, можно сказать — «как до Китая».
Видимо, отчасти поэтому, от нестабильности судебной практики, непоследовательности в судебной реформе, а также огромного количества возможностей для бесконечного обжалования судебных актов в государственных судах, выливающихся в итоге в многолетную судебную волокиту, большое количество судебных споров уходит из государственных арбитражных судов в суды третейские. С одной стороны, это хорошо, так как разгружаются и без того перегруженные государственные арбитражные суды, на которых законодатель еще и банкротство физических лиц сгрузил. С другой стороны, качество третейских судов сегодня, особенно в период реформы третейского законодательства, вызывает опасения.
—Я знаю, что Вы входите в правление Российской арбитражной ассоциации (РАА), которая создала третейский суд. Что это, не расскажете поподробнее?
—Несколько лет назад собралась группа юридических фирм, обслуживающих в первую очередь иностранцев, и задумала создать третейский суд по образцу западных арбитражей, который мог бы считаться по-настоящему независимым. В России, к сожалению, институт третейского судопроизводства сильно дискредитирован, не остаются в стороне от коррупционных скандалов даже наиболее уважаемые третейские институции. Опять же, по моему мнению, это некий признак времени. Когда в современном российском обществе нет доверия ни друг к другу, ни к власти, ни к государственным судам, то откуда взяться доверию к третейским судам? Очень много мошенников в этой сфере, дельцов-ремесленников, кто штампует решения на потоке «под заказ». Есть спрос — есть предложение. Значит, бизнесу такие суды нужны. Возвращаясь к арбитражной ассоциации, сейчас юридические фирмы, стоявшие у истоков Российской арбитражной ассоциации, рекомендуют своим клиентам включать в третейские оговорки рассмотрение споров именно в этом арбитражном институте.
В целях повышения независимости судей данного суда применяются все передовые наработки зарубежных стран, в частности, существующий комитет по номинированию может отвести любую кандидатуру арбитра, выбранную стороной. Арбитр, даже предложенный стороной, — это не ее адвокат. Одна из интересных процедур в этом третейском суде — так называемый онлайнарбитраж. Его смысл в том, чтобы небольшие дела администрировать в электронном виде. В таких делах попробовать себя в качестве арбитра могут и довольно молодые люди. Выпускники РШЧП, например.
—Необычная штука. Интересно, не будет ли она отторгнута арбитражными судами, которые должны приводить судебные акты, принятые в такой интересной процедуре, к исполнению.
—Если захотеть, то можно загубить на корню любую, даже самую полезную и нужную идею. Например, можно сказать, что не соблюдается принцип непосредственности судебного разбирательства, раз стороны в нем лично не участвуют. Хотя такие же претензии можно выдвинуть в отношении любого письменного процесса, в том числе популярного сегодня упрощенного производства. Надо просто понимать, что такие вот онлайн-арбитражи — это мировая тенденция. И если стороны так договорились и это не нарушает публичный порядок и интересы третьих лиц, то государственный суд не может вмешиваться в волю сторон и пересматривать такие споры по существу или иным образом препятствовать приданию им юридической силы государственного принуждения при исполнении. Можно ее воспринять, а можно начать усиленно с ней бороться. Однако я лично не вижу причин для борьбы. На мой взгляд, у Ассоциации, да и всех нас, все самое интересное еще впереди. Мы живем в интересное время и, несмотря на все сложности и трудности. Я верю, что юристы будут играть более серьезную роль, нежели сейчас, в становлении цивилизованного гражданского общества и правового государства в России.
—Вот это отличное завершение разговора. Ни убавить, ни прибавить. Спасибо! Желаю успехов в Вашей профессиональной деятельности.
ГЛАВНАЯ ТЕМА
Девальвация рубля и валютная аренда. Аргументы за и против применения статьи 451 ГК РФ в условиях кризиса
Артем Николаевич Сирота
партнер юридического бюро Sirota & Patrners
Екатерина Юрьевна Иванова
юрист юридического бюро Sirota & Partners
•Откуда в ГК РФ появилась норма о существенном изменении обстоятельств
•Когда суды все-таки идут на расторжение или изменение договора из-за кризиса
•Как адаптационная оговорка на случай инфляции мешает изменить условия договора в кризис
Вусловиях экономического кризиса неизбежно обостряется проблема соотношения условий договоров, заключенных в докризисное время, и изменившейся реальности. В конце прошлого года Арбитражный суд г. Москвы принял резонансное решение — он удовлетворил иск ПАО «Вымпел-Коммуникации» к своему арендодателю о пересмотре условий договора валютной аренды. Суд установил фиксированный валютный коридор в пределах от 30 до 42 руб. со ссылкой на изменение курсовой политики Банка России и возникновение у арендатора несоразмерно высокого дохода в связи с этим (дело № А40-83845/15).
Это решение выбивается из общего отказного тренда российской судебной практики. Традиционно суды стоят на позиции невмешательства суда в договорные отношения сторон и практически полностью блокируют применение ст. 451 ГК РФ о существенном изменении обстоятельств, особенно если речь идет о сугубо финансовых затруднениях или проявлениях экономического кризиса, будь то инфляция или девальвация рубля.
При этом критерии существенного изменения обстоятельств, установленные в ст. 451 ГК РФ, соответствуют общемировому подходу. В Гражданском кодексе РФ они появились под влиянием Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА1, куда соответствующие нормы вошли во многом благодаря инициативе немецкой делегации. Германия, в свою очередь, относится к числу «открытых» правопорядков, в которых суды с большей готовностью идут на изменение или расторжение договоров в ситуации существенного изменения обстоятельств и не исключают кризисные явления из числа таковых a priori, в отличие от «закрытых» юрисдикций, таких как Англия и Франция, где больший приоритет отдается принципу святости договора и судебное вмешательство в него допускается лишь в исключительных случаях. В связи с этим корень отличий и причины сугубо негативного тренда российской практики следует искать не в законодательных формулировках ст. 451 ГК РФ, а скорее в тех подходах, которых придерживаются суды в ходе ее применения.
Далее мы сравним, какое отражение находил институт существенного изменения обстоятельств в практике немецких судов времен кризиса начала XX века, а также каких подходов они придерживаются в настоящее время, и с опорой на немецкий опыт осветим проблемы российской практики применения ст. 451 ГК РФ.
Сначала концепция существенного изменения обстоятельств не признавалась на уровне закона и судебной практики Германии
В ходе разработки Германского гражданского уложения (ГГУ), вступившего в силу в 1900 году, clausula rebus sic stantibus не получила закрепления в качестве общего принципа. Практика Имперского Суда первоначально также отрицательно относилась к существенному изменению обстоятельств как основанию для изменения или расторжения договора.
Идея существенного изменения обстоятельств развивалась только на уровне доктрины. В частности, еще задолго до введения в действие ГГУ Б. Виндшайд разработал теорию предположения (Voraussetzung). Согласно его теории при заключении сделки стороны исходят из предположения о существовании, возникновении и продолжении действия определенных обстоятельств2. Такое предположение представляет собой своего рода «несозревшее» условие, поскольку оно не было согласовано в договоре3 (под термином «условие» понимается условие в смысле, аналогичном ст. 157 ГК РФ). Несмотря на то, что такое предположение не стало частью

при заключении договора. В случае если такое предположение не оправдается, будет несправедливым понуждать стороны к исполнению договора. Однако теория Б. Виндшайда была подвергнута критике в немецкой доктрине по причине сложности разграничения предположения и мотива, который по общему правилу не имеет значения для силы сделки.
Разработчики ГГУ и вслед за ними практика Имперского Суда Германии также скептически отнеслись к этой теории, усматривая в ней угрозу стабильности оборота4. Даже во времена Первой мировой войны и в первые послевоенные годы судебная практика сначала демонстрировала критическое отношение к возможности изменения или расторжения договоров по причине ведения военных действий и начинавшегося экономического кризиса. Так, Имперский Суд в 1915 году отказал арендатору в удовлетворении иска о расторжении договора аренды цирка в связи с падением спроса на его услуги, сославшись на то, что возможность расторжения договора по данному основанию не была напрямую предусмотрена ни в договоре, ни в тексте ГГУ5.
Однако после окончания войны под влиянием растущего экономического кризиса в судебной практике намечается постепенный отход от столь формальной позиции. Обращает на себя внимание тот факт, что изменение практики Имперского Суда в этом отношении началось в 1920 –1921 годы, когда скачки инфляции происходили около 10 раз, то есть за несколько лет до того, как инфляция в Германии приобрела галопирующий характер. Гиперинфляция в Германии началась с конца 1922 года, когда обесценение марки дошло до астрономических показателей, достигая триллионного уровня (см. график).
Так, уже в июле 1920 года Имперский Суд рассматривал требование арендодателя о досрочном расторжении договора аренды со ссылкой на чрезмерный рост собственных расходов на содержание сдаваемых в аренду помещений. Несмотря на отказ в иске, суд принципиально признал возможность судебного изменения договора, в случае если резкое и чрезвычайное увеличение стоимости исполнения ставит пострадавшую сторону на грань разорения6. При этом в отсутствие прямого законодательного закрепления доктрина существенного изменения обстоятельств была выведена судом из общего принципа добросовестности, закрепленного в § 242 ГГУ.
Апелляция отменила решение по установлению валютного коридора для договора аренды
28 марта состоялось заседание суда апелляционной инстанции по громкому делу ПАО «Вымпелком» против ПАО «Тизприбор» (дело № А40-83845/15). Апелляция отменила решение суда первой инстанции. На момент подписания номера в печать (29.03.2016) мотивировочная часть постановления не была опубликована.
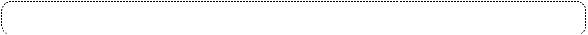
нижестоящих судов, отказавших в удовлетворении иска арендодателя об изменении цены в договоре аренды, по которому арендодатель не только предоставлял помещения, но и поставлял тепло (пар) арендатору. При этом цены на тепло выросли почти десятикратно, что нарушило эквивалентность встречных предоставлений сторон. Имперский Суд направил дело на новое рассмотрение и указал, что когда стороны имеют обоюдные намерения сохранить договорные отношения, но обстоятельства изменились непредвиденным и существенным образом, то несправедливо возлагать бремя изменившихся обстоятельств только на одну сторону — необходимо равномерно распределить экономические тяготы между обеими сторонами7.
В ноябре 1921 года суд по той же причине нарушения эквивалентности встречных предоставлений отказал в иске покупателю об обязании продавца осуществить поставку 10 т проволоки ввиду изменившихся обстоятельств — революции и экономического кризиса. При этом суд указал, что «в синаллагматическом договоре необходимо исходить из того, что стороны при его заключении хотят достичь честного соглашения», и «если вследствие определенных обстоятельств соотношение стоимости встречных предоставлений, в частности стоимость денег, меняется таким образом, что должник за свое исполнение получил бы такое встречное предоставление, которое даже приблизительно не является эквивалентом, то кредитор, настаивая на исполнении должником обязательства при таких обстоятельствах, нарушает принцип добросовестности»8.
Одновременно с изменением судебной практики теория существенного изменения обстоятельств получила новый виток развития в германской доктрине. На основе учения Б. Виндшайда П. Эртманном была разработана концепция основания сделки (Geschaftsgrundlage), под которым он понимал «имевшие место при заключении договора признанные контрагентом в своей значительности и неоспариваемые представления одной из сторон или обеих сторон о наличии или наступлении определенных обстоятельств, положенных в основу сделки»9. Существенное изменение обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении сделки, выхолащивает и само основание сделки, что должно давать сторонам право расторгнуть договор. В связи с этим П. Эртманн полагал, что «в ситуации кризиса и переоценки экономических и политических ценностей требование исполнения договора на неизменных условиях приводит к нарушению принципа добросовестности (Treu und Glauben), поскольку может поставить сторону на грань разорения без ее вины»10.
В отличие от теории Б. Виндшайда, раскритикованной Имперским Судом, теория П. Эртманна была напрямую упомянута в судебном решении высшей инстанции в деле о ткацкой фабрике (февраль 1922 года). Это дело окончательно закрепило судебное признание доктрины существенного изменения обстоятельств и считается в этом отношении ключевым11.
Один из участников компании, владевшей ткацкой фабрикой, в связи с закрытием бизнеса и разделом активов нашел приобретателя для земельного участка и здания фабрики. Договор был заключен в мае 1919 года, за несколько месяцев до первого крупного скачка инфляции, тогда же была получена первая часть оплаты. Однако когда наступило время для второй части платежа, то в связи с произошедшим в 1920 году обесценением немецкой марки исполнение договора на основе принципа номинализма привело бы к явному нарушению эквивалентности встречных предоставлений сторон по договору. Имперский Суд принял во внимание то обстоятельство, что участник компании пытался таким образом спасти свою долю в бизнесе, признал несправедливым понуждать его отдавать эту долю приобретателю за бесценок и направил дело на новое рассмотрение с целью найти компромиссное решение, учитывающее интересы обеих сторон.
Применительно к пересмотру условий договоров валютной аренды и изменению курсовой политики государства обращает на себя внимание решение Имперского Суда от марта 1922 года. Суд рассматривал спор из договора аренды земельного участка для ведения сельского хозяйства, заключенного на 15 лет, арендная плата по которому была выражена в немецких марках и привязана к золоту12. В связи с принятием 28 сентября 1914 года Распоряжения Бундесрата, согласно которому все заключенные ранее соглашения, по которым платеж должен был производиться в золотом эквиваленте, объявлялись необязательными до особого распоряжения, арендатор подал иск о признании за ним права уплачивать арендную плату в бумажных марках. Арендодатель возражал, ссылаясь на то, что в условиях галопирующей инфляции получение номинального исполнения в бумажных марках будет для него чрезвычайно невыгодным и не покроет даже налогов и расходов на содержание имущества, в то время как у арендатора в связи с серьезным повышением стоимости сельскохозяйственной продукции доходы существенно выросли. В такой ситуации Имперский Суд отменил акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение, указав на необходимость пересмотра арендной платы и поиска компромисса между сторонами с учетом соотношения роста прибыли арендатора и увеличения расходов арендодателя.
Таким образом, несмотря на то, что изначально концепция существенного изменения обстоятельств не вошла в текст ГГУ и была критически воспринята в судебной практике, экономические реалии сподвигли суды отойти от первоначального консервативного подхода и предоставить защиту стороне, пострадавшей от кризисных явлений.

договорных отношений
В настоящий момент доктрина существенного изменения обстоятельств (нарушения основания сделки) получила нормативное закрепление в § 313 ГГУ. В современной германской доктрине применительно к оценке существенности изменения обстоятельств различают малое и большое основание сделки. К малому основанию относятся обстоятельства частного характера, например, невозможность покупателя получить разрешение на ввод в эксплуатацию купленного им здания, влекущая невозможность использовать здание по назначению и тем самым реализовать цель его приобретения*. Под большим основанием сделки понимают политические и макроэкономические события более глобального масштаба, затрагивающие широкий круг экономических субъектов, в частности революции, войны и экономические кризисы.
Как правило, у заинтересованной стороны больше шансов доказать, что существенное изменение обстоятельств в связи с нарушением эквивалентности встречных предоставлений по договору имеет место, когда речь идет о большом основании сделки. В частности, в одном из дел, рассмотренных Верховным судом Германии, объединение ГДР и ФРГ было расценено в качестве основания для пересмотра договорных отношений сторон по договору строительного подряда, исполнение которого на прежних условиях оплаты стало невыгодным для подрядчика**.
* BGH JZ 66, 409.
** BGH ZIP 1995, 1935.
Конъюнктурные колебания рынка современная немецкая практика не расценивает как существенное изменение обстоятельств
В ситуациях, когда изменяющиеся обстоятельства касаются не глобальных политических или экономических пертурбаций, а скорее сводятся к конъюнктурным колебаниям рынка, немецкая судебная практика традиционно скептически подходит к возможности пересмотра условий договора. В частности, представляет интерес дело, рассмотренное Верховным судом Германии в конце 80-х годов XX века.
В этом деле оператор отеля обратился в суд с целью пересмотреть арендную плату в долгосрочном договоре аренды, который был заключен на 20 лет. Он ссылался на то, что изменилась конъюнктура рынка, выросли требования потребителей, а потому для поддержания спроса на прежнем уровне требуется проведение затратных инвестиций. Однако суд в иске отказал. Он отметил, что в данном случае риск изменения рыночной конъюнктуры должен нести арендатор13.
Аналогичным образом в другом деле об аренде калийного рудника Верховный суд Германии указал, что инфляция, которая привела к фактическому уменьшению арендной платы на 2/3 в течение 60 лет, не является основанием для пересмотра условий договора, и риск постепенного снижения доходности от сдачи в аренду имущества в результате инфляции должна нести заинтересованная сторона, в данном случае арендодатель14. Однако следует отметить, что в рассматриваемом деле арендодатель действительно проявил неосмотрительность, заключив договор на весьма длительный срок без оговорки об индексации арендной платы.
В то же время в Германии существует устойчивая практика по увеличению размера периодических платежей по праву застройки (Erbbauzins), которое, как правило, устанавливается на длительный срок (до 99 лет), и возможность сторон выйти из правоотношения существенно ограничены. В случае если уровень инфляции превышает порог в 150%15, это расценивается как существенное изменение обстоятельств и может служить основанием для пересмотра размера платы.
Итогом развития немецкой доктрины и судебной практики по вопросу о существенном изменении обстоятельств стало нормативное закрепление данной концепции в § 313 ГГУ, состоявшееся в ходе реформы обязательственного права в 2002 году. В нем установлены следующие критерии ее применения16:
—реальный критерий — изменение обстоятельств должно быть настолько значительным, что нарушается эквивалентность встречных предоставлений сторон и исполнение договора на неизменных условиях для должника становится неприемлемым;
—гипотетический критерий — если бы стороны предвидели подобное изменение, они не заключили бы договор или заключили его с иным содержанием;
—нормативный критерий — из закона или договора не следует, что риск изменения обстоятельств несет потерпевшая сторона.
При этом в Германии приоритет отдан сохранению договора на изменившихся условиях и договор подлежит судом расторжению, только если изменение договора невозможно или его нельзя разумно ожидать от одной из сторон.
