
Dukhovnaya_kultura_Kitaya_Tom_3_-_Literatura_Yazyk_i_pismennost
.pdf
Гао Ши дослужился до должности придворного советника, был пожалован аристократич. титулом хоу [3] уезда Бохай. Его жизнеописание содержится в «Цзю Тан шу» («Старая история [династии] Тан»).
Лирике его присущи яркая образность и гражданское звучание. Наиболее из вестен «пограничными стихами», где говорится о военных походах и тяготах солдатской жизни, тоске по родному краю. Одним из лучших образцов граж данской лирики считается «Янь гэ син» («Строфы песни [царства] Янь»). Встречаются описания быта и нравов кочевников (не обязательно враждеб ные). Так, в «Инчжоу гэ» («Инчжоуская песня») содержатся наблюдения за обычаями киданей. Часто затрагиваются темы прощания с друзьями, разлуки, одиночества на чужбине. Нередко в его стихах можно обнаружить ист. аналогии.
Бо´льшая часть наследия поэта утрачена, сохранилось «Гао Чан ши цзи» («Со брание произведений Гао Чан ши») (8 цз. стихов, 2 цз. прозы).
* Гао Чан ши цзи. Гао Ши чжуань (Собр. произв. и биография Гао Чан ши): В 8 цз. Шанхай, б.г. (СБЦК. Т. 1465); Гао Ши ши сюань (Избранные стихотворения Гао Ши) / Коммент. Лю Кай яна. Чэнду, 1981; Гао Ши Цэнь Шэнь ши сюаньчжу (Избранные стихи Гао Ши и Цэнь Шэня) / Коммент. Ту Юань цюя. Шанхай, 1983; Гао Ши. [Сти хотворения] // Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М., 1977, с. 275–277; Поэзия эпохи Тан VII–X вв. / Сост. и вступ. ст. Л. Эйдлина. М., 1987, с. 153–156; Дальнее эхо: Антология китайской лирики (VII–IX вв.) в пер. Ю.К. Щуцкого. СПб., 2000; По стоянство пути: Избранные танские стихотворения в пер. В.М. Алек сеева. СПб., 2003. ** Чжоу Сюнь чу. Гао Ши няньпу (Биография Гао Ши в хронологической последовательности). Шанхай, 1980; Ян Инь шэнь. Гао Ши юй Цэнь Шэнь (Гао Ши и Цэнь Шэнь). Шанхай, 1936; Chan M. Kao Shih. Bost., 1978.
А.Н. Коробова
Го Мо$жо. 1892, пров. Сычуань — 1978, Пекин. Поэт, драматург, историк, прозаик, обществ. деятель. После окончания средней школы в 1914 уехал
вЯпонию, где получил медицинское образование, но врачом не стал, уйдя с 1919 в лит ру. Один из организаторов об ва «Творчество» (Чуанцзао). Прославился как автор одной из первых книг новой поэзии — сб. «Нюй шэнь» («Богини», 1921). Новаторская по форме, во многом заимствованной у зап. поэтов, романтически экспрессивная по духу, кн. полна переходов от бун тарства к разочарованиям (в следующей кн. «Син кун» — «Звездное прост ранство» разочарование станет преобладать). В нач. 20 х он опубликовал также несколько коротких пьес на ист. сюжеты антифеодальной направ ленности, несколько во многом автобиографич. сентиментальных повестей (в т.ч. «Ганьлань» — «Оливы»), сб. любовной лирики «Пин» («Ваза»); пере водил фрагменты из «Фауста» и «Войны и мира».
В 1924 начал переходить на позиции «революционной литературы», что от ражено в сборнике стихов «Цянь мао» («Авангард»), а в 1926–1927 участвовал
вгражданской войне в качестве политкомиссара революционных войск. После поражения революции уехал в эмиграцию в Японию (1928–1937). Там он в основном занимался изучением древней истории, письменности и фи лософии Китая, одновременно написав четыре тома мемуаров о своей жизни
влит ре и политике.
Вернувшись в начале войны с Японией на родину, Го Мо жо при содействии коммунистов занимал важные посты в политуправлении нац. армии, затем стал предс. Комитета по делам культуры в Чунцине — временной столице страны. В нач. 40 х создал шесть больших ист. пьес с явным злободневным подтекстом, из которых наибольшую известность получила трагедия «Цюй Юань» о великом поэте патриоте древности. В военные годы он выпустил
ГО МО$ЖО
271

также сборники стихов «Чжань шэн» («Голоса войны») и «Тяотан» («Цика ды»), а также немало произв. в других жанрах. После капитуляции Японии участвовал в борьбе за демократизацию Китая, против правительственного террора. В 1948 перебрался в Освобожденные районы.
В КНР Го Мо жо стал одной из виднейших обществ. фигур, занимая посты предс. Всекитайской ассоциации деятелей лит ры и искусства, президента Академии наук, чл. руководства ВСНП и др., часто выступал за рубежом. И все же в первый период КНР он публикует еще несколько сборников сти хов, две ист. драмы («Цай Вэнь цзи» и «У Цзэ тянь»), немало публицистич. и научных работ. Однако в 1966 он публично отрекся от всего написанного, одобрил «культурную революцию», вошел в состав подвергнутого чистке руководства КПК. А уже в самом конце жизни он успел «приветствовать па дение „банды четырех“» (т.е. верхушки организаторов «культурной рево люции»).
|
|
|
|
|
|
|
* Го Мо жо. Избранные сочинения / Вступ. ст. и общ. ред. Н. Федо |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
ренко; примеч. В. Петрова. М., 1955; он же. Сочинения: В 3 т. / Сост., |
|
|
|
|
|
|
|
общ. ред. и вступ. ст. Н.Т. Федоренко. М., 1958; он же. Сочинения: |
|
|
|
|
|
|
|
Стихотворения. Драмы. Повести и рассказы / Сост. и вступ. ст. Н. Фе |
|
|
|
|
|
|
|
доренко. М., 1990; он же. [Стихи] // Поэзия и проза Китая ХХ века. |
|
|
|
|
|
|
|
О прошлом для будущего: Сб. М., 2002. ** Желоховцев А.Н. Го Мо жо — |
|
|
|
|
|
|
|
«герой» или жертва «культурной революции»? // ПДВ. 1982, № 1, |
|
|
|
|
|
|
|
с. 147–153; он же. К оценке личности и творчества Го Мо жо // ИБ. |
|
|
|
|
|
|
|
1982, № 3, ч. 2, c. 350–380; он же. Последние исторические пьесы Го |
|
|
|
|
|
|
|
Мо жо // III НК ОГК. 1972, с. 437–445; Маркова С.Д. Го Мо жо — |
|
|
|
|
|
|
|
первопроходец новой китайской поэзии и мировая культура // |
|
|
|
|
|
|
|
Восток–Россия–Запад: Исторические и культурологические исследо |
|
|
|
|
|
|
|
вания. М., 2001, с. 461– 472; она же. Поэтическое творчество Го Мо жо. |
|
|
|
|
|
|
|
М., 1961; Тихвинский С.Л. Мои встречи с Го Мо жо // ПДВ. 2002, № 5, |
|
|
|
|
|
|
|
с. 143–147; он же. Первый президент Академии наук Китая // Вестн. |
|
|
|
|
|
|
|
РАН. 2002, т. 72, № 11, с. 1001–1007; Федоренко Н.Т. Век Го Мо жо // |
|
|
|
|
|
|
|
ННИ. 1993, № 4, с. 123–130; Цыбина Е.А. Драматургия Го Мо жо в пе |
|
|
|
|
|
|
|
риод антияпонской войны. М., 1961; Го Мо жо чжу и синянь мулу |
|
|
|
|
|
|
|
(Указатель произведений и переводов Го Мо жо за 1949–1979 гг.). |
|
|
|
|
|
|
|
Шанхай, 1980; Го Мо жо яньцзю (Исследование жизни и творчества Го |
|
|
|
|
|
|
|
Мо жо): В 3 т. Пекин, 1985–1987; Цинь Чуань ю. Го Мо жо пинчжуань |
|
|
|
|
|
|
|
(Критическая биография Го Мо жо). Чунцин, 1993; Чжан Юй мао. |
|
|
|
|
|
|
|
Янгуан дидай ды мэн: Го Мо жо сингэ юй фэнгэ (Сон о солнечном |
|
|
|
|
|
|
|
крае: Характер и стиль творчества Го Мо жо). Пекин, 1993; Roy D.T. |
|
|
|
|
|
|
|
Kuo Mo jo: The Еarly Years. Cambr. (Mass.), 1971. |
|
|
|
|
|
|
|
В.Ф. Сорокин |
|
|
|
|
|
|
|
Го Пу, Го Цзин чун. 276, обл. Хэдун (в совр. пров. Шаньси) — 324. Сановник, |
|
|
|
|
ГО ПУ |
|||
|
|
|
|
|
|
|
ученый филолог, комментатор, один из ведущих представителей тематич. |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
направления сюань янь ши — «стихи о сокровенном». |
|
|
|
|
|
|
|
Его жизнеописание представлено в офиц. историографич. соч. «Цзинь шу» |
|
|
|
|
|
|
|
(«Книга [об эпохе] Цзинь», цз. 72). Он род. в высокопоставленом чиновничь |
|
|
|
|
|
|
|
ем семействе. Принимал непосредств. участие в событиях 300–306 («Мятеж |
|
|
|
|
|
|
|
восьми принцев»); в это время познакомился с аристократом сановником |
|
|
|
|
|
|
|
Ван Дао (276–339), соратником принца Сыма Жуя — будущего императора |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Юань ди (317–322), основателя дин. Дун (Восточная) Цзинь (317–420). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вместе с Ван Дао (в статусе его адъютанта) Го Пу отбыл на юго восток страны |
|
|
|
|
|
|
|
еще до окончательного краха дин. Си (Западная) Цзинь (265–316). Он вошел |
|
|
|
|
|
|
|
в число руководящего состава адм. структур, в спешном порядке создаваемых |
|
|
|
|
|
|
|
в 316–317 в Цзянкане (совр. Нанкин) Сыма Жуем. Нек рое время Го Пу воз |
|
|
|
|
|
|
|
главлял обл. Хуннун; в дальнейшем занимал придворные должности при |
|
|
|
|
|
|
|
Юань ди и его преемнике Мин ди (323–326). Оказался втянутым в придвор |
|
|
|
|
|
|
|
ные интриги и был казнен. |
|
|
|
|
|
|
|
|
272

Го Пу принадлежат коммент. к ряду основополагающих древних памятни ков: словарному изд. «Эр я» («Приближение к классике»), «Шань хай цзину» («Книга/Канон гор и морей»; см. т. 1), прозаич. соч. «Му тянь цзы чжуань» («Жизнеописание сына Неба Му»), своду «Чу цы» («Чуские строфы»). Известно, что он обладал обширными познаниями в области как культурного наследия прошлого (включая верования юж. региона Древнего Китая), так
исовременных ему даос. религ. представлений и алхимич. практик. Совре менники верили, что его смерть была лишь видимостью и что на самом деле он стал бессмертным. Жизнеописание Го Пу как человека, к рый обрел бес смертие, включено в агиографич. сб. «Шэнь сянь чжуань» («Жизнеописания святых бессмертных»), приписываемый знаменитому даос. философу и уче ному IV в. Гэ Хуну (см. т. 1).
Поэтич. наследие Го Пу состоит из 12 стихотворений ши (преимущественно циклы) и 9 од фу. «Го Хуннун цзи» («Собрание произведений Го — [губер натора области] Хуннун») помещено в сводном изд. Чжан Пу (1602–1641). Его лирич. произв. вошли в своды Дин Фу бао (1874–1952; публ. 1964) и Лу Цинь ли (1911–1973), одические — в свод Янь Кэ цзюня (1762–1843).
Лучшим творением Го Пу, более того, шедевром всей поэзии на даос. религ. темы III–VI вв. признается цикл «Ю сянь ши» («Стихи о путешествии [к] бес смертным», 14 стихотв.). 7 из них включены в антологию «Вэнь сюань» («Избранные произведения изящной словесности»), образовав там одноимен. тематич. разд. «Ю сянь» («Путешествие [к] бессмертным», цз. 21). Лейтмотив цикла — торжество обретения вечной жизни и неземного могущества бес смертных: «Столичные цветы — прибежище искателей удачи, / А горные ле са — отшельника желанная обитель. / <...> / Ручей увидев, зачерпнешь его живительную влагу, / И киноварные грибы сбираешь на отвесных скалах. / Кто миновать уже сумел поток Божественной протоки, / Какая трудность для него подняться к облачным высотам?!» (1 е стихотв.).
Стихотв. Го Пу, насыщенные образами мифологемами и специфич. лексикой, производят тем не менее впечатление гениальной импровизации, созданной человеком вдохновенного таланта и безудержной фантазии. Его крайне выра зительные и калейдоскопически красочные стихотворения увлекают в вол шебное странствие: «На утлом челне пересек морскую пучину, / На высокой волне несусь к островам Пэнлай. / Бессмертные, духи рядами выходят из облаков, / На рассвете увидел башни из чистого золота» (6 е стихотв.).
Вместе с тем Го Пу не только обладал уникальным даром воображения, но
иумел тонко чувствовать окружающий мир. Впервые в традиции тематич. группы Ю сянь («Путешествие к бессмертным») он добивается эффекта досто верности, осязаемости картины чудесного мира через образы, восходящие к природным реалиям: «Лес из драгоценно красного нефрита все вокруг затмевает изысканным сияньем, / Зеленовато нефритовые деревья взметнули ввысь свои цветы. / Киноварный источник вздымает пурпурные волны, / На Черной воде гремят сокровенные валы» (10 е стихотв.).
Тексты Го Пу демонстрируют все освоенные к тому моменту лирич. поэзией худ. приемы, с помощью к рых создавались картины фантастич. мира. Исход ные элементы и явления природы автор стихов превращал в искомые образы с помощью, во первых, их гиперболизации и приложения к ним категориаль ных терминов сюань ‘сокровенное’, шэнь [1] ‘божественное, чудесное’, лин [1] ‘божественное, волшебное’, мяо [1] ‘таинственное’. Во вторых, он объединял понятия, передающие элементы живой (растительность) и неживой (металлы, минералы) природы. Деревья оказываются состоящими из нефрита и тому подобных драгоценных (с т. зр. китайцев) минералов, трава — из золота и т.п. В третьих, употреблялись необычные для природных явлений цветовые обо значения, напр.: бирюзовая заря, пурпурные волны. За поэтич. миром ю сянь закрепляется особая цветовая гамма с преобладанием красных тонов: крас ного (хун), багряного (чжу [7]), вишневого (цзян [2]), пурпурно фиолетового (цзы [4]). Наиболее же часто фигурирует киноварный цвет (дань [3]), что, воз можно, объясняется особенностями алхимич. практик. Самым распростр.
273

ингредиентом снадобий бессмертия считалась киноварь (дань [3]) — сульфид ртути. Минерал белого цвета с красными вкраплениями, она мыслилась как воплощение соединения женского (инь [1]) и мужского (ян [1]) космич. начал (см. в т. 1 Инь–ян). Еще одной приметой чудесного мира ю сянь служит его особая благоуханность. В тексты настойчиво вводятся слова фан [1] ‘аро матный, душистый’, сян [4] ‘душистый’, сю [5] ‘благовонный’, к рые прилага ются помимо растительности к воде, атмосферным явлениям (ароматный ветер) и даже к астральным объектам (ароматная луна). Все эти худ. приемы и образные ряды унаследовала пейзажная лирика — шань шуй ши ‘стихи/ поэзия гор и вод’.
Из од Го Пу традиционно выделяется «Цзян фу» («Ода [о] реке», «Ода [о] Ян цзы»), тоже входящая в антологию «Вэнь сюань» (цз. 12). В ней воспевается отшельническое уединение, показанное на фоне величеств. горного ланд шафта, выписанного в фантазийно мистич. красках.
По сведениям разл. источников, цикл Го Пу произвел огромное впечатление на современников. «Каждый раз, когда я читаю эти сроки, вдруг ощущаю, что дух мой превозмогает себя, а мое тело покидает пределы этого мира» — такие слова приписываются поэту Жуань Фу (278–326). По образному выражению Лю Се, его стихи — «это одновременно порыв ветра и застывшие облака» («Вэнь синь дяо лун» — «Дракон, изваянный в сердце письмен», цз. 10, гл. 47). Чжун Жун, автор трактата «Ши пинь» («Категории стихов»), отнесся к тв ву Го Пу более благожелательно, чем к поэзии др. представителей сюань янь ши. Он единственный в списке, приведенном в Предисловии к «Ши пинь», кто при числен в тексте трактата к литераторам не третьей (низшей), а второй (сред ней) категории. Характеризуя его лирику, Чжун Жун отмечает ее стилистич. мастерство и выразительность. Лит. критики последующих веков обходили тв во Го Пу молчанием. Интерес к его поэтич. наследию пробудился в XVIII– XIX вв., когда собрания его сочинений стали включаться в разл. сводные изд. В науч. лит ре внимание к поэзии Го Пу неуклонно возрастало по мере рас ширения поисков лит. истоков пейзажной лирики. В литературоведч. работах посл. трети ХХ в. Го Пу в целом единодушно признается одним из наиболее примечательных поэтов IV в., тв во к рого оказало заметное воздействие на будущую пейзажную лирику.
* Цзинь шу, цз. 72 / Т. 7, с. 1899–1909; Го Пу пинчжуань; Вэнь сюань, цз. 12 и 21 / Т. 1, с. 254–264 и 460–464; Го Хуннун цзи; сводные изд., включившие лирич. произв. Го Пу, см. в Библиогр. II, где они даны на имена их составителей: Лу Цинь ли (т. 1, с. 862–869), Дин Фу бао 1964 (т. 1, с. 421–425); оды Го Пу см.: Янь Кэ цзюнь, т. 3, с. 2147–2150; Хрестоматия по литературе Китая, с. 182; An Anthology of Chinese Verse, р. 92–93; Die Chinesische Anthologie... Vol. 1, p. 184–192, 327–331; Wen xuan… Vol. 2, р. 321–352. ** Кравцова М.Е. Поэзия вечного просвет ления..., с. 118, 153; Ван Чжун лин. Чжунго чжунгу шигэ ши, с. 481– 497; Вэй Цзинь вэньсюэ ши, с. 489–500; Вэй Цзинь Нань бэй чао вэньсюэ ши цанькао цзыляо. Т. 1, с. 331–332; Лю Се Вэнь синь дяо лун чжу, цз. 10, гл. 47 / Т. 2, с. 701; Ху Го жуй. Вэй Цзинь Нань бэй чао вэньсюэ ши, с. 77–81; Чжунго лидай шигэ цзаошан цыдянь, с. 214–215; Чжун Жун Ши пинь и чжу, с. 118; Юй Гуань ин (сост.), с. 194–202; Frodsham J.D. Origins of the Chinese Nature Poetry, p. 81–82; Holzman D. Immortality seeking in Early Chinese Poetry, p. 103–118.
М.Е. Кравцова
274

Гуань Хань$цин. ? — ок. 1306. Жил в Даду (нынешний Пекин), участвовал |
|
|
ГУАНЬ |
|
|
|||
в профессиональном объединении либреттистов и авторов, сам выступал на |
|
ХАНЬ$ЦИН |
|
|
||||
сцене. Издавна признан основоположником и крупнейшим мастером жанра |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
цзацзюй. Известны назв. 63 его пьес, из к рых в полном виде сохранилось 12, |
|
|
|
|
|
|
|
|
авторство еще 6 пьес сомнительно. По содержанию они делятся на социаль |
|
|
|
|
|
|
|
|
но бытовые пьесы, лирич. комедии, ист. драмы, но деление это условно, по |
|
|
|
|
|
|
|
|
скольку разл. мотивы, трагедийные и комич. элементы часто переплетаются. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Страдания народа под гнетом феодалов, чиновников лихоимцев и богатых |
|
|
|
|
|
|
|
|
самодуров запечатлены в пьесах «Лу Чжай лан», «Ван Цзян тин» («Беседка |
|
|
|
|
|
|
|
|
над рекой») и с особой силой в трагедии «Доу Э юань» («Обида Доу Э», на |
|
|
|
|
|
|
|
|
писана после 1291). Неправедные суды, пытки, вымогательства доводят ге |
|
|
|
|
|
|
|
|
роев до разорения и гибели, разлучают семьи. Следуя традициям нар. лит ры, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гуань Хань цин в конце концов карает злодеев и восстанавливает справед |
|
|
|
|
|
|
|
|
ливость. Но достигается это либо вмешательством сверхъестеств. сил, либо |
|
|
|
|
|
|
|
|
стараниями легендарного и неподкупного судьи Бао (Бао$гун; см. в т. 2). |
|
|
|
|
|
|
|
|
Лирич. комедии Гуань Хань цина — живые зарисовки «частной жизни» той |
|
|
|
|
|
|
|
|
эпохи; в них есть и живые характеры, и забавные происшествия, и добродуш |
|
|
|
|
|
|
|
|
ный юмор: «Цзю фэн чэнь» («Спасение падшей»), «Юй цзинтай» («Нефри |
|
|
|
|
|
|
|
|
товая подставка»), «Се Тянь сян». В ист. драмах «Дань дао хуй» («Один с ме |
|
|
|
|
|
|
|
|
чом на пир»), «Шуан фу мэн» («Сон о двух героях») на первом плане — до |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стойные подражания образы героев прошлого, особенно периода Троецарст |
|
|
|
|
|
|
|
|
вия (III в.). Манера письма Гуань Хань цина, как свидетельствуют сохранив |
|
|
|
|
|
|
|
|
шиеся прижизненные издания нек рых его произведений, отличалась естест |
|
|
|
|
|
|
|
|
венностью и экспрессией. Гуань Хань цину также принадлежит 47 поэтич. |
|
|
|
|
|
|
|
|
произведений в жанре саньцюй, в к рых раскрылась богатая натура автора, его |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жизнелюбие, чувство собственного достоинства. |
|
|
|
|
|
|
|
|
* Гуань Хань цин сицюй цзи (Собрание пьес Гуань Хань цина). Т. 1–2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пекин, 1958; Гуань Хань цин. Спасение падшей: Комедия в 4 д. / Пер. |
|
|
|
|
|
|
|
|
В. Семанова, Г. Ярославцева // ВА. 1958. Вып. 2, с. 165– 175; он же. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обида Доу Э / Пер. и примеч. В. Сорокина // Классическая драма |
|
|
|
|
|
|
|
|
Востока. М., 1976, с. 263–307. ** Федоренко Н.Т. Гуань Хань цин — ве |
|
|
|
|
|
|
|
|
ликий драматург Китая. М., 1958; то же // Федоренко Н.Т. Избранные |
|
|
|
|
|
|
|
|
произведения. Т. 2. М., 1987, с. 216–244. |
|
|
|
|
|
|
|
|
В.Ф. Сорокин |
|
|
|
|
|
|
|
|
Гувэнь — «древнее письмо», «древние знаки», «стиль, подражающий древ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУВЭНЬ |
|
||||||
ним». В рус. переводах — «древняя вэнь», «изящная словесность». В кит. лит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ре термином гувэнь называют традиц. лит ру несюжетных форм, написанную |
|
|
|
|
|
|
|
|
на письменном языке вэньянь (см. в ч. II «Язык и письменность»). |
|
|
|
|
|
|
|
|
Само название этого лит. направления указывает, что этим произведениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
была свойственна нек рая архаизация языка, однако не архаизация языка |
|
|
|
|
|
|
|
|
определяла стиль гувэнь. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Произведения в стиле гувэнь весьма разнообразны по своим жанрам: это ист. |
|
|
|
|
|
|
|
|
фрагменты; пейзажные зарисовки; офиц. доклады и памятные записки трону |
|
|
|
|
|
|
|
|
по самым разл. административным вопросам; лирич. произведения, близкие |
|
|
|
|
|
|
|
|
к тому, что принято называть поэмами в прозе; филос. аллегории; суждения на |
|
|
|
|
|
|
|
|
ист. или нравственные темы; письма друзьям; поминальные плачи и над |
|
|
|
|
|
|
|
|
гробные надписи. Это свидетельствует о том, что тематика не была опреде |
|
|
|
|
|
|
|
|
ляющим признаком лит ры гувэнь. Произведения в стиле гувэнь невелики по |
|
|
|
|
|
|
|
|
размеру: большинство не превышает 200–300 иероглифов. Самые короткие — |
|
|
|
|
|
|
|
|
за свою краткость они особенно ценятся — насчитывают меньше 100 иерог |
|
|
|
|
|
|
|
|
лифов. Но таких немного, т.к. афоризмы не относились к жанрам лит ры |
|
|
|
|
|
|
|
|
гувэнь. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Произведение в стиле гувэнь прежде всего должно было обладать единством |
|
|
|
|
|
|
|
|
содержания. Избранная тема развивалась без к. л. отклонений и с максималь |
|
|
|
|
|
|
|
|
ной краткостью. Обязательна была нравственная или филос. идея. Не занят |
|
|
|
|
|
|
|
|
275

ная история или описание прекрасного были главными в произведении, а идея, для к рой все сказанное служило иллюстрацией, примером. Эта идея могла быть либо выражена в неск. словах в самом начале произведения, либо — как обособленное резюме — в конце его, либо могла быть заключена
вк. н. одном слове, служившем ключом к пониманию гл. идеи. Эта нравст венная или филос. идея является основным предметом заботы автора про изведения в стиле гувэнь, его единств. целью. Он тщательно избегает ненуж ных подробностей, зачастую рассказывая не весь эпизод, а лишь часть его, одну к. н. картину, предпосылая ей в случае необходимости две три поясни тельные фразы. Эта гл. особенность лит ры гувэнь чрезвычайно ярко про ступает в произведениях, относящихся к жанру жизнеописания, присущему ей наряду с ист. сочинениями и новеллами. Жизнеописания в стиле гувэнь чаще всего сводятся к диалогу, перенасыщенному абстрактными филос. идея ми, или монологу, содержащему жизненную концепцию действующего лица. Примером может служить «История каменщика Ван Чэн фу» Хань Юя (768–824; см. т. 1), где жизнь героя, изобилующая событиями, к рых хватило бы не только на новеллу, но и на целый роман, излагается в неск. строках, остальное же представляет собой изложение нравственно филос. принципов героя.
Одним из самых многочисл. жанров лит ры гувэнь был жанр суждений, вклю чавший рассуждения на ист. и филос. темы. Предмет суждения избирался автором по желанию: ист. событие, эпоха (период) или личность. К жанру суждений также относятся всевозможные пояснения и ответы на вопросы, напр.: «Об истоках злословия», «Из суждений о разном», «О естестве», «О ду хах», «Отвечаю на вопрос о Юе» Хань Юя, «Рассуждение о Небе» Лю Цзун$ юаня.
Весьма популярный жанр предисловий и послесловий, впервые появившийся
втанскую эпоху, включал помимо обычных предисловий целую группу т.н. «предисловий», к рые фактически были совершенно самостоятельными за конченными произведениями. В отличие от суждений, с к рыми их сближает отвлеченная нравственная идея, они описывают обстоятельства, при к рых были созданы, и отправной точкой в них служит личность того, кому эти «предисловия» дарятся или посылаются. «Предисловие, подаренное Ли Юаню накануне его возвращения в долину Пань» и «Предисловие, подарен ное Мэн Дун е», написанные Хань Юем, принадлежат к самым знаменитым образцам этого жанра.
Важное место в лит ре гувэнь занимают доклады, напоминания, увещевания, офиц. ответы, адресованные императору. К ним относятся доклад «О кости Будды», «Памятная записка трону от Цензората с суждениями относительно засухи и голода в Поднебесной», «О почтенье к деньгам и небреженье к ве щам», «Памятная записка по делу о кровной мести» и «Обращение к трону по случаю поднесения „Подлинных записок о царствовании императора Шунь цзуна“», написанные Хань Юем. Произведения этого жанра отличаются крас норечием особого рода: они изобилуют ист. намеками, усилия автора в них направлены гл. обр. на строго логич. развитие осн. мысли и строгую аргу ментацию выдвигаемого положения. Все они выдержаны в официальном тоне и непременно содержат формулы вежливости, предусмотренные дворцовым этикетом. Произведения этого жанра наиболее трудны для восприятия европ. читателя, т.к. подразумевают конкретную ситуацию, тот или иной случай, и потому требуют особой подготовки и широкой начитанности в кит. исто рических, философских, правовых и лит. текстах.
Широко представлен в лит ре гувэнь эпистолярный жанр. Нек рые из писем содержат обычные сообщения (напр., «Письмо Мэн Дун е» Хань Юя), но многие представляют собой настоящие небольшие исследования по тому или иному вопросу («Ответ сюцаю Лю на его письмо с рассуждениями о долге историографа» и «Главе палаты Мэну» Хань Юя). К письмам прошениям от носятся написанные Хань Юем в разные периоды его жизни письма главному министру, а также «Письмо незнакомцу», «Письмо Юю», «Письмо Чэню».
276

Произведения жанра жизнеописания в стиле гувэнь сохраняют, казалось бы, композиционную канву жизнеописаний династийных историй, к к рым они восходят. Начинаясь именной формулой, принятой в ист. жизнеописании, они перечисляют наиб. важные вехи офиц. карьеры героя и заканчиваются традиц. «восхвалением». Однако жизнь героя — всего лишь иллюстрация к избранной автором отвлеченной идее, излагаемой, как правило, в конце. Но поскольку выбор героя обусловлен данным заранее выводом, героем часто ста новится вымышленное, а не действительное ист. лицо («История Сун Цина», «История подростка Цюй Цзи», написанные Лю Цзун юанем). Известны жиз неописания пародии, такие как «История букашки фубань» Лю Цзун юаня
изнаменитое «Жизнеописание кисти», а точнее «Жизнеописание волосяного кончика кисти», Хань Юя.
Центр. место в сборниках лит ры гувэнь занимают, пожалуй, т.н. «заметки», или «записки». По популярности с ними может сравниться лишь жанр суж дений. В сунскую и минскую эпохи они становятся излюбленным жанром лит ры гувэнь. У Хань Юя было немного таких произведений, но Лю Цзун юань этот жанр очень любил и оставил великолепные его образцы. Обычно в «заметках» подробно рассказывается об их создании. Они часто пишутся, чтобы объяснить причины сооружения или названия к. н. общественной или частной постройки, парка, происхождение той или иной вещи, предмета ис кусства. Композиция их довольно однообразна: они содержат поэтич. описа ние, к рому иногда предшествует короткое вступление, затем следует филос. вывод, и наконец, если произведение было написано по заказу к. л. важного лица, его завершают привычными извинениями за несовершенство стиля
исетованиями на то, что автору недостает лит. таланта. Иногда в конце автор очень коротко излагает причины, побудившие его написать данную вещь («Заметки о картине», «Обитель пиров и веселья» Хань Юя). В «заметках» Лю Цзун юаня, сосланного на далекий, полудикий юг, часто можно найти опи сание увиденного удивительного явления природы или достопримечатель ности края (что не было до Лю Цзун юаня присуще жанру «заметок»), закан чивается же произведение изложением гл. идеи («О западной террасе обители Драконовых взлетов в Юнчжоу», «О вновь восстановленной обители Больших облаков в Лючжоу»).
См. также ст. Изящная словесность (вэнь); Гувэнь (ч. II «Язык и письмен ность»).
* Хань Юй, Лю Цзун юань. Избранное / Пер. с кит., послесл. и коммент. И. Соколовой. М., 1979; Шедевры китайской классической прозы в пе реводах акад. В.М. Алексеева: В 2 кн. М., 2006. ** Алексеев В.М. Труды по китайской литературе: В 2 кн. М., 2002–2003; Васильев В.П. Очерк истории кит. лит ры. СПб., 1880; Чжунго вэньсюэ ши (История китайской литературы). Т. 1–4. Пекин, 1959; Margoulies G. Le Kou wen Chinois. P., 1926.
И.И.Соколова
277

«ГУЙ ТЯНЬ ЛУ» «Гуй тянь лу» — «Записи вернувшегося к полям». Сборник бицзи, принадлежа щий Оуян Сю (1007–1072). Оуян Сю закончил работу над ним на склоне лет (предисл. датировано 20 м днем 9 й луны 4 го года под девизом правления Чжи пин, т.е. 1067, а время действия большинства фрагментов сборника уве ренно относят к 1 й пол. XI в.), когда он был послан служить в качестве начальника обл. Хаочжоу. В лит. разделе сунской дин. истории («Сун ши» — «История [династии/эпохи] Сун») сборник значится в 8 цз., у Чао Гун у ука зан объем в 6 цз., однако в библиогр. Чэнь Чжэнь суня (составленной ок. 1240) сказано о сочинении с таким названием объемом в 2 цз. Быть может, причина таких больших расхождений кроется в истории самого текста. Так,
взаметке Чэнь Чжэнь суня говорится: «Рассказывают, что когда господин (т.е. Оуян Сю. — И.А.) закончил эти записи, но еще не распространил, первым известно стало предисловие. Юй лин (т.е. император Шэнь цзун. — И.А.) по требовал [представить ему] сборник. А в нем были записи о делах того време ни и том, что [Оуян Сю] лично слышал и видел при нескольких правлениях. [Господин] не осмелился представить [императору книгу] в таком виде и пере работал ее в настоящий [сборник], а первоначальный текст уж и восстанавли вать не стал. Не знаю, можно ли верить?» По всей вероятности, можно, по скольку такое развитие событий подтверждают и др. письменные источники; напр., у Ван Мин цина (1127–1214?) в «Хуй чжу лу» («Записи помахивающего мухобойкой») сказано: «Когда господин Оуян только составил „Гуй тянь лу“, но еще не распространил [в свете], предисловие уже получило хождение. Шэнь цзун прочитал его и спешно отрядил специального посланца двора за брать [рукопись] для ознакомления. В то время господин [Оуян] уже отказался от должности и жил в Инчжоу (т.е. это было ок. 1071. — И.А.); в [рукописи] были такие записи, которым он не хотел бы придавать широкую огласку, а по тому [господин Оуян] полностью их выкинул, но, печалясь о том, что [текста] осталось слишком мало, восполнил недостающее в рукописи записями разных забавных и смешных историй, не вызывающих раздражения. И, переписав на бело, представил двору. Но и изначальную рукопись не осмелился сохранить, [так что] ныне известные [списки „Гуй тянь лу“] — это представленная двору [рукопись], а первоначальная книга, вероятно, так уж и не явится миру». Однако у Чжоу Хуя (1126–?) в «Цин бо цза чжи» («Разные записи Цин бо») данная история заканчивается утверждением: «Изначальный текст тоже неког да распространился», и цинский (XVII– XX вв.) текстолог Ся Цзин гуань усмотрел подтверждение этому в том, что при сопоставлении сунских списков «Гуй тянь лу» с текстами прозаич. антологий в составе последних обнаружи ваются фрагменты, в канонич. списке отсутствующие, но сборнику несомнен но принадлежащие. В таком случае следует полагать, что первонач. текст был значительно обширнее ныне известного — больше на 4 (или даже 6) цз., к рые автор вычеркнул из цензурных соображений. Однако версия о параллельном сосуществовании двух списков — первоначального и отредактированного для представления двору — кажется малообоснованной; скорее, логично будет предположить, что в процессе бытования «Гуй тянь лу» из сборника по тем или иным причинам выпали какие то фрагменты, к рые, как и в случаях с др. сборниками бицзи, были разысканы и добавлены к тексту кит. текстологами последующих эпох; ну а легендарный «первоначальный» текст был или унич тожен самим Оуян Сю, или по иным причинам не получил распространения. Послесунская судьба «Гуй тянь лу» вроде бы безоблачна: текст объемом
в2 цз., известный с сунского времени, дошел до нашего времени с миним. потерями — в нем 116 фрагментов (60 в цз. 1 и 56 в цз. 2, а также предисл.), никак тематически не организованных. Прототипом для сборника, по при знанию самого Оуян Сю, стало сочинение танского Ли Чжао (1 я пол. IX в.) «Го ши бу» («Дополнения к истории государства»): «У танского Ли Чжао в пре дисловии к „Го ши бу“ говорится: „Речи о загробном воздаянии, повество вания о душах умерших и духах, описания снов и гаданий, приподнимающие завесу между мужской и женской половинами дома, — все это [я] отбросил; а записи об имевших место событиях, исследования сути вещей, исправления
278
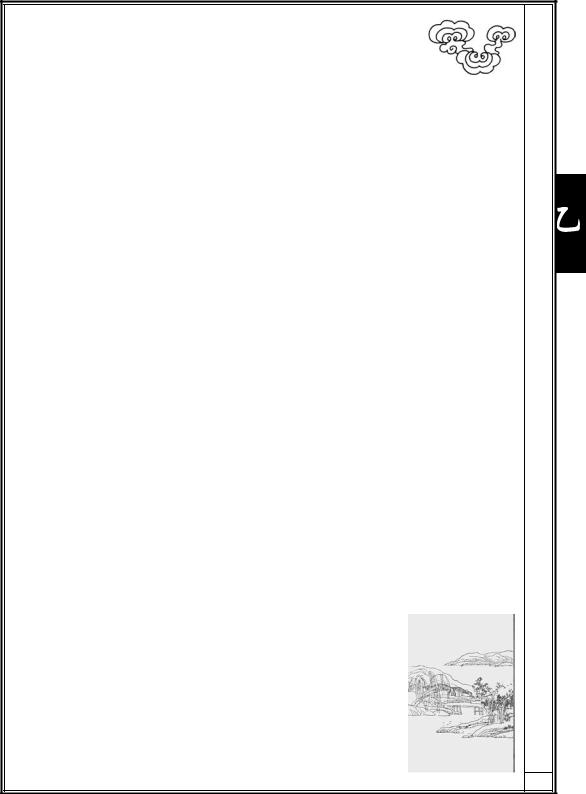
ошибок и заблуждений, собрание [описаний] нравов и обычаев, вызывающие улыбку истории, — это я собрал в книгу“. Мои же записи — они по большей части сделаны по образцу Чжао, а небольшое отличие в том, что я не писал о людских злодействах. Таковы, по мне, помыслы благородного мужа, даже если он и не служит по исторической части, — не выпячивать дурное, а пре возносить прекрасное. А кто будет листать [эти записки], убедится в том подробно». Название восходит к известной оде Чжан Хэна (78–139) «Гуй тянь» («Возвращение к полям»), осн. тезой к рой выступает противопоставление тщеты придворной жизни безыскусному существованию ушедшего от дел уче ного отшельника, поселившегося привольно на лоне природы: «Я стану выше мира грязи, уйдя подальше от него, и навсегда я распрощаюсь с делами сует ного света... Взмахну я кистью с тушью на конце и ею выражу цветы моей ду ши» (пер. В.М. Алексеева). Так и Оуян Сю: на склоне лет уйдя со службы
ипоселившись в давно облюбованном местечке далеко от придворных битв
иполитич. баталий, он предался вольному сочинительству, суммируя наблюде ния жизни и предаваясь воспоминаниям. Общее впечатление от содержания «Гуй тянь лу» прекрасно выражено в начале авторского предисл.: «Это записи тех событий, бывших при дворе, которые не занесли в анналы чиновники, слу жащие по исторической части; это записи, достойные упоминания среди шут ливых разговоров и бесед с людьми, принадлежащими к высшим слоям об щества. [Я] записал все это, дабы просматривать, праздно живя на досуге...». Т.o., фрагменты, образующие этот, в сущности, маленький сборник, распа даются на неск. более или менее устойчивых тематич. групп:
фрагменты, посвященные делам, поступкам и выдающимся моральным ка чествам разных ист. персонажей; это, как правило, современники Оуян Сю, люди, с к рыми он был знаком лично. Оуян Сю обычно преподносит такие истории в описательном ключе, строго следуя фактам, из к рых следует, как достойно поступил тот или иной человек: «Отец Ин гуна Ся Сун (985–1051) служил в Хэбэе и, когда в годы под девизом правления Цзин дэ (1004–1007) кидани разбойно туда вторглись, погиб в сражении. Спустя время господин [Ся Сун] стал шэжэнем и, когда носил траур по матушке, был до срока призван на службу — получил повеление ехать к киданям послом. Господин решитель но отказался ехать. В его докладе говорилось: „Батюшка погиб за дело госу даря, траур я по матушке ношу. Нет под небесами места нам, невозможно мне поклоны во дворцах их бить. Долг мой — изголовье из земли, а — не звукам варваров музыки внимать“». Лишь изредка автор позволяет себе в конце оце ночную ремарку вроде «мелким людишкам это должно стать уроком». Види мо, сюда же следует относить и фрагменты, повествующие о взаимоотноше ниях императоров со своими ближними сановниками; фрагменты, представляющие собой ист. анекдоты, т.е. описание примечатель
ных случаев с известными людьми в тех или иных ситуациях: на экзаменах, во время выполнения служебных обязанностей, в сложных ситуациях, требую щих единственно правильного разрешения; подспудный смысл таких фраг ментов схож с моралью для «мелких людишек»: прочитавший должен по черпнуть для себя пример поведения правильного или, наоборот, неправиль ного, проистекающего из личных качеств гл. персонажей; фрагменты, представляющие собой анекдоты в совр. смысле этого слова,
т.е. историю смешную, забавную. «Служившие некогда в должности цаньчжи чжэнши господин Дин Ду [990–1053] и господин Чао Цзун цюэ [985–1069] были в чиновниках в одно время; [они] любили подтрунивать друг над другом. Чао, оставляя пост, написал Дину прощальное письмо, а тот как раз был назначен паньгуанем и ответил [Чао] шутливо: „Я не успел ответить на ваше любезное письмо, но в благодарность послал Вам телегу лошадиного навоза“. „Получить [телегу] дерьма гораздо ценнее [Вашего] ответа!“ — отвечал Чао». Таких историй в «Гуй тянь лу» достаточно; фрагменты, содержанием к рых являются те или иные реалии жизни
современного Оуян Сю кит. об ва: уложения и установления для чиновников («Установления для чиновников давно уж находятся в небрежении! Ныне
279

многие называют [должности] с ошибками, даже люди из высших слоев общества и те следуют просторечным [заблуждениям], не находя в том ничего странного»), девизы правления («За сто с лишним лет правления нынешней династии не было девиза правления, перевалившего за девять лет»), чай («Самые дорогие сорта чая — лун[туань] и фэн[бин]. Их называют туаньча. Восемь плиток весят один цзинь»), географич. реалии, монетное обращение, памятники архитектуры и т.п. Иногда это довольно пространные пассажи: «Когда покойный господин Дин Ду, [посмертное имя] Вэнь'цзянь, ушел с поста цаньчжи чжэнши, то стал сюэши палаты Цзычэньдянь, а это то же, что и сюэши палаты Вэньминдянь. В самой палате Вэньмин[дянь] была [долж' ность] да сюэши („великий ученый муж“), ее по совместительству занимал первый министр, а еще были просто сюэши, они возглавляли сюэши прочих [палат]. Потом, когда Bэнь'мин стало посмертным именем Чжэнь'цзуна, [палату] стали называть Цзычэнь[дянь]...».
В целом же «Записи вернувшегося к полям» — весьма однородный сборник, законченный, по счастью, автором самостоятельно, при жизни, и служащий безусловным, хотя и не столь богатым, как более обширные бицзи, источ' ником неповторимых сведений о сунском об'ве 1'й пол. XI в. — таком об'ве, каким его видел, воспринимал и понимал великий поэт и литератор Оуян Сю.
* Оуян Сю. Гуй тянь лу (Записи вернувшегося к полям) // Ван Би чжи. Минь шуй янь тань лу; Оуян Сю. Гуй тянь лу. Пекин, 2006; Алимов И.А. Вслед за кистью. Ч. 1. СПб., 1996, с. 100–112.
И.А. Алимов
ГУЙ ЦЗЫ Гуй Цзы, наст. имя Ляо Жунь'бо. Дата рожд. неизвестна, уезд Лочэн пров. Гуанси. Совр. писатель. Род. в бедной крестьянской семье. Представитель нацменьшинств, отец из народности мулао, мать из народности чжуан. Учил' ся в местном пед. училище, работал в Доме культуры Лочэна и сельской шко' ле. В 1987 учился в Лит. ин'те им. Лу Синя, в 1989 закончил ф'т кит. фи' лологии Северо'Западного ун'та в Сиани. С 1991 живет в Гуйлине, является зам. гл. редактора лит. журнала «Ли цзян».
Первый рассказ «Мама хэ тады исю» («Мама и рукава ее одежды») был опубликован в 1984 в журн. «Цин чунь», затем Гуй Цзы надолго прервал лит. деятельность, т.к. не мог прокормить семью писательским трудом. Новые рас' сказы «Гу нун» («Старинная безделушка») и «Цзя ай» («Недуг семьи») были опубликованы в 1990–1991 в журн. «Шоухо» и привлекли внимание к тв'ву Гуй Цзы. Его перу принадлежит много рассказов и повестей, к'рые в реали' стич. манере отражают удручающие картины произвола деревенских властей, обмана и эксплуатации крестьян новыми хозяевами, унижения и прозябания масс людей, брошенных на произвол судьбы. Герои Гуй Цзы — это крестьяне на приработках, сельские учителя, дети из бедных семей, начинающие писа' тели. Гуй Цзы критически настроен по отношению к соц. несправедливости и незащищенности людей в совр. Китае. В его прозе тяготы и страдания оказываются неотъемлемыми атрибутами жизни. В рассказах Гуй Цзы нередко малозначительное событие вызывает цепь необратимых последствий, что усиливает фаталистич. настроение его прозы.
Его повесть «Бэй юй линьшиды хэ» («Река, промокшая под дождем») была удостоена 2'й премии им. Лу Синя в 2001, повесть «Шанъу да кэшуйды нюй' хай» («Девочка, дремлющая в полдень») — премии журн. «Жэньминь вэнь' сюэ» за лучший рассказ в 1999.
* Гуй Цзы. Цзаоюй шэнье (Столкновение с темной ночью). Чэнду, 2001; он же. Цзянькуды синцзоу (Тяжкий путь). Пекин, 2002. ** Ван Гань. Бяньюань юй нуаньмэй (Периферия и смутное очарование). Куньмин, 2001, с. 205–213; Чжан Дяо. Сяошоды личан: синьшэн дай цзоцзя фан' тань лу (Позиция романа: записи бесед с писателями «нового поколе' ния»). Гуйлинь, 2001, с. 405–419.
Е.А. Завидовская
280
