
- •Глава I
- •Теоретические проблемы
- •Социальной дифференциации
- •Глава II
- •Экзоглоссная языковая ситуация
- •Эндоглоссная языковая ситуация
- •Глава III
- •Статус американского варианта литературного английского языка
- •Вариативность литературного английского языка в сша Территориальная, временная и социальная вариативность
- •Жанрово-стилистическая вариативность
- •Глава IV
- •I/2 11 а. Д. Швейцер 161
- •Глава V Билингвизм и диглоссия
- •13 А, д. Швейцер 185
- •Оглавление
- •199034, Ленинград, в-34, 9 линия, 12
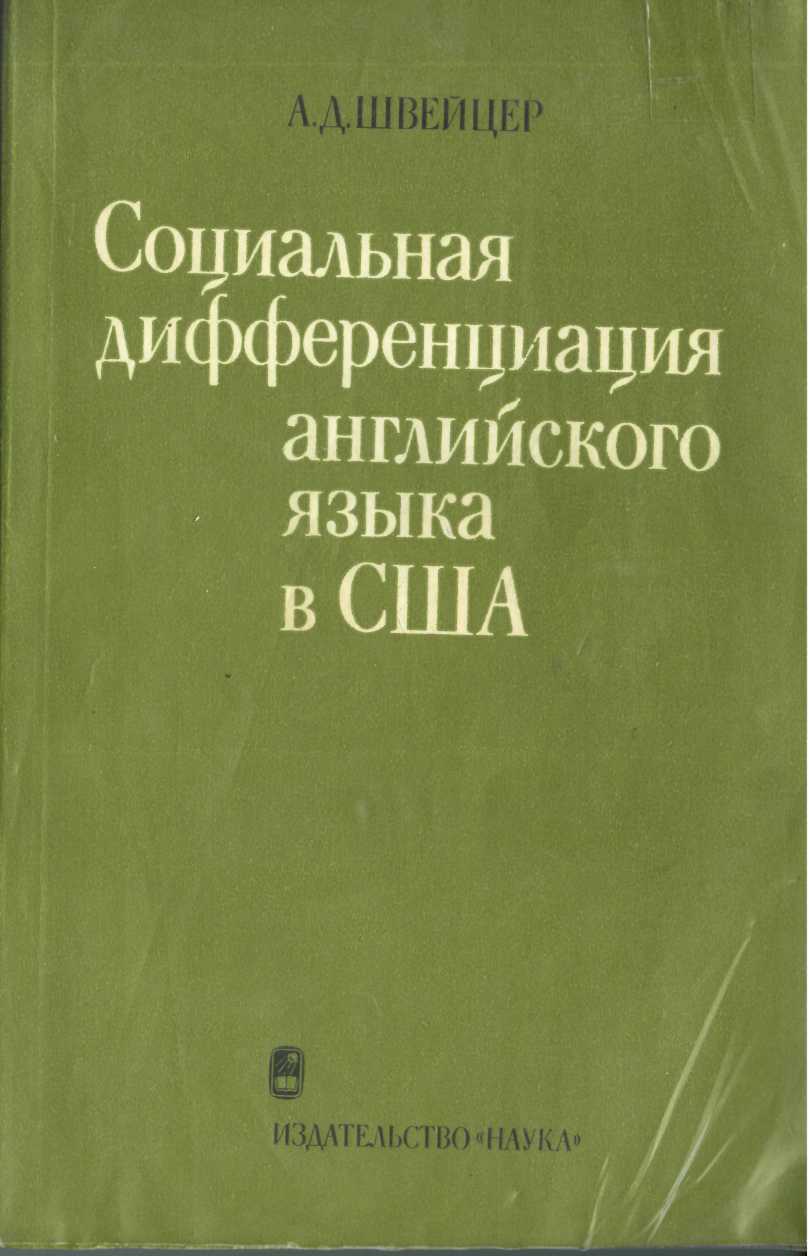
А.Д.ШВЕЙЦЕР
Социальная дифференциация
английского языка
в США
![]()
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА 1983
В монографии рассматриваются общие теоретические проблемы социальной дифференциации языка и на основе разработанного автором понятийного аппарата впервые в советском языкознании анализируются основные формы социальной вариативности английского языка в США, связанные с социальным расслоением американского общества, а также с варьированием социальных ситуаций.
Ответственный редактор
член-корреспондент АН СССР
В.Н. ЯРЦЕВА
4602010000-155 042(02)-83
© Издательство «Наука», 1983 г,
Введение
Настоящая работа является продолжением двух ранее опублико-ванных монографий, посвященных английскому языку в США1. Целью этих монографий было выявление отличительных черт американского варианта английского языка на всех уровнях языковой структуры. И хотя они и содержали отдельные элементы социолингвистического анализа (например, данные опроса информантов, коррелированные с их социальным статусом), в целом им была присуща внутрилингвистическая ориентация.
Между тем за последние годы было опубликовано немало новых материалов, освещающих некоторые социологические аспекты английского языка в Америке и позволяющих предпринять более углубленный и разносторонний анализ проблемы его социальной стратификации. Таким образом, возникли объективные предпосылки для введения в анализ нового измерения — социального. Именно этим определяются цели и задачи настоящей книги, в которой характерные особенности английского языка в США рассматриваются в социальной проекции, на фоне социальной структуры американского общества и с учетом варьирования социальных ситуаций использования языка и социально-коммуникативных сфер его применения.
Иными словами, объектом исследования является американский вариант современного английского языка (рассматриваемый в целом и не ограниченный рамками литературного языка) в контексте языковой ситуации, с учетом социокультурных факторов, влияющих на его структуру и функциональное использование.
В качестве исходного материала в работе используются как данные собственных наблюдений автора, опирающиеся на анализ художественных, газетно-информационных, публицистических и иных текстов, так и данные многочисленных социолингвистических работ американских ученых. Попутно отметим, что в последних порой содержится чрезвычайно интересный и информативный материал об отдельных социальных диалектах и об отдельных чертах языковой ситуации в США, но не предпринимаются попытки охарактеризовать глобально социальную структуру английского языка в США и социальную ситуацию его функционирования. От-
1 См.: [Швейцер 1963; 1971]. Последняя работа опубликована также и на английском языке [Svejcer 1977].
3 1*
сюда возникает необходимость в обобщающей работе, позволяющей рассмотреть материалы отдельных эмпирических исследований в более широкой перспективе.
Если по анализируемому материалу эта книга неразрывно связана с предыдущими исследованиями автора в области англистики, то по своим теоретическим установкам, понятийному аппарату и исследовательским приемам она тесно смыкается с его работами по общей теории социолингвистики, и в особенности с книгой, посвященной теории, проблемам и методам современной социолингвистики [Швейцер 1976]. Настоящая работа по существу является попыткой приложения этих теоретических положений к конкретному языковому материалу.
На основе разработанного автором понятийного аппарата в книге рассматриваются основные формы социально обусловленной вариативности английского языка, связанные с социальным расслоением американского общества, а также с варьированием социальных ситуаций.
Будучи первой попыткой такого рода анализа, настоящая работа, естественно, не может претендовать на исчерпывающее освещение всего комплекса проблем, связанных с социальной дифференциацией английского языка в Соединенных Штатах. Среди множества этих проблем в работе особо выделяются проблемы распределения социально-коммуникативных функций между английским языком и другими языками, распространенными в данном ареале; взаимосвязи и взаимодействия американского варианта литературного английского языка с социально-территориальными и социально-этническими диалектами; функционального статуса литературного английского языка и «сленга» в различных социально-коммуникативных ответвлениях американского варианта. Особое внимание уделяется анализу специфических форм существования и функционирования английского языка в Америке в условиях диглоссии и билингвизма.
Цели и задачи книги не ограничиваются выявлением статической картины социальной стратификации английского языка в Соединенных Штатах. Не менее существенным аспектом этой работы является определение основных тенденций, характеризующих динамику социальных процессов, нашедших свое отражение в языке. Экстраполяция этих тенденций на обозримое будущее дает возможность прогнозировать некоторые общие направления развития языковой ситуации в США.
Автор выражает надежду на то, что результаты предпринятого-им исследования заинтересуют как лингвистов, изучающих данную и аналогичные языковые ситуации, так и социологов, склонных рассматривать языки как источник данных о социуме.
Глава I
Теоретические проблемы
Социальной дифференциации
языка
Среди теоретических проблем современной социолингвистики одно из центральных мест занимает проблема социальной дифференциации языка. Интерес к этой проблеме восходит к самому раннему периоду в истории советского языкознания, когда в трудах В. В. Виноградова, К. Н. Державина, В. М. Жирмунского, Н. М. Каринского, Б. А. Ларина, Е. Д. Поливанова, A. M. Се-лищева, Н. В. Сергиевского, Л. П. Якубинского и других советских ученых закладывались основы нового направления, которому суждено было стать «первым опытом построения марксистской социолингвистики» [Гухман 1972, 3].
Наблюдаемое за последние десятилетия возрождение интереса к этой проблеме не следует рассматривать лишь как простое «повторение пройденного». Многое изменилось в работах советских ученых, изучающих социально обусловленную вариативность языка. Давно ушли в прошлое вульгарно-социологический подход к проблеме «язык и общество» и связанная с ним прямолинейная корреляция структуры языка и классовой структуры общества. Современная советская социолингвистика опирается как на достижения языкознания, позволившие в значительно большей степени приблизиться к пониманию всей сложности и многогранности языка, так и на достижения марксистской социологии, включающей не только социально-философский и общесоциологический уровни социологической теории, но и теоретические модели социальной структуры общества, различных социальных систем и подсистем, в том числе и социологической системы личности [Осипов 1979, 179-181].
Вместе с тем современная советская социолингвистика сохраняет преемственные связи с социологическим направлением, которое разрабатывалось в советском языкознании в 20—30-е годы, Эти преемственные связи определяют принципиальную методологическую ориентацию социолингвистических исследований, как прошлых, так и настоящих, на исторический материализм как на общую социологическую теорию марксизма. Именно этим опреде-
5
ляется подход советских ученых к разработке конкретных социолингвистических проблем, в том числе проблемы социальной дифференциации языка.
Проблема социальной дифференциации языка неразрывно связана с проблемой социальной дифференциации общества. Советские социолингвисты исходят из того, что социальная дифференциация является важнейшей чертой общественной жизни, чертой, приобретающей различное реальное содержание в разных исторических и социальных условиях. Как отмечал В. И. Ленин, «самое понятие „дифференциации", „разнородности" и т. п. получает совершенно различное значение, смотря по тому, к какой именно социальной обстановке применить его» 1.
В марксистской социологии различается социальная и естественная дифференциация общества. В то время как естественная дифференциация строится на таких признаках, как возраст, пол, раса и т. п., социальная дифференциация в конечном счете восходит к системе производственных отношений. В обществе, где господствует социальное неравенство, обусловленное неравным положением в системе производственных отношений, естественная дифференциация тесно смыкается с дифференциацией социальной, обнаруживая прямую корреляцию с неравенством социального статуса (например, социальное неравенство мужчин и женщин, белого и цветного населения и т. п.).
Производственные отношения лежат, как известно, в основе Деления общества на классы, которые в свою очередь включают социальные слои и социальные группы. Так, в капиталистическом обществе внутри класса буржуазии выделяются слои мелких, средних и крупных капиталистов, а внутри слоя средних крестьян — группы крестьян, пользующихся или не пользующихся наемной рабочей силой. Иными словами, классам присущи наиболее существенные черты, характеризующие все входящие в них социальные слои и социальные группы, в основе которых лежит более дробная характеристика общества [Философская энциклопедия 1970, т. 5, 142-1441.
Одним из основных аспектов проблемы социальной дифференциации языка являются отношения между социальной структурой общества и структурой языка. Теоретическая разработка проблемы социальной дифференциации языка во многом зависит от того, как представляет себе социолингвист структуру общества, находящую свое отражение в социальной стратификации языка.
Если для первых работ в области социальной дифференциации языка был характерен упрощенный взгляд на социальную структуру общества (отсюда и наблюдаемое во многих из них сведение этой структуры к структуре классовой), то для современного социолингвистического направления в советском языкознании характерно стремление принимать в расчет всю многогранность и многоаспектноcть социальной структуры. При этом социолингвисты
' Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 431.
6
исходят из принятого в марксистской социологии определения социальной структуры как сети упорядоченных и взаимообусловленных связей между элементами социальной системы. Многогранность социальной структуры проявляется прежде всего в том, что в ней фиксируются свойственный данному обществу способ разделения труда, взаимоотношения классов и других социальных групп, характер функционирования социальных институтов, социальной организации и социальных действий. Экономическая, политическая, культурная и другие структуры общества образуют различные аспекты его социальной структуры. При этом определяющая роль в марксистской социологии отводится, как известно, структуре экономических отношений, оказывающей детерминирующее воздействие на другие общественные структуры, в том числе на структуры общественных сфер и институтов общественной жизни (политика, наука и др.).
Особый интерес представляет для нас тот аспект социальной структуры, который охватывает распределение и количественное соотношение классов,' социальных групп, слоев, а также профессиональных, культурных и иных групп. В этой связи особую важность для современного социолингвистического направления приобретает учет разработанной марксистской социологией многоуровневой модели социальной структуры. Эта модель предусматривает выделение первичного и вторичного уровней социальной структуры. Первичным является классовый уровень, образуемый путем вычленения наиболее крупных элементов общественной совокупности. Эти элементы выделяются с учетом таких критериев, как отношение собственности, место в общественном разделении труда, способы получения и размеры приобретаемой доли общественного богатства.
Что же касается вторичного уровня социальной структуры, то этот уровень образует более мелкую сетку, которая накладывается на классовую. Сюда входят внутриклассовые, промежуточные, пограничные и вертикальные социальные слои. Образуемая таким образом структура является исходной для таких структур, как, например, социально-психологическая, которые рассматриваются в качестве ее производных [Галкин 1972, 73].
Многоаспектность социальной структуры проявляется и в том, что она может рассматриваться в трех планах — функциональном (как упорядоченная система сфер общественной деятельности социальных институтов и других форм общественной жизни), организационном (как система связей, образующих различные типы социальных групп; при этом в качестве единиц анализа выступают коллективы, организации и их структурные элементы) и, наконец, как система ориентации социальных действий (при этом единицами анализа являются такие элементы социального действия, как цели и средства, мотивы, стимулы, нормы и образцы, программы и подпрограммы) [Философская энциклопедия 1970, т. 5, 142—144].
В марксистской социологической литературе социальная структура рассматривается не только в статике, как некая совокупность
Связей и отношений, но и в динамике, с учетом интеграционных и дивергенционных процессов, определяющих ее становление, развитие и функционирование. В этом отношении представляет интерес взаимодействие таких процессов, как, с одной стороны, обособление и институционализация отдельных сфер общественной жизни, ведущая порой к изменениям в социальной структуре общества, а с другой — интеграция и функционализация тех или иных «внесистемных» образований. Выше приводился пример с функционализацией некоторых элементов естественной дифференциации общества. В обществе, разделенном на антагонистические классы, нередко случается так, что элементы этнической и религиозной обобщенности превращаются в элементы функциональных систем (например, разделение труда, власти, престижа, коммуникации).
При изучении дивергенционных процессов разграничивается, с одной стороны, так называемая горизонтальная дифференциация, связанная с разделением социальных функций между дополняющими друг друга сферами общественной деятельности, а с другой — вертикальная, или иерархическая, дифференциация функций между различными уровнями социального управления.
Исследуя интеграционные процессы, марксистская социология обращает внимание на такие механизмы интеграции, как формирование объективных предпосылок кооперации сфер общественной жизни, действие социально-психологических установок и ориентации, влияние систем, фиксирующих эти установки, и действие механизмов социального контроля [там же].
Мысль о том, что структура языка далеко не гомогенна и отражает в своей вариативности социальную гетерогенность структуры общества, далеко не нова. Тем более удивительно то, что в 1966 г. один из зачинателей социолингвистического направления в США, У. Брайт, охарактеризовал как чуть ли не открытие этого направления то, что оно решительно отказалось от рассмотрения языка как единообразного, однородного и монолитного по своей структуре [Брайт 1975, 34]. Между тем ошибочность подхода к языку как к гомогенной структуре, существующей вне социального контекста, была совершенно ясна еще основоположникам советского языкознания, стремившимся рассматривать структуру языка и структуру общества в их взаимосвязи. Об этом в предельно четкой форме писал еще Л. В. Щерба, когда устанавливал соответствие между неоднородностью языковой структуры и неоднородностью структуры данного общества. При этом он совершенно справедливо указывал на лежащий в основе данного соответствия механизм социальной детерминации языка: любая дифференциация в пределах того или иного коллектива влечет за собой дифференциацию речевой деятельности и тем самым дифференциацию языкового материала [Щерба 1965].
Вместе с тем в работах ряда советских лингвистов 20—30-х годов отмечалась тенденция сводить проблему социальной дифференциации языка к проблеме отражения в языке классовой
8
структуры общества. Критически оценивая эти работы, в том числе и собственные, В. М. Жирмунский впоследствии указывал, что свойственная им прямолинейная классовая атрибуция языковых фактов противоречит более сложным историческим фактам и отношениям. Возникают сомнения относительно правомочности рассмотрения социальных диалектов буржуазного общества как диалектов классовых — крестьянских, мещанских и т. п. «Существование социальных диалектов, — писал Жирмунский, — порождается в конечном счете классовой дифференциацией общества, но конкретные формы социальной дифференциации не прикреплены прямолинейными и однозначными признаками к определенным классовым носителям» [Жирмунский 1968, 321.
Сказанное подтверждается, в частности, данными наблюдений над положением немецких диалектов. Эти данные вносят существенные коррективы в существовавшие в довоенной социальной диалектологии представления, согласно которым «собственно диалект» рассматривался как язык крестьянства («деревни»), полудиалект (Halbmundart) — как язык городского мещанства (мелкой буржуазии), разговорная форма литературного языка — как средство общения господствующего класса («образованных»). Такая упрощенная схема опровергается, в частности, данными языковой ситуации в Германии, где разрушение крестьянских диа-лектов приводило к тому, что у богатых крестьян, ориентирующихся на город и его культурные моды, диалект постепенно утрачивал свои примерные признаки, становясь полудиалектом. С другой стороны, развитию сходных тенденций у другой части крестьянства содействовал процесс пролетаризации деревни и уход крестьян в город на работу. В результате сложилась ситуация, когда в условиях возрастающего воздействия общенационального языка или городского полудиалекта обнаруживаются существенные различия в речи разных поколений в одной семье, у мужчин или у женщин, в зависимости от рода занятий и мобильности. Различаются также и географические районы, сохранившие аграрный уклад, и районы сплошной индустриализации, что обусловливало характерный для полудиалекта широкий диапазон колебаний — от собственно диа-лекта до литературного языка в его разговорной форме [Жир-мунский 1969, 22—23].
Отсюда следует, что схема социальной дифференциации языка, жестко ориентированная на классовое расслоение общества, была лишь грубой и весьма приближенной моделью реальной языковой действительности. Можно усмотреть известную аналогию между работами, исходящими из этой модели, и теми социологическими исследованиями, в которых, как отмечает известный советский социолог Г. В. Осипов, наблюдалось игнорирование иерархии уровней социального исследования, «перепрыгивание» с высших уровней прямо к эмпирическому исследованию, минуя опосредствующие звенья, теории средних уровней. Разумеется, важнейшие социологические категории можно и должно рассматривать на разных уровнях, в том числе и непосредственно в эмпирической
9
Действительности. Но для успешного их изучения необходимо, как справедливо подчеркивает Г. В. Осипов, «проанализировать формы их проявления в социальной структуре общества, в социальных системах и организмах, в первичных коллективах общества, в мотивации и поведении индивидов — иными словами, построить систему теорий среднего уровня и перевести концептуальные понятия в операциональные, доступные эмпирическому изучению, количественному измерению и т. д.» [Осипов 1970, 19].
«Перепрыгивание» с высших уровней социологической теории на уровень эмпирических наблюдений, минуя опосредствующие звенья, наблюдалось и в ранних социолингвистических работах, где оно находило свое выражение как в прямых корреляциях диалектной структуры языка с классовой структурой общества, так и — в историческом плане — в попытках установления прямолинейных связей между языковыми изменениями и сменой общественных формаций.
Для раскрытия механизма детерминирующего воздействия социума на язык чрезвычайно важен учет всего многообразия факторов, воздействующих на социальную дифференциацию языка, включая все ее уровни, элементы, системы и подсистемы. Влияние социальных факторов на язык не сводится к вопросу о языковых рефлексах классовой структуры, а должно рассматриваться с учетом опосредствующей роли всех производных от нее элементов — социальных групп, слоев, профессиональных, культурных и иных групп, вплоть до первичных коллективов (малых групп). Учету подлежат и элементы горизонтальной дифференциации — различные сферы социальной жизни, и элементы вертикальной дифференциации с ее иерархией уровней социального управления. Немаловажно и воздействие па язык элементов социокультурных и социопсихологических структур — социальных норм, установок, стимулов, мотиваций, ориентации и механизмов социального контроля. Наконец, существенные коррективы в общую картину социальной дифференциации языка вносят интегрированные и «функционализированные» элементы внесистемных образований (например, возрастной, половой, этнической и территориальной дифференциации и др.).
Вместе с тем для советских социолингвистов неприемлема методологическая позиция их зарубежных коллег, ориентирующихся на те течения буржуазной социологии, для которых характерны отказ от исследования общества в целом и превращение «социальной группы» в основной объект социологического исследования [Осипов 1979, 69]. Работы представителей этого микросоциологического направления неоднократно подвергались критическому анализу в нашей науке [Парыгин 1965; Звездкина 1968 и др.]. Отмечалось, что эта теория, выдвинутая в противовес марксистской теории классов, фактически растворяет понятие класса в диффузной категории социальной группы и исходит из того, что малая социальная группа представляет собой микрокосм большого об-шества, а вся проблема общественных отношений может рассма-
10
триваться под углом зрения межличностных связей между членами малых групп.
Микросоциологическая ориентация в значительной мере сказывается на работах известного американского социолингвиста Дж. Гамперца. Справедливо критикуя попытки некоторых американских ученых усматривать причины чуть ли не всех явлений, связанных с социальной дифференциацией языка, в престижной имитации речевого поведения «высших классов» со стороны «низших классов», Гамперц видит выход из положения в том, чтобы разработать такой подход к анализу социолингвистических проблем, который давал бы возможность вообще не прибегать к таким «трудноопределяемым» понятиям, как «престиж» и «класс». Предлагаемая им процедура, по его собственным словам, родственна той, которую используют американские социологи и социальные психологи, ориентирующиеся на микросоциологический анализ социальной структуры общества. Согласно этой процедуре в качестве осповных единиц анализа выступают малые группы (например, друзья, родственники, сослуживцы и др.) [Gumperz 1964; 1965].
В еще большей мере микросоциологические установки находят свое выражение в работах этнометодологов, изучающих «рацио-нальную сторону повседневной жизни», т. е. ту практическую лот гику, которая лежит в основе интерпретации тех или иных действий, в том числе и речевого поведения. Однако речевое поведение анализируется этнометодологами лишь в микроконтексте той или иной конкретной речевой ситуации, в полном отрыве от широкого социального контекста, в том числе и основополагающих социальных структур, производными от которых являются социальные нормы речевой деятельности [Швейцер 1976, 42—48]. Как справедливо отмечает Г. В. Осипов, этнометодология, «будучи крайне вырази» тельным проявлением микротеоретической ориентации в буржуазной социологии. . . показала, как далеко может завести отрицание необходимости изучения крупномасштабных структур и процессов» [Осипов 1979, 107].
Из сказанного отнюдь не следует, что микросоциолингвисти-ческие исследования представляются бесперспективными или не заслуживающими внимания. Напротив, исследователями малых групп получен ряд интересных и представляющих несомненную научную ценность данных. Так, им удалось выявить ряд интересных закономерностей, характеризующих социально обусловленную речевую деятельность в рамках малых групп. Сюда относятся наблюдения относительно отражения в речевом поведении ролевых отношений коммуникантов, неформальной структуры малых групп и ситуации речевого акта, межличностной вариативности речи, и в частности переключения от одной языковой подсистемы к другой под влиянием тех или иных социальных факторов.
Не следует забывать, что задача социолингвистического изучения малых групп была четко сформулирована Е. Д. Поливановым еще в начале 30-х годов, задолго до того, как эта проблема оказалась
11
в центре внимания американских и западноевропейских социолингвистов. Обосновывая эту задачу, Е. Д. Поливанов писал, что внутри отдельных тесно связанных внутри себя групп обнаруживаются еще более тесные «кооперативные связи», чем в пределах больших коллективов, и что эти связи определяют и высокую степень тождества ассоциативных систем языка [Поливанов 1968, 55-56].
Однако в целом нельзя не признать, что микросоциология языка может явиться ценным дополнением к макросоциологиче-скому анализу, но никак не может заменить его. Она может быть эффективной лишь при наличии прочной макросоциологической базы. Такую базу дает марксистская социология, рассматривающая социальные микроструктуры как производные от макроструктур.
Подводя итоги сказанному выше, следует отметить, что детерминирующее влияние социума на язык предстает в качестве результирующей как макросоциологических, так и микросоциологических факторов при несомненном примате первых по отношению ко вторым.
Рассматривая весьма важную для общей теории социальной дифференциации языка проблему соотношения языковых и социальных структур, нельзя не остановиться на прочно укоренившемся представлении о наличии однозначных связей между этими структурами. В основе этого представления лежит гипотеза о том, что структура социальной дифференциации языка представляет собой как бы зеркальное изображение структуры социальной дифференциации общества и что между элементами этих структур существуют взаимооднозначные связи. Эта концепция, порой именуемая теорией изоморфизма языковых и социальных структур, Получила воплощение в самых разнообразных теоретических построениях в зависимости от лежащих в их основе взглядов на социальную природу языка и социальную структуру общества.
По существу именно эта идея присутствует (хотя и имплицитно) в приведенной выше схеме диалектной структуры языка (диалект — язык крестьянства, полудиалект — язык мелкой буржуазии, разговорная форма литературного языка — язык господствующего класса). В этой схеме явно находят свое отражение популярные в 20—30-е годы представления о классовой природе языка и о классовой дифференциации общества.
В совершенно ином методологическом ключе пытаются решить эту проблему некоторые зарубежные социолингвисты. Особый интерес представляет работа А. Д. Гримшо «Социолингвистика», один из разделов которой («В защиту изоморфизма») специально посвящен этой проблеме [Grimshaw 1971 ]. Гримшо исходит из того, что каузальные связи между языком и социальными структурами носят двусторонний характер. Он не отрицает того, что социальная структура может детерминировать язык, но при этом допускает, что и язык в свою очередь может детерминировать социальную структуру. Тот факт, что язык является органической частью процесса социального взаимодействия, по мнению Гримшо, является
12
достаточным основанием для описания языка и социальной структуры как единого целого, анализируемого в единых терминах.
Для правильной оценки теории Гримшо весьма существенно то содержание, которое вкладывается им в понятие социальной структуры. Сам автор признает, что использует этот термин неоднозначно — чаще всего в смысле «норм социального поведения», а порой в смысле «дифференциального распределения власти». Из этого следует, что речь идет фактически о некоторых элементах социально-психологической и социально-политической структур, а вовсе не о социальной структуре в целом. Нетрудно убедиться в том, как далека концепция Гримшо от марксистско-ленинской теории социальной структуры, рассматривающей социально-психологическую и социально-политическую структуры как производные от социально-классовой. Налицо характерная для буржуазной социологии подмена понятий: утверждается, что рассматривается социальная структура, а фактически речь идет о некоторых ее вторичных элементах, к тому же анализируемых в полном отрыве от ее первичной структуры, обусловленной специфичными для данного общества производственными отношениями. Остается неясным еще один вопрос: идет ли речь об изоморфизме на эпистемологическом уровне или об онтологической картине языка и общества в их взаимосвязи? Судя по тому, что Гримшо ссылается не только на возможность описания языка и общества в терминах единого метаязыка, но и на некую структурную однородность этих понятий, можно сделать вывод о том, что имеется в виду и то, и другое. В самом деле, Гримшо не ограничивается чисто теоретическими построениями, но и приводит некоторые эмпирические данные в подтверждение своего варианта гипотезы об изоморфизме языковых и социальных структур. При этом он опирается на работы американского этнографа Дж. Фишера [Фишер 1975] и социального психолога Б. Бернстайна [Bernstein 1966].
Исследование Дж. Фишера представляет собой сопоставительный анализ двух языковых и двух социокультурных систем, опирающийся на наблюдения автора над населением двух микронезий-ских островов — Трука и Понапе. Некогда объединенные в один коллектив с единым языком, жители этих островов были в течение нескольких столетий изолированы друг от друга. Эта изоляция привела к появлению некоторых различительных черт, как социокультурных (в частности, в нормах социального поведения), так и языковых. Однако наблюдения Фишера фрагментарны и атоми-стичны. Так, для того чтобы доказать, что структура языка Понапе носит более дифференцированный характер, он подвергает анализу всего лишь один вид синтаксических конструкций — именные сочетания и приходит к выводу о том, что в языке Понапе существует более четкая дифференциация синтаксических функций у компонентов этих сочетаний. В то же время в языке трук часто можно сомневаться, действительно ли определяющий сегмент именного словосочетания является определением к главному слову или это просто другое существительное в позиции приложения. На основа-
13
нии этого и других (крайне немногочисленных) синтаксических различий между этими близкородственными языками Фишер делает далеко идущий вывод о том, что более дифференцированная структура языка Понапе соответствует более дифференцированной социальной структуре его носителей с большим разнообразием значений различимых социальных ролей. Более того, он полагает, что за этим скрывается противопоставление двух психологических («мыслительных») типов — более абстрактного и более конкретного. Этот тезис никак не подтверждается языковым анализом. Ведь Фишер оперирует изолированными примерами, вырванными из контекста языковой системы. Сам он вынужден признать, что все эти случаи неоднозначности грамматических форм разрешаются в контексте, и, стало быть, нет оснований утверждать, что один из языков менее способен дифференцированно передавать те или иные оттенки значений, чем другой. Наконец, показательно и то, что все примеры Фишера касаются лишь формальных различий, а не различий в семантических структурах.
Что касается работ Б. Бернстайна, то они, несомненно, оказали заметное влияние на зарубежную социолингвистику, и в первую очередь американскую и западноевропейскую. Бернстайн выдвинул гипотезу о наличии двух речевых кодов — развернутого (elaborated) и ограниченного (restricted). Развернутый код характеризуется использованием более сложных синтаксических построений и меньшей степенью предсказуемости. Ограниченный код более стереотипен, предсказуем и тяготеет к элементарным синтаксическим построениям. Бернстайн утверждает, что между этими кодами и классовой структурой общества существуют однозначные связи. Ограниченный код, по его словам, — это код рабочего класса или, во всяком случае, его низших слоев. Этот код ориентирован на поддержание социального контакта и на выражение социальной солидарности. В то же время развернутый код — код «среднего класса» и, возможно, высших слоев рабочего класса — ориентирован на самовыражение и межличностное общение.
На уязвимость главного тезиса Бернстайна относительно прямой соотнесенности его «коммуникативных кодов» с классовой структурой общества обратили внимание многие ученые, в том числе и западногерманский социолингвист Д. Вундерлих, поставивший под сомнение наличие прямой связи между кодами Бернстайна и социальными слоями или классами. Понятия развернутого и ограниченного кодов, отмечает Вундерлих, не означают типичное речевое поведение того или иного класса [Wunderlich 1971, 308].
Полемизируя с Бернстайном, известный американский социолингвист У. Лабов убедительно показал всю беспочвенность утверждения о том, что так называемые низшие классы используют более ограниченные и стереотипные речевые ресурсы, пригодные лишь для поддержания социального контакта, но не для индивидуального самовыражения [Labov 1973]. Совершенно несостоятельной представляется попытка Бернстайна закрепить такие ре-
14
чевые функции, как «самовыражение», «межличностное общение», «выражение социальной солидарности», «поддержание социального контакта» за различными классами и слоями общества. Все эти функции, разумеется, присущи представителям любых классов и социальных групп.
В то же время нельзя не признать, что некоторые социальные ситуации влекут за собой преимущественное использование в речи готовых, предсказуемых формул и речевых штампов, тогда как для других характерно более свободное и «творческое» использование языка. Однако указанное различие связано именно с социальной ситуацией и не обнаруживает непосредственных связей с социальной структурой общества. Социальное взаимодействие представителей самых различных социальных слоев требует от них умения достаточно эффективно использовать ресурсы родного языка в тех ситуациях, в которых протекает их речевая деятельность.
Разумеется, в буржуазном обществе существуют определенные расхождения в самом наборе коммуникативных ситуаций, доступных представителям различных социальных слоев. Поэтому вполне возможны известные расхождения, скорее всего вероятностного характера, в частотности тех или иных моделей речевого поведения, используемых различными социальными слоями и группами. Однако эти расхождения соотносятся с социальной структурой лишь опосредованно, через речевую ситуацию [Gazden 1972].
Так или иначе данные, приводимые в работах Дж. Фишера, Б. Бернстайна и др., никак не подтверждают гипотезы об изоморфизме языковых и социальных структур. Ведь об изоморфизме тех или иных систем можно говорить лишь в тех случаях, когда «каждому элементу первой системы соответствует лишь один элемент второй и каждой операции (связи) в одной системе соответствует операция (связь) в другой и обратно» [Философский словарь 1972, 107].
Таким образом, структура социальной дифференциации языка и структура социальной дифференциации общества отнюдь не изоморфны по отношению друг к другу, хотя и связаны между собой. Эта связь, в основе которой лежит детерминирующее воздействие общества на язык и то активное влияние, которое язык оказывает на формирование социальных структур, определяет известные черты сходства между этими структурами. Подобно структуре социальной дифференциации общества, структура социальной дифференциации языка представляет собой многомерное образование, существующее и функционирующее в нескольких измерениях. Так, для этой структуры характерно противопоставление двух плоскостей социально обусловленной вариативности языка — стратификационной и ситуативной. Стратификационная вариативность связана с социально-классовой структурой общества. Нередко именно к этой вариативности сводят всю проблему социальной дифференциации языка.
15
Иной и более обоснованной точки зрения придерживается Б. Н. Головин, считающий «то членение языка и его функционирование, которое намечается в плоскости социальных групп и общественных слоев», лишь одним из социально обусловленных членений структуры языка [Головин 1969, 347].
Основной единицей анализа стратификационной вариативности языка являются языковые коллективы — совокупности социально взаимодействующих индивидов, обнаруживающих определенное единство языковых признаков (общность инвентаря языковых единиц, используемых языковых систем и т. п.). Неизоморфность языковых и социальных структур находит свое выражение, в частности, в том, что между языковыми коллективами, с одной стороны, и элементами социально-политических, социально-классовых, социально-психологических и иных структур — с другой, отсутствуют взаимооднозначные связи. Известно, например, что формула «единый язык — единое государство» далеко не всегда при-ложима к реальным языковым ситуациям. Если взять в качестве примера такую государственную общность, как Канада, то здесь в пределах одной этой общности существует не один, а несколько различных языковых коллективов. Отсутствуют взаимооднозначные связи и между такими единицами, как «языковой коллектив» и «нация». Несмотря на то что языковое единство является одним из важнейших признаков нации, границы языка и нации часто не совпадают. Так, вместе с таджиками в таджикскую нацию входит и ряд других языковых коллективов, в том числе припамирские народности. Два различных языковых коллектива включает в себя мордовская нация. Каждый из них ориентируется на собственный литературный язык (эрзя и мокша) [Базиев, Исаев 1973, 83— 85].
Вместе с тем понятие языкового коллектива может быть использовано как на микроструктурном, так и на макроструктурном уровне, поскольку оно является универсальным и всеобъемлющим, включающим как большие, так и малые общности. Языковые ресурсы языкового коллектива образуют единую социально-коммуникативную систему. Дело в том, что с социолингвистической точки зрения существует принципиальная функциональная общность между любой совокупностью языковых систем и подсистем, используемых языковым коллективом в той или иной языковой ситуации, будь то различные функциональные стили одного и того же языка в условиях одноязычия, диалект и литературный язык в условиях диглоссии или два сосуществующих языка в условиях двуязычия.
Понятие социально-коммуникативной системы позволяет выявить функциональное тождество гомогенных (одноязычных и одно-диалектных) систем и систем гетерогенных (двуязычных или ди-глоссных), обслуживающих языковые коллективы в условиях билингвизма и диглоссии. Обычно, характеризуя функциональный статус того или иного языкового образования, мы используем довольно грубую шкалу, позволяющую лишь безоговорочно от-
16
носить данное образование к таким категориям, как «диалект», «полудиалект», «региональное койне», «литературный язык» и т. п. Используя понятие социально-коммуникативной системы, мы можем более точно охарактеризовать и некоторые промежуточные, переходные образования, состоящие из набора различных функциональных компонентов (таких, как, например, литературный язык и региональное койне, региональное койне и диалект и др.).
Системный характер такого рода совокупностей определяется тем-, что они могут рассматриваться как целостные объекты, состоящие из взаимосвязанных элементов. Взаимосвязь компонентов социально-коммуникативной системы (языков, диалектов, полудиалектов, арго и т. п.) носит характер функциональной дополнительности. Отношение функциональной дополнительности означает социально детерминированное распределение используемых данным языковым коллективом языковых систем и подсистем по сферам употребления, социальным функциям и коммуникативным ситуациям. Необходимо при этом иметь в виду, что системные отношения между компонентами социально-коммуникативных систем задаются не внутриструктурными связями, а связями социальными, определяющими функциональное распределение компонентов. Существует определенная зависимость между социальной иерархией компонентов социально-коммуникативных систем и их распределением по сферам использования и социальным функциям. Компоненты, тяготеющие к сфере книжно-письменной литературной речи, обычно характеризуются большим социальным престижем, нежели те, которые преимущественно используются в бытовом общении.
Подобно понятию языкового коллектива, понятие социально-коммуникативной системы нейтрально в отношении такого признака, как размеры и масштабы соотнесенных с нею социальных единиц. Социально-коммуникативной системой является и национальный язык — системно организованная совокупность языковых ресурсов нации от литературного языка до территориальных и социальных диалектов, и языковые системы, используемые малыми социальными группами. Набор компонентов социально-коммуникативной системы зависит от широты диапазона ее функций и разнообразия обслуживаемых ею сфер общения. Диапазон социальных функций, выполняемых социально-коммуникативной системой, определяет структуру ее социальной матрицы.
Вместе с тем социально-коммуникативные системы могут отличаться друг от друга или же варьироваться на временной оси не только по структуре социальной матрицы, но и по заполнению ее клеток теми или иными конкретными формами существования языка. Так, в период средневековья и раннего возрождения функциональные клетки «язык церкви», «язык науки» в ряде европейских стран (например, в Англии) занимала латынь. Впоследствии эти клетки заполнили специализированные функционально-стилистические разновидности национального языка. В некоторых африканских ареалах (например, в Танзании) английский
2 А. Д. Швейцер 17
язык вытесняется из матричной клетки «официальный язык» языком суахили. Для иммигрантских общин в США характерно постепенное (от одного поколения к другому) вытеснение родного языка английским из социально-коммуникативной системы, сокращение его позиций в социальной матрице до одной — «язык бытового общения» и, наконец, замена его и в этой позиции разговорно-просторечной разновидностью английского языка.
Если языковыми коррелятами стратификационной вариативности являются те языковые различия, которые обнаруживают представители различных социальных слоев и социальных групп, то ситуативная вариативность находит свое выражение в дифференцированном использовании языка в зависимости от социальной ситуации. При этом под влиянием социальной ситуации может возрастать или снижаться частотность отдельных социально маркированных единиц или же наблюдаться переключение с одной языковой, диалектной или же функционально-стилистической системы на другую.
Сосуществование двух видов социальной вариативности языка — стратификационного и ситуативного — лежит в основе «регулярной модели» социальной дифференциации языка, обнаруженной У. Лабовым в его наблюдениях над стратификацией английского языка в Нью-Йорке [Labov 1966]. С одной стороны, удалось установить известные корреляции между вариативностью используемых языковым коллективом языковых средств и социальной структурой данного общества: некоторые фонетические признаки местного диалекта чаще отмечались у представителей низших социальных слоев, чем у представителей высших слоев городского общества. С другой стороны, у представителей всех слоев и групп наблюдалась одна и та же ситуативно обусловленная тенденция — заметное приближение к национальной норме в ситуациях «официального» общения и отдаления от нее в непринужденно-бытовом общении. Отсюда следует, что между стратификационной и ситуативной вариативностью существует тесная взаимосвязь. Она проявляется в том, что в результате наложения стратификационных различий на различия ситуативные одна и та же модель ситуативной вариативности может по-разному реализоваться в различных социальных группах. Так, по данным Ла-бова, модель ориентации на более «престижные» формы речи в официальных ситуациях характеризуется различными количественными показателями у представителей разных социальных слоев: у высших социальных слоев отмечалось более частотное использование престижных форм. Вместе с тем в ситуациях, когда имеет место сознательная ориентация на норму, представители «низшего среднего класса» обнаруживали явную тенденцию к гиперкоррекции, оставляя позади представителей слоев, занимающих более высокое место в социальной иерархии.
Среди параметров социальной ситуации, оказывающих детерминирующее воздействие на дифференцированное использование языка, следует выделить прежде всего ролевые отношения — взаимо-
18
отношения между участниками коммуникативного акта, определяемые социальной ситуацией и варьирующиеся вместе с ней. В ходе социального взаимодействия человеку приходится «проигрывать» более или менее обширный репертуар социальных ролей, вступая при этом в различные ролевые отношения (чиновник—проситель, покупатель—продавец, учитель—ученик, сослуживец—сослуживец, отец—сын, муж—жена и т. п.). Смена ролей существенно меняет структуру социальной ситуации и влияет на выбор языковых средств.
В марксистской социологии понятие социальной роли трактуется как связующее звено менаду макроструктурами общества и его микроструктурами. Оно позволяет осуществлять переход от системного анализа общества к системному анализу личности. Так, у А. Кречмара это понятие соотносится с понятием социальной функции. Социальная функция — одно из ключевых понятий обезличенного аспекта социологического анализа — это социальная деятельность, рассматриваемая со стороны ее значимости для той или иной социально-исторической общности, как выражение социальной потребности. В то же время социальная роль — понятие личностного аспекта социологии — это способ реализации социальной деятельности определенным поведением индивида, в том числе и речевым (отбором языковых средств).
Понятие социальной роли существует в трех плоскостях — ролевое предписание, интернализованная роль и ролевое поведение. Ролевое предписание относится к сфере общественного сознания и означает социальную норму с точки зрения ее функциональной значимости для поведения индивида. Интернализованная роль — категория индивидуального сознания — характеризует индивидуальное сознание в ситуативном плане в связи с определенными ролевыми предписаниями. Эта категория непосредственно соотносится с «ролевым поведением», т. е. реальным социальным действием, определяемым социальной ролью. Понятие социальной роли дает возможность проследить связи между социально-классовой структурой и системой ориентации социальных действий как различными аспектами социальной структуры общества. При этом исходным моментом являются производственные отношения, детерминирующие все остальные общественные отношения. Таким образом, процесс социальной детерминации личности предстает перед нами как многоступенчатый процесс, основой которого являются производственные отношения, определяющие социально-классовую структуру, систему социальных институтов и систему идеологических отношений. При этом общие факторы детерминируют личность через посредство факторов специфических (классовая принадлежность, принадлежность к социальным институтам, профессиональным общностям и т. д.). К числу социологически релевантных специфических факторов относятся также пол и возраст. Наиболее важным из этих факторов является классовая и слоевая принадлежность, которая в свою очередь детерминирует непосредственное окружение индивида — систему малых
19 2*
групп, в которых протекает его социальная деятельность, — семья, трудовой коллектив, группы для удовлетворения совместных интересов и т. п. [Кречмар 1970, 52—53].
Марксистская теория ролей дает возможность преодолеть разрыв не только между микро- и макросоциологией общества, но и между микро- и макросоциологией языка. В самом деле, в свете сказанного выше становится ясным характер связи между стратификационной и ситуативной вариативностью языка. Для этого следует рассмотреть, как соотносятся друг с другом такие понятия, как «роль» и «статус».
Статус — комплекс постоянных социальных и социально-демографических признаков, характеризующих индивида, — относится к понятийному ряду, связанному со стратификационной вариативностью языка. К числу входящих в это понятие признаков относятся именно те, которые лежат в основе указанных выше специфических факторов, детерминирующих социальные действия (классовая и слоевая принадлежность, принадлежность к социальным институтам, профессиональным общностям, возраст, пол, образование и др.). Языковыми коррелятами статуса могут быть, с одной стороны, литературный язык, а с другой — такие лежащие за его пределами системы, как социальные, социально-профессиональные и территориальные диалекты, групповые и корпоративные арго, жаргоны и др.
Между статусом и ролью наблюдается двусторонняя связь. Статус является одним из важнейших детерминантов ролевых отношений. Выше отмечалось со ссылкой на работы У. Лабова, что модели ситуативной вариативности реализуются по-разному у представителей различных социальных слоев. В этом явлении находит свое выражение детерминирующее воздействие статуса на ролевые отношения, оказывающие непосредственное влияние на ситуативную вариативность. Однако ролевые отношения могут в свою очередь служить импульсом, приводящим в действие механизм актуализации статуса. Так, в пьесе английского драматурга А. Уэскера «Все блюда с картошкой» («Chips with Everything») солдатский жаргон встречается лишь при реализации ролевых отношений «солдат—солдат»:
Ginger: Driver — I'm going to get something of this mob —it's going to cost them something keeping me from civvy street. . . Cannibal: I'm going in that Radar-Plotting lark. . . S n i 1 e r: I think I'll go into Ops. . .
Отсутствие жаргонизмов в речи солдат при обращении к офицерам объясняется тем, что такое речевое поведение было бы нарушением речевого этикета, или, иными словами, ролевых предписаний.
Кроме ролевых отношений к числу параметров социальной ситуации, оказывающих влияние на ситуативную вариативность, относится и обстановка (setting) или место (locale) коммуникативного акта. Существуют определенные, строго регламентированные формы локализации тех или иных ролевых отношений в простран-
20
стве. Иными словами, для актуализации некоторых ролевых отношений требуется определенная обстановка. Так, актуализация ролевых отношений «адвокат—судья» и «обвинитель—судья» происходит в обстановке «зал суда». Именно в этой обстановке ролевые предписания требуют соответствующего обращения к судье (в английском языке «Your Honour», «May it please the Court», «If it please the Court» и т. п.). Релевантность обстановки (место) для выбора языковых средств, маркирующих ролевые отношения, варьируется от одной социокультурной системы к другой.
С понятием социальной ситуации тесно связано понятие сферы общественной деятельности, которое можно рассматривать в качестве родового по отношению к первому. В социолингвистике для обозначения коммуникативно релевантной сферы общественной деятельности используется термин «сфера коммуникативной деятельности» или, если пользоваться терминологией американских социолингвистов, «сфера речевого поведения» (domain of language behaviour) [Fishman 1972, 15—53]. Под это понятие подводятся именно те сферы общественной деятельности, которые отличаются друг от друга социально-экологическими контекстами использования языка.
Таким образом, понятие сферы коммуникативной деятельности, абстрагируясь от конкретных речевых ситуаций, вводит в структуру социальной дифференциации языка еще одно измерение, связанное с горизонтальной дифференциацией социальной структуры, т. е. с расчленением ее по дополняющим друг друга сферам общественной деятельности.
Номенклатура и исчисление сфер коммуникативной деятельности определяются социокультурной динамикой данного общества в тот или иной период его истории. Обычно выделяются такие сферы, как, например, наука, образование, религия, официальное делопроизводство, общественно-политическая деятельность, художественное творчество, массовая коммуникация.
Языковым коррелятом этих сфер в одноязычном обществе является функциональный стиль — «общественно осознанная и функционально обусловленная внутренне объединенная совокупность приемов употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в сфере того или иного общественного, общенационального языка, соотносительная с другими такими же способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные функции в речевой общественной практике данного народа» [Виноградов 1955, 73]. В. В. Виноградов предложил следующую классификацию функциональных стилей с учетом основных функций языка: обиходно-бытовой (функция общения); обиходно-деловой, официально-документальный и научный (функция сообщения); публицистический и художественно-беллетристический (функция воздействия) [Виноградов 1963, 6]. Сходную классификационную схему на материале английского языка разработал И. Р. Гальперин. Однако в его схеме отсутствует обиходно-бытовой стиль, обиходно-деловой и официально-документальный стили объединены в еди-
21
ный официально-деловой стиль, а в дополнение к публицистическому стилю выделяется газетный стиль [Galperin 1971].
Разумеется, номенклатура функциональных стилей может варьироваться от языка к языку, не говоря уже о том, что таксономические различия в значительной мере объясняются расхождениями в исходных позициях тех или иных авторов. Известно, например, что вопрос о существовании единого стиля художественной литературы относится к числу дискуссионных вопросов стилистики. И в этом нет ничего удивительного, поскольку решение этого вопроса зависит от того, какой критерий автор считает наиболее существенным для выделения функционального стиля — наличие общей функции или общих языковых признаков.
Для нас важно то, что понятие функционального стиля является коррелятом сферы коммуникативной деятельности, которая является не чем иным, как обобщенной социальной (речевой) ситуацией со всеми присущими ей атрибутами. На это справедливо указывает К. А. Долинин, отмечающий, что «функциональные стили — это не что иное, как обобщенные речевые жанры, т. е. речевые нормы построения определенных, достаточно широких классов текстов, в которых воплощаются обобщенные социальные роли — такие, как ученый, администратор, поэт, политик, журналист и т. п. Эти нормы — как и всякие нормы ролевого поведения — определяются ролевыми ожиданиями и ролевыми предписаниями, которые общество предъявляет к говорящим (пишущим). Субъект речи (автор) знает, что тексты такого рода, преследующие такую цель, надо строить так, а не иначе, и знает, что другие (читатели, слушатели) ждут от него именно такого речевого поведения». И далее: «Видимо, дело в том, что функциональные стили и вообще речевые жанры отражают не только и, может быть, не столько специфику коммуникативной деятельности, которую они обслуживают, сколько традиционное представление о данного рода деятельности, сложившееся в данной культуре, ее (деятельности) социальный статут, — т. е. как на нее смотрят в обществе, какие требования предъявляют к тем, кто ею занимается — опять-таки ролевые предписания и ролевые ожидания, которые, будучи приняты субъектом, определяют его отношение к себе как к исполнителю роли, к адресату речи как к ролевому партнеру и к предмету речи как объекту ролевой деятельности» [Долинин 1978, 60, 62].
Между сферами общественной деятельности и номенклатурой функциональных стилей отсутствуют взаимооднозначные связи. Порой один и тот же функциональный стиль обслуживает несколько сфер общественной деятельности. Так, официально-деловой стиль может использоваться и в сфере административного управления, и в юриспруденции, коммерции, и др. В некоторых случаях в качестве аналога функционального стиля, занимающего то же самое место в матрице социально-коммуникативной системы, может выступать особая разновидность данного языка. Так, в ряде арабских стран в сфере религии, публицистики, поэ-
22
зии и др. используется классический арабский язык, тогда как в сфере повседневного бытового общения доминирует местный диалект арабского языка. Иногда специализированная сфера коммуникативной деятельности закрепляется за особым языком (см., например, использование церковнославянского языка в сфере религии у православных или использование арабского в той же сфере у тюркоязычных мусульман).
Модели функциональных стилей в одноязычном обществе аналогичны моделям распределения языков по сферам коммуникативной деятельности в условиях билингвизма. Так, по данным X. П. Рона, среди двуязычного населения Парагвая языком повседневного общения является гуарани, тогда как в сфере народного образования и в официально-деловой речи используется испанский язык (Rona 1966]. Таким образом, как уже отмечалось выше, варьируется лишь конкретное заполнение соответствующих клеток социально-коммуникативной матрицы при том условии, что все сферы коммуникативной деятельности охватываются обслуживающей данное общество социально-коммуникативной системой.
От понятия функционального стиля следует отличать так называемый контекстуальный стиль — термин, используемый У. Лабовым, различающим «стиль тщательной речи» (careful speech) и «стиль непринужденной речи» (casual, speech). Четко структурированная официальная обстановка формального интервью определяет речевой контекст «тщательной речи». Интервью, явно преследующее цель выявить особенности языка информанта, стоит выше по шкале официальности, чем большая часть повседневной речевой деятельности, хотя и уступает в этом отношении ситуации публичного выступления или предварительной беседы с будущим нанимателем. Для всех ситуаций, в которых фигурирует «тщательная речь», характерна сознательная ориентация на литературную норму, на престижные, правильные формы речи. С другой стороны, «непринужденная речь» — это повседневная речь, в которой внимание не фиксируется на языке. «Это та речь, — пишет Лабов, — которую мы слышим на улицах Нью-Йорка, в барах, метро, на пляже, в гостях у друзей» [Labov 1972b, 79—109]. Из сказанного следует, что в отличие от функциональных стилей, соотнесенных со сферой коммуникативной деятельности, т. е. с обобщенным типом социальных ситуаций, «контекстуальный стиль» соотносится непосредственно с конкретной социальной ситуацией, с ее ролевой структурой. На это обстоятельство обращает внимание Е. А. Земская, когда отмечает, что непринужденность общения (т. е. то, что Лабов называет casual speech) создается тремя компонентами внеязыковой ситуации: 1) неофициальные отношения между говорящими, т. е. близкие (дружеские, родственные) или нейтральные; 2) у говорящих отсутствует установка на сообщение, имеющее официальный характер (лекция, доклад, выступление на собрании, ответ на экзамене, научный диспут и т. д.); 3) в ситуации нет элементов, нарушающих неофициальность
23
общения (присутствие посторонних лиц, магнитофон для записи речи и т. п.) [Земская 1969, 5].
Понятие «контекстуальный стиль» в целом соответствует понятию «тональность» (tenor) в терминологии М. А. К. Халлидея, согласно которому «регистр» (т. е. ситуативно обусловленная форма языка) определяется триадой, включающей наряду с тональностью «область дискурса» (field) и «модус» (mode). В этой триаде «область» означает тему коммуникации и — шире — сферу общественной деятельности, осуществляемой в данный момент участниками коммуникативного акта, «тональность» — межличностные отношения между коммуникантами, в том числе и ролевые отношения, а «модус» — используемый канал общения (письменная, устная речь и т. п.) [Halliday 1979, 31-35].
Разграничение понятий «функциональный стиль» и «контекстуальный стиль» (тональность) определяется необходимостью, в дифференциации понятия стиля, связываемого с использованием языка в той или иной сфере человеческой деятельности, и понятия, отражающего закономерности отбора языковых средств в зависимости от конкретной социальной ситуации. Использование языка в различных социальных ситуациях может быть представлено в виде континуума переходов от ситуаций, характеризующихся предельно неофициальными отношениями между коммуникантами, к ситуациям с предельно официальными отношениями между ними и с сугубо официальной обстановкой. Поэтому представляется целесообразным попытаться выделить в этом континууме дискретные уровни, которые позволили бы — пусть на основе несколько грубой и приближенной шкалы — определять тональность речевой коммуникации.
Можно, например, остановить свой выбор на шкале из трех уровней: официальный, нейтральный, неофициальный2. Выбор этих уровней определяется тем, что, по данным ряда исследований, именно эти признаки, отражающие ролевые отношения, играют наиболее существенную роль для ситуативно обусловленного отбора языковых средств. Так, Е. А. Земская и ее соавторы, анализируя ситуативно обусловленный выбор между кодифицированным литературным языком и разговорной речью, отмечают, что все существенные для этого выбора параметры ситуации так или иначе отражают противопоставление ситуативных признаков «официальный/неофициальный». Это противопоставление характеризует как тип ролевых отношений, так и установку на определенный тип коммуникативного акта и саму обстановку, в которой протекает этот акт. При этом доминирующую роль играет характер ролевых отношений [Русская разговорная речь 1973, 14—17].
Выше отмечалось, что одним из аспектов социальной дифференциации общества является дифференциация его социально-
2 Более дробную шкалу предлагает М. Джоос,
выделяющий пять стилей: 1)
интимный (intimate);
2)
непринужденный (casual);
3)
доверительный (consultative);4)официальный
(formal);
5)
«ледяной» (frozen)
[Joos 1968,
188].
Более дробную шкалу предлагает М. Джоос,
выделяющий пять стилей: 1)
интимный (intimate);
2)
непринужденный (casual);
3)
доверительный (consultative);4)официальный
(formal);
5)
«ледяной» (frozen)
[Joos 1968,
188].
24
психологической структуры. Эта линия социальной дифференциации также получает известное отражение в социальной дифференциации языка, образуя еще одну плоскость ее многогранной и многомерной структуры. Прежде всего заслуживает внимания вопрос об отражении в языке такого элемента социально-психологической структуры, как «установка» (attitude). Как отмечает американский социолог Дж. Э. Дэвис, «установка относится к числу наиболее изученных и наименее четко определенных переменных, которыми оперирует социальная наука. Действительно, чувство приязни или неприязни, выбор или отвержение, предрасположенность или непредрасположенность, одобрение или неодобрение — как бы они ни назывались, подобные положительные или отрицательные чувства столь всеобщи, что определения, которые можно обнаружить в учебниках, служат скорее для указания на теоретический лагерь автора, чем для определения объекта анализа» [Дэвис 1972, 54].
Впрочем, для нас наиболее существенными представляются те характеристики установки, которые, по-видимому, не вызывают никаких сомнений, а именно ее социальный характер и социальная обусловленность. Об этом писал еще Дж. Мид, считавший, что наши установки на объекты, на «других» и на себя порождаются и поддерживаются социальными факторами. Что нам нравится или не нравится, наша приязнь или неприязнь по отношению к другим и к самим себе — все это возникает из нашего общения с другими и из нашей способности видеть мир их глазами. Иными словами, мы развиваем свои установки путем «интернализации» установок других [Mead 1934, 158]. Отсюда возникает формирующая установку триада, состоящая из субъекта, другого лица или лиц и объекта установки.
С этой точки зрения группу или даже общество в целом можно, как отмечает Дэвис, рассматривать как сложную сеть или структуру межличностных чувств, в которой почти все индивиды связаны с несколькими другими установками приязни, неприязни, уважения, ненависти и т. п. [Дэвис 1972, 61—62].
Разумеется, структуру социальных установок, как и социально-психологическую структуру вообще, следует рассматривать как производную от социально-классовой структуры общества, элементы которой — от класса до малой группы — оказывают определенное воздействие на формирование установок.
Говоря о языковых рефлексах социальных установок, следует различать различные виды последних в зависимости от их объекта. Прежде всего объектом установки может быть сам денотат языковой единицы. Социальная установка в отношении денотата может фиксироваться как в коннотации слова, так и в формировании у него переносных значений. Так, в известном словаре сленга Э. Партриджа [Partridge 1970] отмечается переносное значение слова Christian — «порядочный малый» (decent fellow). Это значение, впервые отмеченное у Диккенса, так же как и значение «торговец, охотно отпускающий в кредит» и значение соответствую-
25
щего прилагательного («гуманный, цивилизованный, респектабельный»), опирается на положительную коннотацию первичного значения этого слова и в конечном счете на положительную установку в отношении его денотата. Как видно из этого примера, установка часто формируется на основе сложившегося у данной группы стереотипа, приписывающего положительные признаки собственной группе и отрицательные — чужой.
Другая разновидность социальных установок — это установки, объектом которых являются не находящие отражения в языке элементы внеязыковой действительности, а сам язык, его формы, системы и подсистемы (языки, диалекты, жаргоны и т. п.). Примером такого рода установок являются оценочные суждения носителей американского и британского вариантов английского языка, у которых, как отмечает американский лингвист Г. Уайтхолл, «различия в произношении, лексике, идиоматике и синтаксисе становятся источником раздражения, насмешек и недоразумений. Носитель того или иного варианта переполнен «языковыми шиб-болетами». Различными окольными путями он пришел к твердому убеждению, что опущение предконсонантного [r] — признак жеманности или же, напротив, оно символизирует социальный престиж, что «широкое fa]» — «изысканно» или, напротив, «манерно», что ate, произнесенное [et], звучит «культурно» или же, наоборот, «вульгарно». Так на первичную материю языка, символизирующую опыт, наслаивается вторичная символизация, возникшая в течение последних двухсот лет на основе путаных представлений о приличии и эстетичности, снобизма, подсознательного страха, национальной гордости и эгоизма и выражаемая через характеристику языка. Столетние споры по поводу «американизмов» и «бри-тицизмов», бросаемые друг в друга через океан обвинения в «порче языка» и в «изнеженности», барьеры недоверия между двумя нациями — таковы неизбежные последствия языковой нетерпимости» [Whitehall 1959, XXV-XXVI].
Можно сказать, что анализ социальной дифференциации языка имеет две стороны — объективную и субъективную. К объективной стороне относятся реально наблюдаемые объективные показатели социальной дифференциации языка pi речи. К субъективной же стороне относятся данные, характеризующие социальные установки, которых придерживаются члены того или иного коллектива в отношении языковых форм, систем и подсистем, а также ценностную ориентацию этого коллектива. Различие между тесно связанными друг с другом понятиями социальной установки и ценностной ориентации заключается в том, что установка выражает отношение коллектива к противопоставляемым друг другу языковым формам и системам, тогда как ценностная ориентация, будучи «ориентацией второго порядка», т. е. ориентацией на определенные нормы выбора [Любимова 1970, 72], связана с критериями отбора этих форм в соответствии с действительными для данного коллектива нормативными стандартами. Именно на основе ценностной ориентации формируются представления о желатель-
26
ности или нежелательности, приемлемости или неприемлемости той или иной языковой формы, той или иной языковой системы или подсистемы в определенной социальной ситуации.
По-видимому, именно нарушение такого рода нормативных стандартов лежит в основе так называемого смешения стилей, наблюдаемого порой у иностранцев и детей и используемого некоторыми авторами в юмористических целях. Ср. следующие примеры, приводимые в статье М. А. К. Халлидея и др.: Should you like another pint of beer. . . (из разговорной речи иностранца вместо нормативного для данной ситуации: if yon want another pint of beer. . .); It was all up with King Lear, who couldn't take any more of it (из школьного сочинения); . . .that disturbed the equanimity of the domesticated feline animal that exterminated the noxious rodent that masticated the farinaceous produce deposiled in the domicilary edifice erected by Master John (из пародии на «Дом, который построил Джек») [Halliday et al. 1973, 19 — 201.
Основной операционной единицей социолингвистического анализа социальной дифференциации языка являются так называемые социолингвистические переменные (sociolinguistic variables), т. e. языковые корреляты стратификационной и ситуативной вариативности языка. В качестве социолингвистических переменных могут выступать социально маркированные языковые единицы. Так, в работе американского лингвиста П. Фридриха, посвященной социально обусловленному варьированию некоторых форм обращения в русском языке, социолингвистическими переменными являются русские личные местоимения ты и вы [Friedrich 1972]. Вместе с тем социолингвистические переменные часто не совпадают с языковыми единицами, поскольку в основе их выделения лежат иные признаки и иная процедура идентификации. Исследования У. Лабова, изучавшего модели социально обусловленного варьирования звуковой системы одного из диалектов английского языка в США, показали принципиальное различие между варьированием социолингвистических переменных и аллофоническим варьированием фонем [Labov I960]. В то время как фонемы реализуются в виде звуковых форм, группирующихся вокруг определенных артикуляционных пиков, социолингвистические переменные звуковой системы характеризуются иными точками отсчета и иными шкалами величин. Эти величины детерминируются социальным контекстом и социальной структурой точно таким же образом, как фонетическая реализация аллофонов определяется их звуковым окружением.
Отсюда становится понятным, почему звуковые варианты социолингвистических переменных нередко выходят за пределы артикуляционного диапазона отдельных фонем. Так, по данным Лабова, гласный в слове bad в произношении некоторых информантом мог совпадать с гласным в bat, тогда как у других он практически не отличался от гласного в bear. Диапазон варьирования переменной (r) простирался от четко артикулируемого ретрофлексного согласного /r/ до его полной вокализации. Создавалось впечатле-
27
ние, что несколько фонем сливалось в пределах единого артикуляционного диапазона. Поскольку для выделения в пределах таких диапазонов четких артикуляционных пиков нет достаточных фонетических оснований, Лабов пришел к выводу об эмпирической несостоятельности любой попытки рассматривать такого рода варьирование как переход от одной дискретной системы к другой. Более обоснованным представляется решение рассматривать подобные варианты в качестве переменных в пределах одной и той же системы. Более того, социолингвистические переменные нельзя отождествлять с единицами языка еще и потому, что в некоторых ситуациях социолингвистическими переменными могут быть и целые языковые системы.
Так называемое переключение кода (code switching), имеющее место у билингвов, попеременно использующих в пределах одного и того же речевого акта то одну языковую систему, то другую, является не чем иным, как реакцией на изменение социальной ситуации. При этом социально значимым является не выбор той или иной конкретной языковой единицы, а предпочтение одного языка другому языку под воздействием определенных социальных детерминантов речевого поведения. Рассмотрим следующий пример из «Войны и мира» Л. Н. Толстого:
Bien faite et la beauté du diable [хорошо сложена и свежень кая], — Говорил тот человек и, увидев Ростова, перестал говорить и нахмурился:
Что вам угодно? Просьба?
Qu'est que c'est? [Что это?] —спросил кто-то другой из комнаты.
Encore un petitionaire [еще проситель], —отвечал челонек в помочах.
Скажите ему, что после. Сейчас войдет, надо ехать.
После, после, завтра. Поздно 3.
Первая реплика на французском языке — это фрагмент интимной беседы двух адъютантов Александра I. Французский язык в данном случае является индикатором как ролевых отношений собеседников (приятели, возможно, однополчане), так и общности их социального статуса (принадлежность к высшему свету). Переключение на русский язык во второй реплике — это реакция па изменившуюся социальную ситуацию с ее иными ролевыми отношениями (официальное лицо—проситель). Затем снова следует обмен репликами на французском языке в прежней тональности, исключающей из коммуникации постороннего, и в заключение — вновь переключение кода в репликах, адресованных постороннему лицу — просителю. В этом отрывке социальную информацию несет не отдельный языковой знак, а сам факт предпочтения того или иного языкового кода.
Остается рассмотреть принципиально важный вопрос о соотношении между социолингвистическими переменными и передавае-
3 Цит. по: Толстой Л. II. Воина п мир. М., 1957, с. 525 (перевод Л. Толстого).
28
мой ими социальной информацией. Прежде всего представляется необходимым указать на лежащие в основе этой информации оппозиции социально маркированных единиц и систем, на определяющий эту информацию социально значимый выбор средств выражения, будь то отдельные противопоставляемые друг другу языковые единицы или целые языковые системы. К передаваемой языковыми средствами социальной информации относится все то, что, по определению К. А. Долинина, составляет сущность стилистического значения [Долинин 1978, 43]: подобно последнему, социальная информация реализуется при выборе той или иной единицы из ряда денотативно и десигнативно равнозначных средств выражения, и, подобно последнему, она характеризует субъект речи с точки зрения его принадлежности к социальной группе (т. е. статуса), его позиции в ролевой структуре общения (т. е. социальной роли), его отношения к предмету и адресату речи (т. е. социальных установок).
Социальная информация языковых единиц представляет собой по существу явление социального символизма, понимаемого как «культурный механизм, основанный на использовании символических форм поведения в целях регуляции социальных отношений» [Басин, Краснов 1971, 164]. Отражая процессы адаптации личности к социальной среде и социальной ситуации, речь, как писал еще Ш. Балли, является «важным фактом социальной символики» [Балли 1961, 256]. В самом деле, выделяемые американским лингвистом П. Гарвином «символические» функции литературного языка — объединяющая, выделяющая и престижная — в известной мере относятся к любой социально-коммуникативной системе, будь то литературный язык, социальный или территориальный диалект. Сам факт предпочтения одной системы другой системе в определенной ситуации общения символизирует общность данного речевого коллектива, выделяет этот коллектив среди других и может ассоциироваться с определенным социальным престижем [Garwin 1964, 521—523] (подробнее см. ниже).
Выдвинутое выше положение о неизоморфности языковых и социальных структур в полной мере относится и к характеру связи между социально маркированными единицами языка и их социальными референтами. Между социолингвистическими переменными и такими элементами социальных и социально-психологических структур, как «социальный статус», «социальная роль», «социальная установка» и др., отсутствуют однозначные связи. Так, среди социальных референтов, находящих свое отражение в варьировании русских местоимений ты и вы в русском реалистическом романе, П. Фридрих выделяет социальный контекст речевого акта, относительный возраст и пол коммуникантов, генеалогическую дистанцию между ними, относительную власть, принадлежность к социальной группе и др. [Friedrich 1972, 276— 278]. Иными словами, выбор ты или вы не подлежит однозначной социальной интерпретации.
Здесь, по-видимому, находит свое выражение общелингвистическая закономерность, связанная с асимметрией плана выражения и плана содержания. Планом содержания социолингвистических переменных являются те или иные социальные, социоде-мографические или социально-психологические категории, обнаруживающие сложные, взаимоперекрещивающиеся связи с единицами плана выражения. Отсюда возникает омонимия и синонимия социолингвистических переменных, напоминающая в своих наиболее существенных признаках синонимию и омонимию единиц языка — слов, словосочетаний, грамматических форм.
