
Журнал неврологии и психиатрии / 2007 / NEV_2007_03_11
.pdf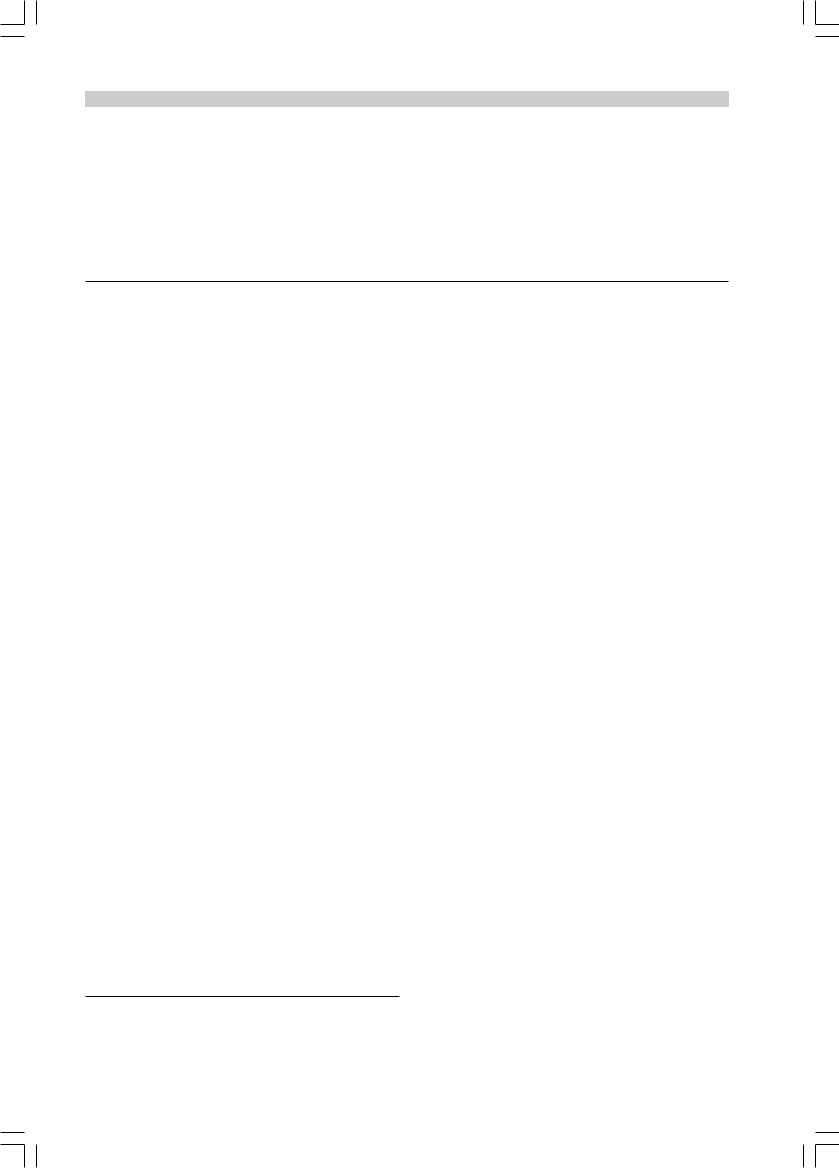
ОБЗОРЫ
Коморбидность мигрени: обзор литературы и подходы к изучению
В.В. ОСИПОВА, Т.Г. ВОЗНЕСЕНСКАЯ
Comorbidity in migraine: the literature review and approaches to study
V.V. OSIPOVA, T.G. VOZNESENSKAYA
Отдел патологии вегетативной нервной системы и кафедра неврологии факультета постдипломного профессионального образования Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова
Общие сведения о коморбидности
Термин «коморбидность» (comorbidity) был впервые предложен Feinstein в 1970 г. для отражения существования «любых клинических сущностей, которые выявляются или выявлялись в анамнезе заболевания пациента» [95]. В соответствии с современными представлениями различают следующие сочетания двух патологических состояний: 1) они имеют общие этиологические или патогенетические механизмы (например, биохимические либо генетические); 2) одно заболевание вызывает другое; 3) случайное сочетание двух заболеваний. Термин «коморбидность» используют применительно к первому и второму пунктам; случайное совпадение во времени двух и более заболеваний не расценивается как коморбидная связь [85]. На наш взгляд, наиболее полно отражает понятие коморбидности следующее определение: под заболеваниями/нарушениями, коморбидными определенному заболеванию, понимаются такие нарушения, которые встречаются при этом заболевании чаще, чем в общей популяции, и имеют с ним некоторые общие этиологические или патогенетические механизмы [2, 85, 95].
Концепция коморбидности зародилась и вначале чаще использовалась в психиатрии применительно к сосуществующим психиатрическим состояниям, например расстройств настроения и личности, абузусных состояний и фобий и пр. [8, 24, 47, 85]. Подобный подход был основан на том, что сосуществующие психические состояния могут иметь общие симптомы, перекрывающие, усиливающие или ослабляющие друг друга. В последние годы концепция коморбидности вышла за рамки психиатрической науки, стала широко применяться во многих отраслях медицины и приобрела важное практическое и социально-экономическое значение. Ярким примером может служить коморбидная связь между такими нарушениями, как артериальная гипертензия, ожирение и сахарный диабет.
Изучение клинической картины коморбидных нарушений (КН) важно для дифференциальной диагностики, так как коморбидные заболевания нередко трансформируют клинические проявления друг друга.
Степень влияния КН на состояние пациента может быть разной. С одной стороны, он может не догадываться о существовании коморбидного заболевания и не испытывать в связи с ним никакого дискомфорта; нередко КН выявляются случайно при обследовании. С другой стороны, очевидно, что когда КН сопровождаются клиническими проявлениями, они могут существенно влиять на общее состояние, значительно нарушая качество жизни пациента в целом. Показано, что нередко именно КН являются ведущим фактором, ухудшающим течение основного заболевания и/или
© В.В. Осипова, Т.Г. Вознесенская, 2007
Zh Nevrol Psikhiatr Im SS Korsakova 2007;107:3:64—73
приводящим к его хронизации. Примером может служить депрессия, которая существенно отягощает клиническую картину любого соматического и неврологического заболевания и является ведущим фактором хронизации болевых синдромов [9, 23—25]. В то же время аспект влияния КН на качество жизни при самых разных заболеваниях освещен в литературе недостаточно.
Не следует путать КН c осложнениями заболевания — последние не относятся к коморбидным расстройствам.
Принимая во внимание тот факт, что в соответствии с определением коморбидные заболевания имеют некоторые общие механизмы, изучение патогенетических особенностей одного из них может пролить свет на природу другого и наоборот. Так, раскрытие некоторых патофизиологических механизмов эпилепсии позволило установить важные факты патогенеза другого пароксизмального состояния — панических атак. Обе клинические разновидности в настоящее время рассматриваются в контексте теории «пароксизмального мозга» и откликаются на терапию антиконвульсантами [11, 13, 37, 38, 49]. Другой пример: биоритмологи- ческие механизмы, лежащие в основе как циклотимических расстройств, так и кластерной головной боли, обусловливают эффективность препаратов лития при этих заболеваниях. Следовательно, раскрытие общих механизмов не только способствует пониманию патогенеза КН, но и может помочь в выборе адекватной терапии.
Проблема коморбидности важна и с точки зрения фармакоэкономики. В двух крупных исследованиях, проведенных в США, показано, что сопутствующие заболевания, наличие которых установлено врачами разных специальностей, диагностируются у больных мигренью в 5 раз чаще, чем в общей популяции, и что связанные с ними экономи- ческие затраты намного выше связанных с мигренью [55, 67, 97].
Таким образом, концепция коморбидности имеет большое значение не только для дифференциальной диагностики сосуществующих состояний и изучения их влияния на течение основного заболевания и качество жизни пациентов, но и для понимания объединяющих основное и коморбидные заболевания этиологических и патогенетических механизмов, и выбора наиболее эффективных подходов к их лечению.
Коморбидность мигрени: трудности исследования проблемы
Изучение коморбидности мигрени сопряжено с объективными трудностями. Как уже упоминалось, при бессимптомном течении КН может остаться недиагностированным [72, 74, 95]. Поскольку в большинстве случаев обследование пациента с мигренью основывается на данных мигренозного анамнеза и традиционного неврологического осмотра без использования инструментальных (ЭЭГ, КТ, МРТ) и лабораторных методов диагностики, вероятность выявления некоторых КН может быть невысокой.
64 |
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 3, 2007 |

Исследование коморбидности сопряжено с еще одной трудностью. Прежде чем сделать окончательный вывод о коморбидной связи между тем или иным нарушением и мигренью, необходимо сравнить частоту этого нарушения при мигрени и в общей популяции. Следует заметить, что во многих случаях данные о представленности заболеваний/ нарушений в общей популяции неоднозначны и противоречивы. Например, по данным разных авторов [28, 44, 104], частота феномена Рейно составляет от 6,3 до 21%. Такой большой разброс существенно затрудняет проведение достоверного сравнительного анализа.
Перечисленные трудности исследования коморбидности определили то, что реальные распространенность КН при мигрени и их окончательный перечень до сих пор не установлены [83, 91, 95].
Современное состояние проблемы: недостатки и перспективы
За последние 10 лет в специальной периодической литературе, посвященной головным болям, а также в интернете не появилось ни одного детального обзора по проблеме коморбидности мигрени. Имеются лишь единичные публикации о возможной коморбидной связи мигрени и отдельных нарушений, таких как депрессия, эпилепсия, инсульт, синдром Рейно, причем перечень «привязанных» к мигрени заболеваний и нарушений неоднократно изменялся и до сих пор окончательно не сформирован [2, 24, 41, 48, 52, 65, 91].
На наш взгляд, исследование коморбидности мигрени имеет несколько существенных недостатков. Во-первых, проблему коморбидности большинство исследователей рассматривают исключительно в «эпидемиологическом» клю- че, т.е. ограничиваются констатацией факта, что указанные нарушения обнаруживаются в популяции больных мигренью чаще, чем в общей, и приводят подтверждающие это данные эпидемиологических исследований [43, 53, 54, 63, 96]. Патогенетическим механизмам, которые могут объединять мигрень и перечисленные КН, практически не уделяется внимания. Во-вторых, ни в одной из работ, посвященных проблеме коморбидности мигрени, не обсуждается «трансформирующая» роль КН, т.е. вклад, который последние вносят в клиническое течение мигрени, а также их влияние на состояние больных в межприступном периоде (МПП). Наконец, остается в тени и важный с нашей точки зрения аспект соотношения коморбидности и качества жизни. Тщательное изучение литературы, посвященной проблеме ка- чества жизни при мигрени, показало, что в большинстве работ оценивается влияние болевых характеристик приступа (интенсивности, длительности и частоты атак) на разные сферы жизни пациентов [57, 59, 64, 73]. Сопутствующие же заболевания, которые могут существенно нарушать состояние больных в МПП и тем самым качество их жизни, не являются предметом изучения.
Сказанное определило цель настоящей публикации: 1) подчеркнуть актуальность проблемы коморбидности в целом и важность исследования коморбидности мигрени; 2) представить критический анализ данных литературы о заболеваниях/нарушениях, которые на протяжении последних 30 лет рассматривались как коморбидные мигрени; 3) представить собственные результаты исследования КН в большой выборке из популяции больных мигренью; 4) привлечь внимание неврологов к проблеме коморбидность — качество жизни и к необходимости выявления и лечения КН при мигрени.
Анализ коморбидности мигрени: обзор литературы
В последних международных клинических руководствах, посвященных головной боли, к разряду коморбидных мигрени причисляют пять нарушений (в порядке возрастания значимости): эссенциальный тремор; синдром Рейно; эпи-
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 3, 2007
КОМОРБИДНОСТЬ МИГРЕНИ
лепсия; мозговой инсульт; эмоционально-личностные и психические расстройства, в первую очередь тревога и депрессия [2, 91, 95]. Остановимся подробнее на перечисленных заболеваниях, коморбидное сосуществование с мигренью которых подтверждено данными эпидемиологических исследований.
Эссенциальный тремор. Установлено, что частота мигрени у больных с эссенциальным тремором превышает ее частоту в общей популяции (36 и 23% соответственно) [95]. Встречаемость эссенциального тремора у больных мигренью составила 17%, в общей популяции — 6%. Эти эпидемиологические данные, свидетельствующие о том, что между мигренью и эссенциальным тремором может существовать коморбидная связь, подкрепляются тем фактом, что при лечении обоих состояний эффективны β-блокаторы [45]. Предполагается, что в основе мигрени и эссенциального тремора лежит общий генетический дефект. Поскольку это предположение высказано относительно недавно и опирается только на эпидемиологические данные, для уточнения коморбидной связи между данными заболеваниями необходимы дальнейшие исследования.
Синдром Рейно. По разным источникам частота его в общей популяции составляет от 6,3 до 21% [5, 7, 28]. Вопрос о взаимосвязи этого синдрома и мигрени неоднократно обсуждался [15, 28, 44]. По данным некоторых зарубежных авторов [107], частота синдрома Рейно у больных мигренью составляет от 20% (мигрень без ауры) до 33% (мигрень с аурой). По другим сообщениям, у пациентов с феноменом Рейно мигрень обнаруживается чаще, чем в общей популяции. Заслуживает внимания предположение, что мигрень и синдром Рейно имеют единые патогенетические механизмы, ядром которых могут быть вазоспастические расстройства [58, 81, 82]. В одном из исследований [107] выявлена семейная предрасположенность к трем состояниям — мигрени, феномену Рейно и сосудистой ретинопатии.
Эпилепсия. По данным F. Andermann [39], ее частота при мигрени составляет 5,9%, что значительно превышает распространенность эпилепсии в популяции (0,5%). В исследовании G. Barolin [41] было показано, что 24% больных эпилепсией имели в анамнезе мигрень и что эпилепсия повышает относительный риск мигрени в 2,4 раза как у больных, так и у их родственников. В то же время результаты других работ опровергают существование коморбидной связи между этими заболеваниями. Так, J. Lance и М. Anthony [72], обследовав 500 больных с головными болями, обнаружили меньшую частоту эпилепсии у больных мигренью (1,6%), чем у пациентов с головной болью напряжения (2%). В исследовании V. Joish и соавт. [67], частота эпилепсии у больных мигренью оказалась меньшей, чем в общей популяции (ниже 1%).
Полагают, что истинные эпилептические припадки обнаруживаются на высоте мигренозного приступа лишь у 1% больных мигренью. По некоторым данным [14, 18, 80], генетические и/или средовые факторы, повышающие возбудимость нейронов, могут снижать порог возбудимости, создавая тем самым предпосылки для развития как эпилепти- ческого, так и мигренозного приступа. В других случаях мигренозные головные боли и эпилептические приступы могут служить симптомами одного заболевания, например синдрома MELAS [16, 36]. Известно, что при некоторых формах эпилепсии (доброкачественная затылочная, доброкачественная эпилепсия роландовой борозды, кортико-ре- тикулярная эпилепсия с абсансами) отмечается высокая частота мигрени. Кроме того, такие структурные повреждения, как артериовенозная мальформация, могут проявляться клиническими симптомами мигренозной ауры и эпилепти- ческими припадками, сопровождающимися головной болью [87, 92]. Нельзя исключить и вероятности того, что частые и тяжелые мигренозные атаки со сложной аурой могут сопровождаться формированием ишемического очага и становиться предпосылкой для развития эпилептических припадков [93, 94].
65
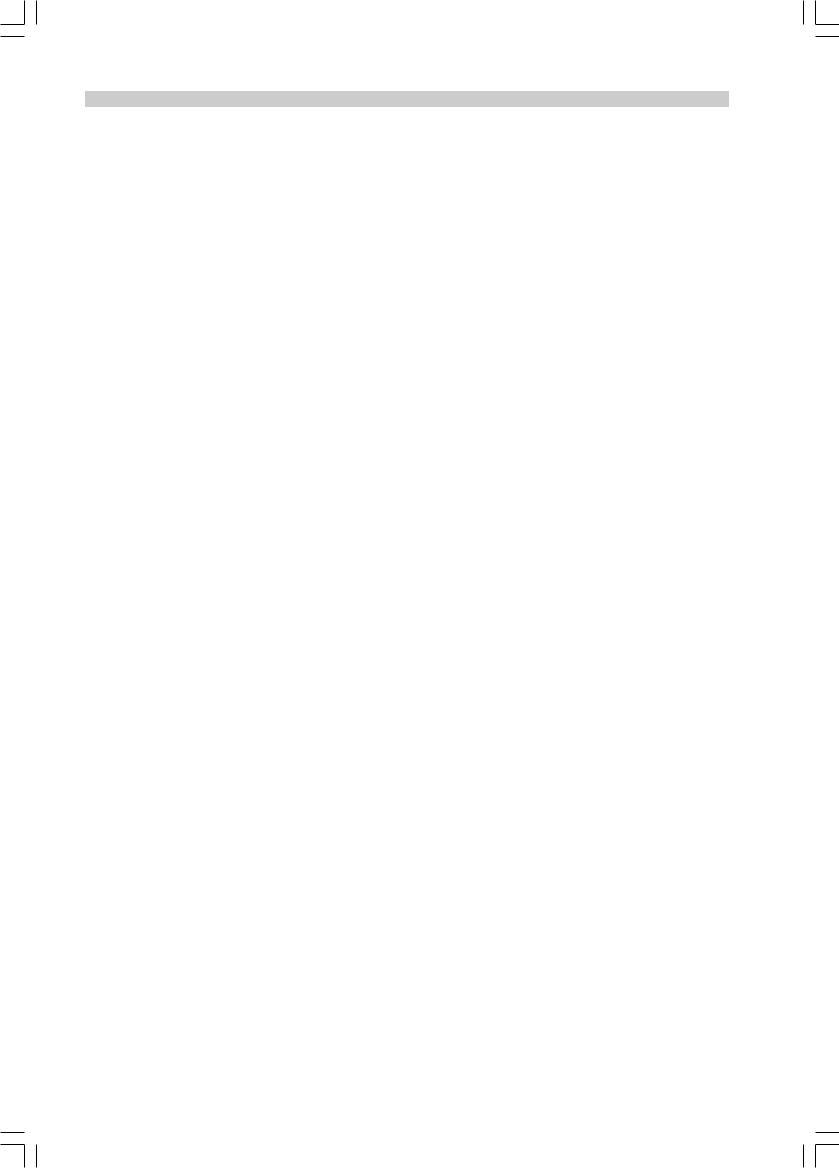
ОБЗОРЫ
Описаны случаи развития эпилептического припадка во время или непосредственно после мигренозной ауры. Термин «мигралепсия» ранее использовался для обозначения припадков, возникающих в промежутке между мигренозной аурой и началом болевой фазы приступа мигрени [102]. Логично предположить, что эпилептический пароксизм, чувствительный ко многим эндогенным и экзогенным провокаторам, будет чувствителен и к кортикальным изменениям, возникающим во время приступа мигрени. Такой механизм позволяет определять мигрень и эпилепсию как модели «пароксизмального мозга» [37, 73]. Известно также, что противосудорожные препараты эффективны не только для купирования эпилептических приступов, но и для профилактики атак мигрени [34, 36, 49].
Тем не менее при том что эпилепсия и мигрень являются наиболее распространенными неврологическими заболеваниями, описаны лишь единичные случаи так называемой истинной мигрень-эпилепсии. Согласно наблюдениям, большинство подобных случаев представляют собой генуинную затылочную эпилепсию с симптомами мигренозной ауры. Например, два из трех случаев мигралепсии, описанных Lennox и Lennox (1960), представляли собой симптоматическую и идиопатическую затылочную эпилепсию со зрительными галлюцинациями. В большинстве случаев приступы мигрени и эпилепсии не совпадают по времени; в то же время у этих пациентов обнаруживаются явные структурные повреждения мозговой ткани. Так, среди 260 больных мигренью G. Barolin [41] выявил 15 пациентов, у которых мигрень сочеталась с эпилепсией. При этом в 5 наблюдениях были обнаружены структурные повреждения: опухоль мозга (2 наблюдения), артериовенозная мальформация (2) и контузионное поражение (1).
Клинические взаимоотношения головной боли и эпилепсии нашли отражение и в новой Международной классификации головной боли 2003 г. [16, 102]. Глава 1, посвященная мигрени, содержит раздел 1.5.5 — припадок, вызванный мигренью, а в главу 7 (головные боли, связанные с несосудистыми внутричерепными поражениями) впервые включены две новые клинические разновидности: 7.6.1 — эпилептическая гемикрания (hemicrania epileptica) и 7.6.2 — головная боль, возникающая после эпилептического припадка (постиктальная головная боль) и предложены их диагностические критерии. Отмечается, что мигренеподобные головные боли довольно часто наблюдаются после эпилептического припадка; припадки же могут возникать во время или после приступа мигрени. В комментариях обеих глав мигрень и эпилепсия рассматриваются как клинические проявления пароксизмального мозга [102].
Таким образом, большинство авторов полагают, что истинное сочетание мигренозного и эпилептического пароксизмов встречается нечасто и скорее всего является следствием органического повреждения мозга. В то же время в случаях, когда у пациента имеется истинное сочетание мигрени и эпилепсии (приступы эпилепсии на высоте приступа мигрени или не связанные по времени приступы мигрени и эпилепсии), эти два заболевания можно рассматривать как проявления «пароксизмального мозга».
Инсульт. Частота ишемического инсульта в общей популяции лиц до 50 лет колеблется от 6,5 до 22,8 на 100 000 [101]. Как мигрень, так и инсульт сопровождаются фокальными неврологическими нарушениями, изменениями мозгового кровотока и головной болью. Последняя может предшествовать инсульту, сопутствовать ему или следовать за ним. Наиболее четкая связь установлена между инсультом и мигренью с аурой [2, 105]. Продолжительная мигренозная аура может сопровождаться ишемическими нарушениями и провоцировать истинный мигренозный инфаркт. Показано, что у лиц, перенесших инсульт в возрасте до 50 лет, связь с мигренью прослеживается с частотой от 1 до 17%. По данным исследования инсульта у молодых женщин [53] у пациенток с мигренью риск инсульта повышен вдвое.
Взаимосвязь инсульта и мигрени отражена в классификации, предложенной K. Welch [105], в которой выделяются четыре типа связи: 1) сочетание инсульта и мигрени, т.е. инсульт, развивающийся у пациента с мигренью независимо
— вне связи с приступом мигрени; 2) инсульт с клиническими симптомами мигрени; 3) мигренозный инсульт — возникающий на фоне тяжелого мигренозного приступа; 4) неопределенная связь. В первом случае, когда инсульт возникает вне связи с приступом мигрени, бывает трудно выявить единые механизмы этих двух состояний. В ряде случаев удается обнаружить общие факторы риска, такие как пролапс митрального клапана или антифосфолипидный синдром. При инсульте с клиническими симптомами мигрени удается обнаружить сосудистый дефект, патогенетически не связанный
ñмигренью, но проявляющийся симптомами, схожими с проявлениями мигренозной атаки [93, 101]. Сосудистое поражение — чаще всего артериовенозная мальформация может проявляться эпизодами, напоминающими приступ мигрени с аурой. При мигренозном инсульте локальные неврологические симптомы полностью совпадают с привычными неврологическими проявлениями, сопровождавшими предыдущие атаки. По времени инсульт совпадает с приступом мигрени, а иные его причины должны быть отвергнуты. Мигренеподобные головные боли и инсульты могут сопровождать некоторые другие патологические состояния, например системные васкулиты, антифосфолипидный синдром, митохондриальные энцефалопатии, а также возникать на фоне приема гормональных контрацептивов [63, 101]. Есть данные о том, что частые и тяжелые атаки мигрени с аурой (например, гемипарестетической или комплексной), сопровождающиеся выраженной олигемией, особенно у пациентов старше 40 лет с поздним дебютом мигрени (после 30 лет), могут стать предпосылкой для развития инсульта.
Âновой классификации головной боли в главе, посвященной мигрени (1.5.4 — мигренозный инфаркт), представлено сочетание одного и более симптомов мигренозной ауры
ñишемическим повреждением мозга, подтвержденным результатами адекватных нейровизуализационных исследований [16, 102]. Отмечено также, что ишемический инсульт у больного мигренью может быть расценен как церебральный инфаркт другой этиологии, сочетающийся с мигренью, как церебральный инфаркт другой этиологии с симптомами, напоминающими мигрень с аурой, как церебральный инфаркт, развивающийся на фоне типичного приступа мигрени с аурой. Для установления диагноза 1.5.4 — мигренозного инфаркта должны использоваться следующие диагностические критерии.
А. Настоящий приступ у пациента с 1.1 — мигренью с аурой является типичным и отличается от предыдущих приступов только тем, что один или несколько симптомов ауры имеют продолжительность более 60 мин.
В. При использовании нейровизуализационных методов исследования выявлен ишемический инфаркт в зоне, соответствующей клиническим симптомам ауры.
С. Ишемический инфаркт не связан с другими причи- нами (нарушениями).
Таким образом, истинный мигренозный инфаркт, как и истинная мигрень-эпилепсия, встречаются крайне редко даже у пациентов с длительным мигренозным анамнезом. Для уточнения истинных взаимоотношений мигрени и эпилепсии, как и мигрени и мозгового инсульта, необходимо проведение тщательно спланированных эпидемиологических исследований.
Эмоционально-личностные и психические расстройства. По данным нескольких крупных популяционных исследований и по мнению наиболее авторитетных исследователей психопатологических проявлений при мигрени, ее самыми частыми коморбидными спутниками являются депрессия и тревожные расстройства [8, 9, 42, 50, 61].
Необходимо напомнить, что во многих исследованиях подчеркивалась коморбидная связь тревоги и депрессии,
66 |
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 3, 2007 |

отмечалось, что их сочетание не может быть случайным совпадением [17, 24, 26, 71]. Так, показано, что до 96% больных депрессией обнаруживают симптомы тревоги и что частота депрессивных расстройств, не сопровождающихся тревогой, представляется крайне низкой [89, 100]. У больных хронической («трансформированной») мигренью показатель коморбидности тревоги и депрессии составил 78% [31, 102]. Вопрос о развитии этих состояний во времени до сих пор остается открытым. В одном из исследований [78] показано, что тревога, как правило, предшествует мигрени, в то время как депрессия присоединяется к клиниче- ской картине мигрени на более поздних этапах болезни. Аналогичные результаты получены и в большом лонгитудинальном исследовании N. Breslau и соавт. [50], которые обнаружили у детей и подростков выраженную тревогу, затем развитие мигрени и, наконец, присоединение в зрелом возрасте депрессии. По мнению S. Baskin [42], каждое из обсуждаемых нарушений — мигрень и депрессия повышает риск развития и/или приближает дебют другого, что может свидетельствовать об общности этиологии мигрени и депрессии.
Далее нами представлены другие заболевания/нарушения, которые с разной частотой упоминались в литературных источниках как «возможно, имеющие с мигренью коморбидную связь», однако эта связь не была подтверждена результатами эпидемиологических исследований.
Психовегетативные расстройства
Панические атаки. В ряде работ [100, 108] показано, что у больных мигренью достоверно чаще обнаруживаются биполярные и панические расстройства. В одном из наших предыдущих исследований [21, 82] была выделена и описана особая форма мигрени — «паническая», или «вегетативная», при которой на высоте мигренозного приступа развивалась типичная паническая атака. Установлено, что по сравнению с группой простой мигрени пациенты с «панической» формой характеризовались выраженным нарушением вегетативной регуляции как на церебральном, так и на периферическом уровне, в целом более тяжелым течением мигрени, высоким уровнем депрессии и тревоги, яркими вегетативными нарушениями и выраженной дезадаптацией в МПП. Учитывая некоторые общие механизмы формирования мигрени и панических атак в рамках концепции «пароксизмального мозга» [11] и их тесную связь с тревожными расстройствами, можно предполагать наличие «тройственной» коморбидной связи между мигренью, паническими атаками и тревогой.
Гипервентиляция. Некоторые авторы отмечают, что она является одним из частых проявлений тревожных и пани- ческих расстройств [3, 5, 76]. Упоминания о ее взаимосвязи с мигренью встречаются нечасто. Высказывается мнение, что это сочетание может быть неслучайным, так как сосудистобиохимические факторы, связанные с гипервентиляцией (гипокапния, алкалоз, гипокальциемия) и приводящие к сосудистым спазмам и повышенной нервно-мышечной возбудимости, могут включаться в патогенетические механизмы мигрени [6, 56, 86]. По мнению R. Peatfield [86], который во время приступа мигрени наблюдал у некоторых пациентов симптомы гипервентиляционного синдрома — судорожные глубокие вдохи, онемение вокруг рта и др.; сильный приступ мигрени с эмоциональным дискомфортом и тревогой может вызывать гипервентиляционные проявления. У некоторых пациентов такие проявления возникали и в МПП [46]. В ряде случаев «дыхание в мешок», во время которого возникает гиперкапния, может купировать приступ мигрени и гипервентиляционные проявления [56]. С другой стороны, многие пациенты с мигренью называют в качестве провокаторов приступа пребывание в душном помещении, а также подъем на высоту.
Отечественными авторами [4, 69] рассматривалась роль гипервентиляции в формировании клинической картины и
КОМОРБИДНОСТЬ МИГРЕНИ
патогенезе мигренозной цефалгии; описана и изучена особая разновидность мигрени, сочетающаяся с гипервентиляционным синдромом. Показано, что для этой формы характерны выраженный психовегетативный синдром как во время приступа, так и в МПП, высокие частота и длительность атак, нередкое сочетание с признаками нейрогенной тетании, а также особый дыхательный паттерн — избыточ- ная компенсаторная гиповентиляция и увеличение длительности вдоха в постгипервентиляционном периоде. Частота сосуществования гипервентиляционного синдрома и мигрени, их тесная связь с психическими факторами имеют некоторые общие сосудистые и биохимические механизмы и, наконец, оказывают значимое влияние на течение мигрени, позволяют предполагать наличие коморбидной связи между мигренью и гипервентиляционными нарушениями.
Нейрогенные обмороки. Несмотря на то что они однозначно не рассматриваются как нарушение, вопрос о коморбидных мигренях, связи мигрени и обмороков неоднократно обсуждался [10, 19, 22]. Частота нейрогенных обмороков в общей популяции варьирует — в возрастной группе 14—35 лет составляет 10—12%, после 35 лет — 5—6% [30, 79]. В американском эпидемиологическом исследовании, включавшем 57 детей и подростков с жалобами на обмороч- ные состояния (70% с диагностированными развернутыми обмороками и 30% с липотимическими состояниями) мигрень фиксировалась у 5%, т.е. несколько реже, чем в общей популяции [94]. Нарушение сознания по типу обморочных состояний может отмечаться и при мигрени базилярного типа (раздел 1.2.6 современной классификации головной боли; в прошлом — «синкопальная мигрень») — 0,5% всех обмороков [16, 88].
Артериальная гипертония и гипотония. Некоторые исследователи включают в круг коморбидных мигрени расстройств артериальную гипертензию, распространенность которой в общей популяции составляет 10—20% [40, 77]. При обследовании 5785 пациентов терапевтических клиник Великобритании артериальное давление (АД) было достоверно выше у больных с мигренью [103]. По другим данным [104], при исследовании 508 молодых женщин с мигренью
è3902 без мигрени достоверной связи наличия мигрени с гипертензией обнаружено не было. В нескольких контролируемых эпидемиологических и клинических исследованиях также не подтвердилась связь между мигренью и артериальной гипертензией. Более того, с возрастом частота мигрени снижается, в то время как вероятность гипертензии, напротив, увеличивается [27, 36, 104].
Хроническая конституциональная, или первичная, артериальная гипотония является самостоятельным мультифакториальным заболеванием, в основе которого лежит первичное нарушение тонуса сосудов и их реактивности, проявляющееся низким АД и клинической симптоматикой. По разным данным [58, 104], ее распространенность во взрослой популяции колеблется в пределах 0,6—29,1%. В среднем представленность первичной артериальной гипотонии в популяции мужчин и женщин в возрастной группе, сопоставимой со средним возрастом мигренозной популяции (20—40 лет), составляет около 18%. Данные о частоте ПАГ у больных мигренью в литературе не представлены.
Âдвух независимых отечественных исследованиях [18, 30] определен ряд общих механизмов мигрени и первич- ной артериальной гипотонии. Подчеркнуты важная роль биологической предиспозиции и выраженного психовегетативного синдрома, значимость депрессивных проявлений в формировании клинической картины мигрени и первичной артериальной гипотонии; выявлена недостаточность вегетативной регуляции в симпатической системе (снижение показателей симпатических кардиоваскулярных тестов
èволновой структуры сердечного ритма). Эти факты можно рассматривать как весомые доказательства коморбидной связи между мигренью и первичной артериальной гипотонией.
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 3, 2007 |
67 |
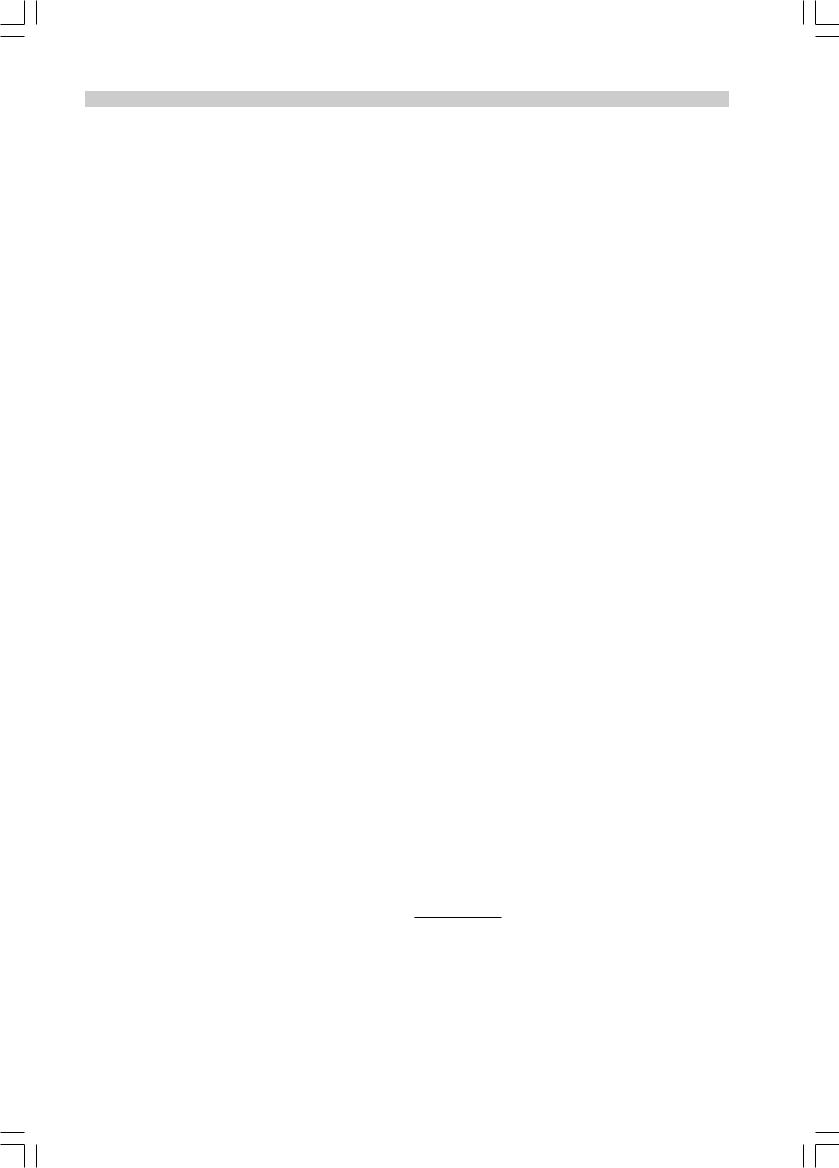
ОБЗОРЫ
Пролапс митрального клапана. Это наиболее частая в популяции патология митрального клапана. Встречаемость его повышена при ряде неврологических, мышечных и психических заболеваний [62, 92]. По разным данным [2, 99], частота идиопатического пролапса митрального клапана в общей популяции колеблется от 2 до 21%, составляя в среднем 8%.
В обычной практике неврологи не ставят целью выявление у больных с головными болями пролапса митрального клапана (как, впрочем, и других коморбидных расстройств). В специальном исследовании, направленном на изучение возможной коморбидности между мигренью и пролапсом митрального клапана, анализ частоты последнего с помощью стандартных эхокардиографических критериев у 100 больных мигренью и 100 лиц без головной боли (контроль) показал, что достоверный и возможный пролапс митрального клапана в группе мигрени обнаруживался вдвое чаще [99]. В целом по эхокардиографическим и аускультативным данным частота его в группах мигрени и контроле составила соответственно 25 и 11%. Предполагается [72, 105], что один из механизмов, объединяющих пролапс митрального клапана и мигренозные головные боли,
— расстройство вегетативной регуляции в сердечно-сосуди- стой системе может лежать в основе коморбидной связи между этими нарушениями.
Вестибулярные нарушения. В литературе неоднократно обсуждалась взаимосвязь мигрени и таких вестибулярных нарушений, как доброкачественное пароксизмальное головокружение детского возраста (отнесенное в новой классификации головных болей 2003 г. к периодическим синдромам детского возраста, предшествующим мигрени), доброкачественное позиционное головокружение взрослых, хроническая неспецифическая вестибулопатия [5, 51, 79]. К сожалению, в литературе мы не обнаружили данных о частоте этих вестибулярных нарушений в общей популяции. Термин доброкачественное позиционное головокружение был предложен Slater для обозначения повторяющихся эпизодов головокружения, которые встречаются практически только у женщин, совпадают по времени с периодом менструаций и не сопровождаются кохлеарными и неврологи- ческими нарушениями. Показано также [58], что доброка- чественное головокружение нередко сочетается с мигренозными головными болями. Предполагают [81], что мигрень играет определенную роль в развитии вестибулопатии. Это позволяет обсуждать наличие так называемой патогенетической коморбидности между мигренью и вестибулопатией.
Желудочно-кишечные заболевания. В недавних исследованиях показано, что Helicobacter pilori — бактерия, обитающая в антральном отделе желудка, с жизнедеятельностью которой связывают гиперсекрецию соляной кислоты
èразвитие язвенной болезни желудка, обнаруживается у больных мигренью достоверно чаще (63% мужчин и 50% женщин), чем в общей популяции (14%) [12, 32, 73]. Возможно, именно этим объясняется большая частота желу- дочно-кишечных заболеваний, и, прежде всего язвенной болезни желудка у мужчин с мигренью. Несмотря на статистически доказанное сосуществование Helicobacter pilori и мигренозных болей, механизмы, объединяющие мигрень и язвенную болезнь, остаются неизученными и потому коморбидную связь между этими заболеваниями нельзя счи- тать окончательно установленной.
Аллергия. Частота аллергических реакций в общей популяции составляет 10% [5]. Упоминания о связи мигрени и аллергии в литературе встречаются нечасто. По некоторым данным [81, 98, 106], до 17% больных мигренью имеют самые разные аллергические заболевания, в том числе бронхиальную астму, аллергический ринит, сенную лихорадку, экзему.
Оценка содержания IgE в крови пациентов с мигренью
èголовной болью напряжения по сравнению с общей по-
пуляцией не выявила достоверных различий [75]. Был сделан вывод, что IgE и связанная с ним реакция гиперчувствительности не играют роли при мигрени и головной боли напряжения. Во время мигренозной атаки отмечаются и некоторые другие признаки аллергического процесса: базофилия, дегрануляция базофилов и тучных клеток, повышение уровня гистамина в крови [84, 98]. В то же время отсутствуют такие важные атрибуты аллергического механизма, как эозинофилия и повышение уровня IgЕ, а антигистаминные препараты не облегчают мигренозный приступ. Однако несмотря на то что в ряде случаев различные аллергены могут участвовать в развитии мигренозных атак, мигрень, по всей вероятности, не является аллергическим расстройством и коморбидная связь между этими нарушениями вряд ли существует.
Анализ коморбидности мигрени: собственные результаты
В продолжение обзора представляем данные собственных исследований коморбидности в большой выборке из популяции больных мигренью, наблюдавшихся в отделе патологии вегетативной нервной системы ММА им. И.М. Сеченова с 1989 по 1999 г.1. Результаты клинико-психо- логического исследования были опубликованы ранее [10, 22].
Оценка коморбидности основывалась на результатах детального опроса пациентов о сопутствующих заболеваниях/нарушениях, анамнестических сведениях и данных объективного осмотра. Специальных исследований с целью выявления/подтверждения КН не проводилось.
Клинические признаки феномена Рейно имелись у 4,6% пациентов, что достоверно неотличимо от показателя в общей популяции. В нашей выборке не было ни одного случая эссенциального тремора.
Указание на сочетание мигрени и эпилепсии нам удалось обнаружить при сборе анамнеза только у одного пациента (0,3% обследованной выборки), который в подростковом возрасте перенес три не связанные с атаками мигрени приступа, сопровождавшиеся генерализованными судорогами и потерей сознания. В дальнейшем такие приступы у него не повторялись, пациент не обследовался и лечения по поводу эпилепсии не получал. Таким образом, частота эпилепсии в обследованной нами выборке не превышала таковую в общей популяции.
Частота мозгового инсульта в обследованной нами популяции также была невысокой — 0,6%: среди 313 пациентов лишь у 2 больных в анамнезе имелись указания на возможно перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения. Ни одного случая клинически развернутого инсульта, подтвержденного результатами дополнительных исследований, не было.
Эмоционально-личностные и психические расстройства.
Проведенное исследование подтвердило мнение [8, 24, 78, 85], что ведущими коморбидными нарушениями при мигрени являются депрессия и тревога: в обследованной нами выборке умеренная или выраженная депрессия (по шкале Бека) отмечалась в 56% наблюдений; умеренная или высокая тревога (по тесту Спилбергера) обнаружена у подавляющего большинства (84%) пациентов. Эти показатели
1 В исследовании участвовали 320 больных мигренью (85% женщин, 15% мужчин) в возрасте 37,9±10,3 года при длительности болезни 20,8±11,1 года. Из них 70% страдали мигренью без ауры, 15%
— мигренью с аурой, у 7,3% было сочетание этих форм. У 3,5% больных имела место вегетативная (паническая) мигрень, при которой ее приступ сочетается с типичной панической атакой; менструальная (катамениальная) мигрень определялась в 3% наблюдений. Средняя частота приступов в месяц составляла 3,7, их средняя длительность — 22,3 ч, средняя интенсивность головной боли по ВАШ — 75%.
68 |
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 3, 2007 |

КОМОРБИДНОСТЬ МИГРЕНИ
достоверно превышали определяемые тревоги в общей популяции. В нашей работе было также показано, что больные мигренью с высокими показателями депрессии (по шкале Бека), реактивной и личностной тревожности (по тесту Спилбергера) достоверно отличаются от пациентов без тревожно-депрессивных проявлений более тяжелым те- чением как приступа, так и МПП. Проведенный нами [22] cпециальный статистический анализ с использованием ча- стных коэффициентов корреляции привел к заключению о большем влиянии на качество жизни при мигрени депрессии, чем тревоги.
Нами был сделан вывод, что приоритетность депрессии как коморбидного расстройства определяется не только ее значительной частотой при мигрени, но и первичностью по отношению к таким нарушениям в МПП, как вегетативные расстройства, нарушения сна и дисфункция перикраниальных мышц. Было показано, что именно депрессия является основным фактором, определяющим снижение ка- чества жизни больных мигренью [20, 22].
Таким образом, из пяти основных КН в обследованной нами выборке с повышенной частотой обнаруживались только эмоционально-личностные — депрессия и тревога; мы обнаружили также их существенное влияние на течение мигрени и качество жизни пациентов.
Психовегетативные расстройства. К сожалению, в оте- чественной и зарубежной литературе мы не встретили данных о представленности гипервентиляционного синдрома в
общей популяции. В нашем исследовании гипервентиляционные расстройства в МПП обнаруживались у 23,5% больных, симптомы гипервентиляции во время приступа мигрени — у 6,6%. Наиболее часто гипервентиляционный синдром в МПП определялся у больных с панической мигренью и в группе с высокой депрессией (у 78,5 и 76% пациентов соответственно). Мы также показали, что гипервентиляционные нарушения в значительной степени утяжеляют течение приступа и МПП.
Второе и третье места по частоте после гипервентиляционного синдрома занимали эссенциальный гипергидроз (14% больных) и нейрогенные обмороки (11%), что значи- тельно превышало их частоту в общей популяции. У большинства пациентов гипергидроз был выражен умеренно (повышенная потливость при физическом и эмоциональном напряжении и постоянная потливость ладоней и стоп), обморочные состояния беспокоили, как правило, с раннего детства или юности, возникали в душном помещении или при длительном стоянии. Панические атаки в МПП отмечались у 2,6%, «паническая» форма мигрени — у 3,5% обследованных; этих пациентов характеризовали тяжелое течение мигрени, яркие вегетативные нарушения в МПП, высокий уровень депрессии и тревоги и низкое качество жизни.
Тенденцию к артериальной гипертензии мы обнаружили в 13% наблюдений; при этом только у 5% больных мигренью имелся диагноз гипертонической болезни. Этот показатель оказался ниже, чем в общей популяции (15—20%). Нормальные цифры АД фиксировались у 58% пациентов, склонность к гипотонии — у 21%. Иными словами, по нашим наблюдениям у большинства больных мигренью АД нормальное или понижено, тенденция к его стойкому повышению отмечается значительно реже. Эти данные находятся в соответствии с приводимыми в большинстве работ, в которых отрицается коморбидная связь мигрени и артериальной гипертензии.
В то же время артериальная гипотония отмечалась у 21% обследованных нами пациентов, что недостоверно превышало средний показатель в общей популяции (до 18%). В большинстве случаев низкие цифры АД были свойственны этим больным и в детском возрасте, еще до появления мигренозных приступов. Многие пациенты с низкими цифрами АД также отмечали, что всегда считали себя «гипотониками», в их анамнезе имелись частые указания на липотими-
ческие и обморочные состояния — значит, речь идет о первичной артериальной гипотонии.
О наличии пролапса митрального клапана, диагноз которого был установлен ранее при электрокардиографии, сообщали 3,3% наших пациентов; пролапс, как правило, не сопровождался клиническими проявлениями. Если учесть, что дополнительные исследования, в частности эхо-элек- трокардиография, нами не проводились, можно предположить, что частота этой патологии у обследованных больных была несколько более высокой.
Признаки неспецифической вестибулопатии мы выявили у 31% обследованных больных. Чаще всего отмечались плохая переносимость вестибулярных нагрузок (качели, карусели, воздушные перелеты, дороги «серпантин»), эпизоды головокружений и неустойчивости при резких поворотах тела, реже эпизоды, напоминающие доброкачественное позиционное головокружение. Для уточнения коморбидных взаимоотношений важное значение могут иметь оценка частоты вестибулопатии в общей популяции и анализ связи вестибулопатии и таких свойственных мигрени клинических проявлений, как головокружение во время приступа мигрени и доброкачественное пароксизмальное головокружение детского возраста.
Заболевания желудочно-кишечного тракта. В нашем исследовании язвенная болезнь обнаруживалась достоверно чаще, чем в общей популяции (соответственно 14 и 5%), а также достоверно чаще у мужчин с мигренью (14%), чем у женщин (2,6%). В то же время, нам не удалось подтвердить данных о коморбидности мигрени и дискинезии желчных путей: частота дискинезии у наших пациентов (она отмеча- лась только у женщин) достоверно не отличалась от показателя в общей популяции (11 и 10% соответственно).
Склонность к аллергическим реакциям мы отметили у 15% пациентов, т.е. она встречалась несколько чаще, чем в общей популяции. Наиболее частыми были кожные реакции (сыпь, покраснение, отек) на прием определенных пищевых продуктов или в ответ на воздействие химических веществ, аллергенов животного происхождения, домашнюю пыль или пыльцу цветущих растений. У 2 пациентов в анамнезе было указание на анафилактический шок после введения лекарственных препаратов.
В заключение остановимся на трех нарушениях, клиническая взаимосвязь которых с мигренью неоднократно подчеркивалась, однако эти расстройства как в отечественной, так и в зарубежной литературе не были включены ни в один из известных перечней коморбидных мигрени нарушений. К ним относятся нарушения сна, дисфункция перикраниальных мышц и эпизодическая головная боль напряжения.
Нарушения сна. Взаимосвязь ночного сна и мигрени неоднократно подчеркивалась в литературе [33, 70, 83, 90]. Известно, что сон — как неполноценный, так и избыточ- ный является частым провокатором приступов мигрени; с другой стороны, в детском и юношеском возрасте сон нередко является облегчающим приступ фактором. В то же время на то, что нарушения сна нередко беспокоят пациентов с мигренью и в МПП, обращают мало внимания. По разным данным [33, 60], частота нарушений сна в общей популяции колеблется от 10 до 25%. Согласно результатам отечественного исследования, посвященного клинико-фи- зиологическому анализу ночного сна у больных мигренью и кластерной головной болью [33], стойкие жалобы на его расстройства в МПП предъявляют 43% пациентов с ночными приступами мигрени. В этой же работе с помощью метода полисомнографии были выявлены объективные нарушения структуры ночного сна у больных мигренью: увеличе- ние длительности засыпания, бодрствования внутри сна и количества движений во сне, уменьшение длительности фазы быстрого сна, дельта-сна, увеличение длительности поверхностных стадий сна и количества сонных веретен. Необходимо также подчеркнуть, что хотя у подавляющего боль-
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 3, 2007 |
69 |

ОБЗОРЫ
шинства больных мигренью приступы возникают в состоянии бодрствования, в некоторых случаях наряду с дневными имеются и ночные приступы.
Âсоответствии с результатами нашего исследования около трети больных постоянно жаловались на плохой сон
âпериод между приступами мигрени. Наиболее частыми были жалобы на трудности засыпания, беспокойный сон, ранние пробуждения и недовольство качеством сна при пробуждении утром, что обусловливало значительное нарушение общего самочувствия в МПП. Кроме того, у 25% пациентов определялись как приступы бодрствования, так и ночные атаки, а у 15% отмечались исключительно приступы сна и пробуждения. Необходимо подчеркнуть, что частота диссомнии в последней группе была максимальной (45%). Наряду со стойкими нарушениями сна в МПП характерными для больных мигренью были высокая депрессия и выраженная дизадаптация в МПП.
По нашему мнению, мигрень, депрессию и нарушения сна можно считать коморбидно связанными друг с другом, причем связующим звеном, вероятно, является депрессия. Можно предположить, что в основе такой связи лежат единые серотонинергические механизмы, которые, как известно, принимают участие в реализации приступа мигрени, формировании цикла сон—бодрствование, а также в развитии депрессии. Можно допустить, что в этом случае депрессия, присоединяющаяся к мигрени, является предпосылкой для развития нарушений сна и утяжеления клиниче- ской картины мигрени (в частности, трансформации мигрени бодрствования в мигрень сна).
Дисфункция перикраниальных мышц (ДПМ). Частота болезненности и напряжения перикраниальных мышц и связанных с этими нарушениями цервикалгий в общей популяции в среднем составляет 30% [29, 66]. На взаимосвязь цефалгических синдромов и болезненного напряжения мышц области шеи и головы, которое получило название «дисфункция перикраниальных мышц», неоднократно обращалось внимание [9, 15, 26]. Подчеркивались роль тригеминоцервикальной системы в клинической картине разных форм цефалгий и ее значение в хронизации первичных форм головной боли [1]. Однако частота и степень ДПМ, а также периферические и центральные механизмы ее формирования исследуется в основном у пациентов с головной болью напряжения и цервикогенной головной болью [1, 68]. Аналогичные подходы для мигрени разработаны недостаточно. В то же время неврологи хорошо знают, насколько часто у больных мигренью обнаруживаются болезненность и напряжение в перикраниальных мышцах (височных, жевательных, заднешейных, трапециевидных).
Âлитературе обсуждаются два механизма связи между головной болью и ДПМ [26, 31]. Первый: ДПМ является вторичной по отношению к болевому синдрому и представляет собой рефлекторное напряжение перикраниальных мышц в ответ на боль и эмоциональное напряжение, которое нередко обнаруживается у больных с цефалгиями. Второй: в основе ДПМ лежит недостаточность стволовых механизмов, контролирующих расслабление мышц (недостаточ- ность ингибиторных влияний ствола), в результате чего формируется стойкое напряжение мышц перикраниальной области. Такая мышечная гиперактивность рассматривается ведущими исследователями [11, 35, 37] как проявление общей гиперактивности мозга, свойственной больным мигренью. Эти факты нашли подтверждение при обследовании больных мигренью методами экстероцептивной супрессии, тригеминальных вызванных потенциалов и транскраниальной магнитной стимуляции [37, 80]. Патогенетическая общность мигрени и ДПМ позволяет выдвинуть предположение об их коморбидной связи.
ДПМ в виде мышечно-тонического синдрома на шейном уровне (при пальпации в симметричных мышечных точках [66] выявлена почти у половины (48%) наших пациентов. Частыми жалобами были напряжение и боли в облас-
70
ти затылка и шеи, усиливавшиеся в случае эмоционального напряжения при неудобной позе, что существенно нарушало состояние пациентов между приступами. Далее было показано, что для больных мигренью с ДПМ характерны более тяжелое течение МПП, более высокая частота сопутствующих эпизодических головных болей напряжения и более высокие показатели тревоги и депрессии. Таким образом, ДПМ не только часто сопутствует мигрени, но и в значительной степени утяжеляет течение приступа и МПП [20].
Головная боль напряжения. Получены многочисленные свидетельства того, что мигрень и головная боль напряжения имеют немало общих патофизиологических механизмов (роль эмоционального стресса в провокации и обострении болевого синдрома, активация тригеминоваскулярной системы в период приступа, серотонинергические механизмы, схожие механизмы формирования ДПМ, дисбаланс ноцицептивных и антиноцицептивных механизмов, в том числе на стволовом уровне и др.) [1, 2, 35, 36, 73]. По нашему мнению, указанные факты позволяют рассматривать головную боль напряжения как коморбидное, более того, «родственное» мигрени нарушение. В нашей выборке сопутствующие нечастые эпизодические головные боли напряжения в период между атаками мигрени (в соответствии с новой классификацией 2003 г. — «нечастая эпизодическая форма») отмечались у 18% обследованных. Особый интерес представляла группа с хронической — трансформированной мигренью (15 больных), при которой присоединение «промежуточных» цефалгий по типу головной боли напряжения является одним из диагностических критериев и предпосылкой для выраженного нарушения качества жизни пациентов. При обсуждении коморбидной связи между мигренью и головной болью напряжения необходимо принимать во внимание такие факторы, как лекарственный абузус (злоупотребление анальгетиками) и депрессия, которым отводится ведущая роль в процессе хронизации цефалгических синдромов [1, 31, 34], а также роль ДПМ.
Анализ данных литературы и результаты исследования коморбидности мигрени в большой выборке из популяции больных мигренью позволил нам предложить собственный перечень коморбидных мигрени нарушений:
—Депрессия и тревога
—Инсульт
—Эпилепсия
—Синдром Рейно
—Психовегетативные нарушения (гипервентиляционный синдром, панические атаки)
—Нарушения сна
—ÄÏÌ
—Сопутствующие эпизодические головные боли напряжения
—Заболевания желудочно-кишечного тракта
—Вестибулопатия
—Артериальная гипотония
—Пролапс митрального клапана
Коморбидные нарушения и качество жизни при мигрени
Наряду с анализом коморбидности одной из целей нашего исследования было изучение качества жизни больных мигренью; подробные результаты этого исследования были опубликованы ранее [10, 20, 22]. Для выделения факторов, определяющих качество жизни больных мигренью, было проведено сравнение групп больных с высоким (снижение менее 30%) и низким качеством жизни (снижение более 40%). Оно показало, что ведущую роль в формировании низкого качества жизни при мигрени играют не характеристики, непосредственно определяющие тяжесть приступа, как можно было бы ожидать (оказалось, что для качества жизни при мигрени имеет значение только продолжительность атак; частота и сила приступов при высоком и низ-
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 3, 2007

ком качестве жизни были сопоставимы), а КН в МПП. Установлено, что ведущими КН, ответственными за низкое качество жизни больных мигренью, являются депрессия, тревога, вегетативные расстройства (гипервентиляционный синдром и панические атаки), нарушения сна, ДПМ, эпизодические головные боли напряжения и заболевания же- лудочно-кишечного тракта.
Полученные результаты, во-первых, подчеркивают приоритетность КН для качества жизни больных мигренью, вовторых, свидетельствуют о том, что не все КН одинаково значимы для этого показателя, и в третьих, подтверждают необходимость включения в перечень коморбидных мигрени таких расстройств, как нарушения сна, ДПМ и эпизодическая головная боль напряжения. Эти нарушения, как было показано выше, не только имеют с мигренью некоторые общие патогенетические механизмы, но оказывают существенное влияние на состояние пациентов в МПП и ка- чество их жизни.
Коморбидные нарушения, наиболее значимые для ка- чества жизни больных мигренью [22]
—Депрессия и тревога
—Нарушения сна
—ÄÏÌ
—Вегетативные расстройства (гипервентиляционный синдром, панические атаки)
—Сопутствующие эпизодические головные боли напряжения
—Заболевания желудочно-кишечного тракта
Заключение
Анализ современных данных и собственные результаты исследования коморбидности мигрени позволяют нам сделать несколько важных выводов.
Первое. Изучение коморбидности мигрени, основанное почти исключительно на эпидемиологическом подходе и не учитывающее влияния КН на течение мигрени и качество жизни пациентов, представляется недостаточным и требует совершенствования методического подхода к этой важной
КОМОРБИДНОСТЬ МИГРЕНИ
проблеме. В связи со сказанным предлагаемый в литературе современный перечень, включающий пять заболеваний/нарушений (тревога, депрессия, эпилепсия, инсульт, синдром Рейно и эссенциальный тремор), представляется далеко не полным.
Второе. Признавая важность эпидемиологического подхода к исследованию коморбидности, мы в настоящем исследовании впервые в России не только установили частоту основных КН в большой выборке из популяции больных мигренью, но и попытались привлечь внимание к проблеме коморбидность — качество жизни. Было показано, что именно КН в МПП, а не характеристики, непосредственно определяющие тяжесть приступа, играют ведущую роль в формировании низкого качества жизни при мигрени. В результате был предложен перечень КН, наиболее значимых для качества жизни больных мигренью, который включает депрессию и тревогу, вегетативные расстройства (гипервентиляционный синдром и панические атаки), заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушения сна, ДПМ, эпизодические головные боли напряжения. Необходимо под- черкнуть, что последние три нарушения ранее не включа- лись в известные перечни коморбидных мигрени расстройств.
Третье. Полученные результаты имеют большое значе- ние для лечения больных мигренью, целью которого должно быть не только уменьшение частоты и тяжести болевых приступов, но также облегчение состояния пациентов в МПП и улучшение качества их жизни. Поэтому выявление коморбидных заболеваний должно стать важной составляющей клинического обследования больных мигренью, а их предотвращение и лечение наряду с купированием и профилактикой приступов — одной из целей комплексной терапии мигрени.
Необходимо заметить, что дальнейшие исследования коморбидности мигрени должны быть направлены на более глубокое изучение патогенетических механизмов, объединяющих КН и мигрень, а также поиск эффективных подходов к их профилактике и лечению.
ЛИТЕРАТУРА
1. |
Алексеев В.В. Хронические головные боли. Клиника, диагно- |
11. Воробьева О.В., Вейн А.М. Универсальные церебральные меха- |
||
|
низмы в патогенезе пароксизмальных состояний. Журн неврол |
|||
|
стика, патогенез: Автореф. дис. ...…д-ра мед. наук. М 2006. |
|
||
|
|
и психиат 1999; 99: 12: 8—12. |
||
2. |
Амелин А.В., Игнатов Ю.Д., Скоромец А.А. Мигрень (патогенез, |
|
||
12. Зодионченко В.С., Кольцов П.А. Поликлиническая гастроэнтеро- |
||||
|
клиника, лечение). Санкт-Петербургское мед изд-во 2001. |
|||
|
|
логия. Руководство для врачей. М: СТАР’КО 1998; 53. |
||
3. |
Бобейко Л.А. Роль гипервентиляции и функционального состоя- |
|
||
13. Карлов В.А. К вопросу о взаимоотношениях эпилепсии и миг- |
||||
|
ния мозга в формировании клинической картины и патогенезе |
|||
|
|
рени. Журн неврол и психиат 1963; 11: 1643—1650. |
||
|
мигренозной цефалгии: Автореф. дис. ...…канд. мед. наук. М 1994. |
|
||
|
|
|
||
4. |
Бобейко Л.А., Молдовану И.В., Вейн А.М. Роль гипервентиляции и |
14. Карлов В.А., Яхно Н.Н. Мигрень, пучковая головная боль, го- |
||
|
ловная боль напряжения. В кн.: Болезни нервной системы. Под |
|||
|
нервно-мышечной возбудимости в клинике и патогенезе мигре- |
|
||
|
|
ред. Н.Н. Яхно, Д.Р. Штульмана, П.В. Мельничука. М: Медици- |
||
|
нозных цефалгий. Журн неврол и психиат 1994; 94: 5: 22—25. |
|
||
|
|
íà 1995; 325—337. |
||
5. |
Вегетативные расстройства (клиника, диагностика, лечение). |
|
||
15. Колосова О.А., Осипова В.В. Современные аспекты клиники и |
||||
|
Под ред. А.М. Вейна. М 1998. |
|||
|
|
патогенеза мигрени. Журн неврол и психиат 1991; 91: 5: 104— |
||
6. |
Вейн А.М., Молдовану И.В. Нейрогенная гипервентиляция. Ки- |
|
||
|
106. |
|||
|
шинев: Штиница 1988. |
|
||
|
16. |
Международная классификация головной боли, 2-е издание. |
||
7. |
Вейн А.М., Колосова О.А., Варакин Ю.Я., Табеева Г.Р. Эпидемио- |
|||
|
Пер. с англ. В.В.Осиповой, Т.Г. Вознесенской. Международное |
|||
|
логия вегетативных расстройств. Синдром вегетативной дисто- |
|
||
|
|
общество головной боли 2003. |
||
|
нии и его особенности при цереброваскулярной патологии. |
|
||
|
17. Мишиев В.Д. Дифференциальная психофармакотерапия депрес- |
|||
|
Журн неврол и психиат 1991; 91: 11: 11—14. |
|||
|
|
сивных состояний различной этиологии. Журн психиат и мед |
||
8. |
Вейн А.М., Вознесенская Т.Г., Голубев В.Л., Дюкова Г.М. Депрес- |
|
||
|
психол 1998; 1: 78—87. |
|||
|
сии в неврологической практике (клиника, диагностика, ле- |
|
||
|
18. |
Мусаева З.Ф. Синкопальные состояния: патогенез, клиника, |
||
|
чение). М 1998. |
|||
|
|
диагностика, лечение: Дис. ... д-ра мед. наук. М 2001. |
||
9. |
Вейн А.М. и др. Болевые синдромы в неврологической практи- |
|
||
19. Окнин В.Ю., Вейн А.М., Садеков Р.К., Внотченко С.Л. Клинико- |
||||
|
ке «Психологические аспекты боли». М: МЕДпресс 1999; 90— |
|||
|
|
физиологический анализ эссенциального гипергидроза. Журн |
||
|
102. |
|
||
|
|
неврол и психиат 1992; 92: 5: 65—69. |
||
10. |
Вейн А.М., Осипова В.В., Колосова О.А. и др. Клинико-психоло- |
|
||
|
|
|||
гический анализ большой когорты больных мигренью. Журн |
20. Осипова В.В. Качество жизни при мигрени: роль коморбидных |
|
нарушений. Боль 2005; 1: 45—46. |
||
неврол и психиат 2002; 102: 10: 7—12. |
||
|
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 3, 2007 |
71 |

ОБЗОРЫ
21.Осипова В.В. Клинико-психовегетативная характеристика и диф51. Cass S.P., Furman J.M., Balaban C., Aydogan B. Migraine-related ves-
ференцированная терапия различных форм мигрени: Дис. ... канд. мед. наук. М 1991.
22.Осипова В.В. Мигрень: клинико-психологический анализ, каче- ство жизни, коморбидность, терапевтические подходы: Дис. ...
ä-ðà ìåä. íàóê. Ì 2003.
23.Ротштейн В.Г. и др. Эпидемиология депрессий. Депрессии и коморбидные расстройства. М: РАМН НЦПЗ 1997; 138—164.
24.Смулевич А.Б. и др. Депрессии и коморбидные расстройства. М 1997.
25.Смулевич А.Б. Депрессии в общей медицине. М 2001.
26.Строчунская Е.Я. Головная боль напряжения (клинико-психо- физиологический анализ и терапия): Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М 1996.
27.Сумароков А.В., Моисеев В.С. Клиничекая кардиология. Руководство для врачей. М: Универсум паблишинг 1996; 238: 139.
28.Табеева Г.Р. Феномен Рейно: (клинико-физиологическое исследование): Дис. ... д-ра мед. наук. М 1998.
29.Тревелл Дж.Г., Симонс Д.Г. Миофасциальные боли. Пер. с англ. в 2 томах. М: Медицина 1989.
30.Федотова А.В. Клинико-психофизиологические особенности лиц с артериальной гипотензией: Дис. ... канд. мед. наук. М 2000.
31.Феоктистов А.П. Клинико-психофизиологический анализ абузусной головной боли: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М 2001.
32.Фирсова Н.П., Колосова О.А., Осипова В.В. Психовегетативные расстройства у больных с функциональными нарушениями желчевыводящей системы. В сб.: Актуальные вопросы экспериментальной и клинической медицины. М 1990; 79—83.
33.Фокин И.В. Клинико-психологическая характеристика и церебральные патогенетические механизмы кластерной головной боли: Дис. ... канд. мед. наук. М 2000.
34.Штрибель Х.В. Терапия хронической боли: Практическое руководство. Под ред. Н.А. Осиповой, А.Б. Данилова, В.В. Осиповой. Пер. с нем. В.Ю. Халатова. М: ГЕОТАР 2005.
35.Юдельсон Я.Б., Строчунская Е.Я. Некоторые возможные аспекты патофизиологии головной боли. Актуальные вопросы соматопсихиатрии и соматоневрологии. Смоленск 1993; 70—73.
36.Яхно Н.Н., Парфенов В.А., Алексеев В.В. Головная боль. М: Ремедиум 2000.
37.Afra J. Cortical excitability in migraine. J Headache Pain 2000; 2: 73—81.
38.Aguggia M., Zibetti M., Febbraro A., Mutani R. Transcranial magnetic stimulation in migraine with aura: further evidence of occipital cortex hyperexcitability. Cephalalgia 1999; 19: 465.
tibulopathy. Ann Otol Rhinol Laryngol 1997; 106: 3: 182—189.
52.Clauw D.J. Fibromialgia: more than just a musculosceletal disease. Am Fam Physician 1995; 52: 843—851.
53.Collaborative Group for the Study of Stroke in Young Women. Oral contraceptives and stroke in young women. JAMA 1975; 281: 718—722.
54.Davies P. Epidemiology of migraine. Migraine Update Seminar Series 1992; 9—12.
55.De Lissovoy G., Lazarus S.S. The economic cost of migraine: present state of knowledge. Neurology 1994; 44: Suppl 4: 56—62.
56.Dexter S.L. Re-breathing aborts migraine attacks. Br Med J 1982; 284—312.
57.Dimenas E., Dahlof C., Jern S., Wiklund I. Defining quality of life in medicine. Scand J Prim Health Care 1990; 1: Suppl: 7—10.
58.Drummomd P. Relationships among migrainous, vascular and orthostatic symptoms. Cephalalgia 1982; 2: 3: 157—162.
59.Fishman P., Black L. Indirect costs of migraine in a managed care population. Cephalalgia 1999; 1: 50—57.
60.Fokin I.V., Kolosova O.A., Levin Y.I. et al. Sleep characteristics and psychological peculiarities in cluster headache patients In: Cluster headache and related conditions. J. Olesen, P. Goadsby (eds.). Oxford University Press 1999; 196—200.
61.Garvey M. Occurrence of headaches in anxiety disordered patients. Headache 1985; 25: 101—103.
62.Heck F. Neurologic aspects of mitral valve prolapse. Angiology 1989;
40:8: 743—751.
63.Henrich J.B., Sandercock P., Warlow C.P., Lones L.N. Stroke and migraine in the Oxfordshire Community Stroke Project. J Neurol 1986;
233:257—262.
64.Hippocrates.In: A.L.Allory.Concerning migraine (Thesis).Paris 1859.
65.Hudson J.I., Goldenberg D.L., Pope H.G. et al. Comorbidity of fibromialgia with medical and psychiatric disorders. Am J Med 1992; 92: 363—367.
66.Jensen R., Rasmussen B. Muscular disorders in tension-type headache. Cephalalgia 1996; 2: 97—103.
67.Joish V., Cady D., Bennett D. An epidemiological case-control study of migraine and its associated comorbid condition. Ann Epidemiol 2000; 10: 7: 460.
68.Jul G., Barrett C., Nagee R. et al. Further clinical clarification of the muscle dysfunction in cervical headache. Cephalalgia 1999; 3: 179— 185.
69.Kolosova O.,Bobeiko L.,Osipova V.,Vein A. Migraine and hyperventilation: clinical and psychophysiological correlation. Abstracts, 10th Migraine Trust Symposium. London 1994; 153.
39.Andermann F. Clinical features of migraine-epilepsy syndromes. In: 70. Kolosova O.,Bobeiko L.,Osipova V.,Vein A. Night and day-time mi- F. Andermann, E. Lugaresi (eds.). Migraine and epilepsy. London: graine attacks: clinical and psychophisiologicxal study Abstracts, 2nd
Butterworths 1987; 3—31. |
International EHF Conference, Liege. Belgium 1994; 87. |
|
40.Badran R.H., Weir R.J. Hypertension and headache. Scand Med J 1970; 15: 48—51.
41.Barolin G.S. Migraines and epilepsies: a relationship? Epilepsia1966;
7:53—56.
42.Baskin S.M. Personality and migraine. Headache 1995; 7: 380—381.
71.Kolosova O.A.,Korosteleva I.S.,Osipova V.V. et al. Psychological factors in migraine and tension-type headache. Abstracts. The 2nd EHF conference. 1994; 14.
72.Lance J.W., Anthony M. Some clinical aspects of migraine. Arch Neurol 1966; 15: 356—361.
43.Basser L.S. The relation of migraine and epilepsy. Brain 1969; 92: 73. Lance J.W. Mechanism and management of headache. 4th edn. Lon-
285—300.
44.Belch J.S. Raynaud’s phenomenon. Curr Opin Rheumatol 1990; 2:
6:490—498.
45.Biary N., Koller W., Langenberg P. Correlation between essential tremor and migraine headache. J Neurol Neurosurg Psychiat 1990; 53: 1060— 1062.
46.Blau J.N., Dexter S.L. Hyperventilation during migraine attacks. Br Med J 1980; 1: 1254.
47.Blumer D., Heilborn M. Chronic pain as a variant of depressive disease: the pain prone disorder. J Nerv Ment Dis 1981; 170: 381— 406.
48.Bougousslavsky J., Regli F., Van Melle G. et al. Migraine stroke. Neurology 1993; 38: 223—227.
don, Boston, Durban, Singapore, Sydney, Toronto. Wellington: Butterworth Scientific 1982.
74.Linet M., Stewart W., Celentato D. et al. Clinical, epidemiological, and medical aspects of headache. JAMA 1989; 261: 2211—2216.
75.Lord G., Duckworth J. Immunoglobulin and complement studies in migraine. Headache 1977; 11: 163—168.
76.Magarian G.J. Hyperventilation syndromes: infrequently recognized expressions of anxiety and stress. Medicine 1982; 61: 219—236.
77.Mathew N.T. Migraine and hypertension. Cephalalgia 1999; Suppl 25: 17—19.
78.Merikangas K.R., Stevens D.E., Angst J. Migraine and depression: association and familial transmission. J Psychiat Res 1988; 22: 119— 122.
49.Brandes J.L. Practical use of topiramate for migraine prevention. 79. Moretti G., Manzoni G., Parma M. «Benign recurrent vertigo» and its
Headache 2005; 45: Suppl 1: S66—S73.
50.Breslau N., Davis G.C., Schultz L.R. et al. Migraine and major depression: a longitudinal study. Headache 1994; 7: 387—393.
connection with migraine. Headache 1980; 20: 344—346.
80.Mulleners W.M., Chronicle E.P., Palmer J.E. et al. Visual cortex excitability in migraine with and without aura. Headache 2001; 41: 6: 565—572.
72 |
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 3, 2007 |
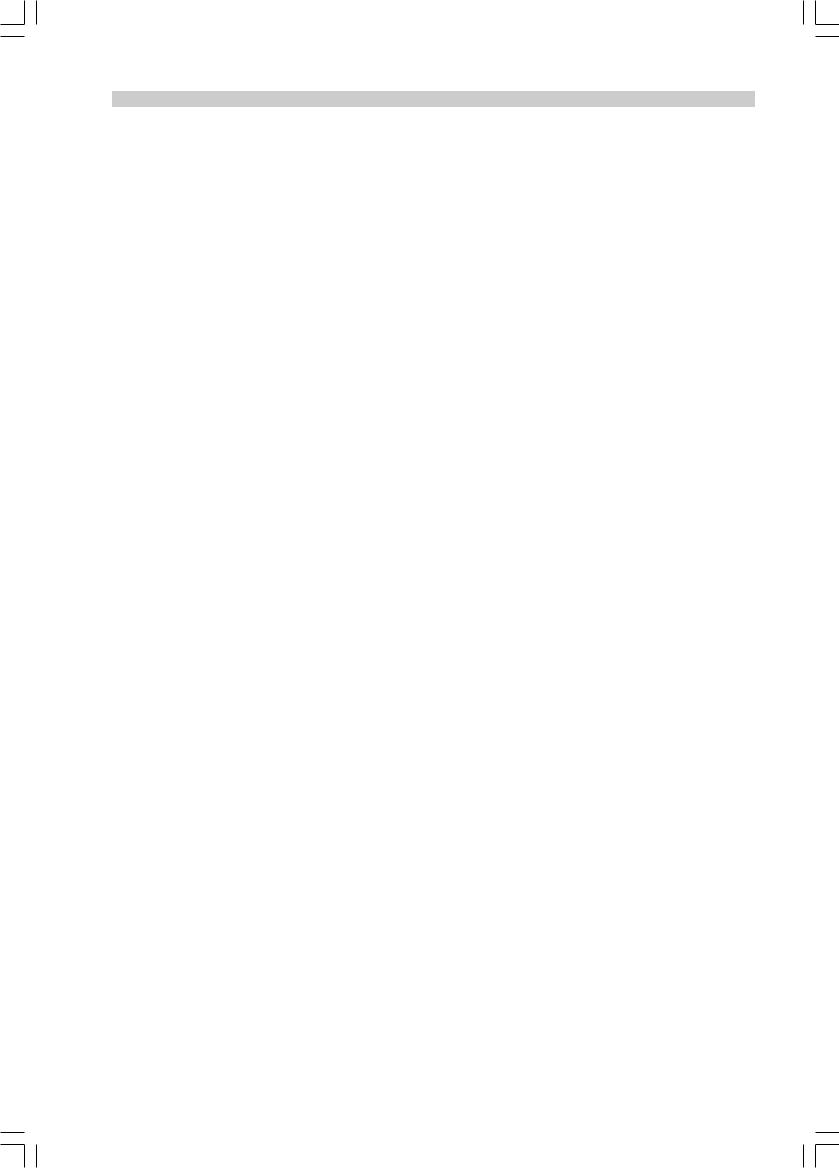
КОМОРБИДНОСТЬ МИГРЕНИ
81.Osipova V. Psychoautonomic approaches to migraine.Funct Neurol 1992; 7: 4: 263—273.
95.Silberstein S.D. Headache in clinical practice.Silberstein S.D., Lipton R.B., Goadsby P.J. (eds). ISIS. Medical Media 1998; 213.
82.Osipova V.,Kolosova O.,Vein A. Migraine associated with panic at96. Silberstein S.D. Practice parameter: evidence-based guidelines for
tacks. Cephalalgia 1999; 19: 728—731.
83.Paiva T., Batista A., Martins P., Martins A. Chronic headaches and sleep disorders. Arch Intern Med 1997; 157: 150: 1701—1705.
84.Panizon F. Food allergy and psychosomatic medicine. New Frontiers. La Pediatria Medica e Chirurgica. Med Surg Pediat 1987; 9: 6: 671— 677.
migraine headache (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2000; 55: 754—762.
97.Solomon G., Price K. Burden of migraine: a review of its socioeconomic impact. Pharmacoeconomics 1997; 11: Suppl 1: 1—10.
98.Speer F. Allergy and migraine. Headache 1971; 17: 63—67.
85.Pasnau R.O., Bystristky A. On the comorbidity of anxiety and depres99. Spence J., Wong D., Melendez L. et al. Increased prevalence of mitral
sion. In: der Boer J.M. (ed.) Handbook of depression and anxiety: a biological approach. NY: Marcel Dekker 1994; 45—56.
valve prolapse in patients with migraine. Canadian Med Assocoation J 1984; 131: 12: 1457—1460.
86.Peatfield R. Migraine and hyperventilation. News Head 1993; 3: 6— 100. Stewart W.F., Linet M.S., Celentano D.D. Migraine headaches and
7. |
panic attacks. Psychosom Med 1989; 51: 559—569. |
87.Pietrobon D., Striessnig J. Neurobiology of migraine. Nat Rev Neuro101. Tatemichi T.K., Mohr J.P. Migraine and stroke. In: H.J. Barnett, B.M.
sci 2003; 4: 386—398.
88.Pratt J., Fleisher G. Syncope in children and adolecents. Pediat Emergency Care 1989; 5: 2: 80—82.
89.Rouillon F., Chignon J.M. Psychiatric comorbidity of anxiety disorders in the year 2000 Proceedings of the meeting held in Paris. Paris 1992; 26—34.
90.Sahota P., Dexter J. Sleep and headache syndromes: a clinical review. Headache 1990; 30: 30—84.
Stein, J.P. Mohr (eds.). Stroke: Pathophysiology, Diagnosis and Management. NY: Churchhill Livingstone 1986; 845—863.
102.The international classification of headache disorders, 2nd Edition. Cephalalgia 2004; 24: Suppl 1.
103.Walker C.H. Migraine and its relationship to hypertension.Br Med J 1959; 2: 1430—1433.
104.Weiss N.S. Relation of high blood pressure to headache, epistaxis, and selected other symptoms. N Engl J Med 1972; 287: 631—633.
91.Shetcher A.L.,Lipton R.B.,Silberstein S.D. Migraine comorbidity.In: 105. Welch K.M.A. Relationship of stroke and migraine.Neurology 1994;
S.Silberstein, R.Lipton, D.Dalessio (eds.).Wolff’s headache.Oxford University Press 2001; 108—118.
92.Shoenen J. The pathophysiology of migraine: a review based on the literature and personal contributions. Funct Neurol 1998; 13: 7—15.
93.Shuaib A., Lee M. Seizures in migraine: warning of an underlying cerebral infarction? Headache 1987; 27: 500—502.
44:Suppl 7: 33—36.
106.Wojewodzkiej P. Migraine as one of the symptoms of food allergy. Polski Tygodnik Lekarski 1960; 47: 3—4: 89—91.
107.Zahavi I., Chagnac A., Herig R. Prevalence of Raynaud’s phenomenon in patients with migraine. Arch Intern Med 1984; 144: 742— 744.
94.Sicuteri F., Boccuni M., Fanciullacci M., Bonciani V. A new nonvascu108. Zaubler T., Katon W. Panic disorder and medical comorbidity: a re-
lar interpretation of syncopal migraine. Adv Neurol 1982; 33: 199— 208.
view of the medical and psychiatric literature. Bull Menninger Clin 1996; 60: 2: Suppl A: A12—A38.
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 3, 2007 |
73 |
