
"Диалог логик". Начало "критичности"
^Рождение творческого черновика - бесшумная, благая, но и тревожная весть о начале диалога - выхода второго голоса, второй позиции, второй - критической - координаты. Этот голос доносится "оттуда", из текста, и уже по причине своей "внеположности" воспринимается как чужой. Отныне творческий процесс приобретает, по существу, публичный характер, и каждое усилие распять симультанный образ на белом листе бумаги, раскатать объем в плоскость, будет сопровождаться не только триумфальным кличем]("Ай да Пушкин!", например, или <Это. . . как "Илиада"» - Лев Толстой о "Войне и мире"), но и неостановимой авторской самокритикой (в творческом опыте того же Пушкина, и особенно Толстого).
Переход
от синкретического первообраза к тексту
вовсе не логический "перескок",
скорее это момент вхождения в другую
логику; мы
скажем: от "целого раньше частей"
- к "частям раньше целого", и потому
диалог,
возникающий на этой ступени, - "диалог
логик"57.
Именно здесь биографический
автор "делится" на "поэта" и
"художника" (Достоевский),
"писателя" и "критика" (Толстой),
"писателя" и "человека" (Поль
Валери),
собственно, "автора симультанного
образа" и "автора текста". Это
"деление" носит диалектический
характер. Автор текста по отношению
к автору симультанного образа - "свое
другое", на этой почве и зарождается
эффект двуголосости - социализации
творческого процесса.
Семантически
яснеет столь внятная подавляющему
большинству писателей
тяга
к одиночеству как
способу пробудить в себе "другого",
усилии
стать "размышляющим коллективом"53,
- ведь и впрямь "тяжело одному
знать истину" ("смешной человек"
Достоевского). Не с этой ли Диалогической
ситуацией связана такая, например,
стендалевская причуда",
как самодиктовка, или баховское восприятие
инструментов как
собеседующих "личностей"?59
Голос, оценивающий текст по мерке
симультанного образа, "часть" -
в свете уже произошедшего "целого",
~ это и есть предличная, еще не
объективированная форма критики. Из
ого-то
корня и "вылезает" то самое, святое
и горькое недовольство тора
собственной персоной, которое
оборачивается то отвращением к кету,
то неверием в свою "звезду", то
болью. Этот потаенный диалог -ихииная
предпосылка диалога явного: скажем, в
творческом опыте тоевского
- полемика между толстовской и пушкинской
манерами повествования,
толстовским и пушкинским "культурными
типами'. Отсюда
у того же Достоевского - бесконечные
самовопрошания ("Не начать
ли?" "Не сделать ли?"), у Леонардо
- разговор с самим собой, обращение
к себе на "ты"60,
спор между правой и левой рукой.
повествования,
толстовским и пушкинским "культурными
типами'. Отсюда
у того же Достоевского - бесконечные
самовопрошания ("Не начать
ли?" "Не сделать ли?"), у Леонардо
- разговор с самим собой, обращение
к себе на "ты"60,
спор между правой и левой рукой.
Трансформация "целого раньше частей" в "части раньше целого" - не герметизированный, а идеологический процесс. Можно предположить, скажем, что очевидная нелюбовь Достоевского (или Тютчева) к "писанию" как делу механическому определенным образом корреспондирует с философско-мировоззренческим его символом веры: "живой дух" -категория славянской бытийственности - резко противопоставлен "формуле" - категории западного жизнестроения, всяческому культу "рамы", завершенности и окончательности. В крайних вариантах этот символ веры без усилий может быть доведен, что называется, до упора: "святой дух" - всё, "формула" - ничто; симультанный образ - всё, текст - ничто. У Поля Валери, например, так и получилось: цель творчества -не "литература", а "литературность" (Р. Якобсон), стремление, а не воплощение, тренировка интеллекта, а не объективация его порождающей мощи. По сути, двадцатилетнее молчание Валери - выход из традиционного круга действий перед лицом публики - трагически высокая плата за добровольное служение этому умственному "божку".
Диалог логик - "целого раньше частей" и "частей раньше целого" -теоретически неостановим. И все же творческий процесс конечен: художественная воля стимулирует тягу к финалу. Эта острейшая духовная коллизия разрешается гениальным компромиссом: текст ассимилирует, преодолевает симультанный образ, не уничтожая его61, - диалог логик продолжается внутри текста: теперь симультанный образ только "сквозит и тайно светит". Вспоминается саврасовское творческое напутствие: писать природу так, чтобы жаворонка не видно было, но пение его было слышно. Тайное присутствие симультанного образа в жизни текста сообщает ему неисповедимость, оберегает от окончательности и одномерности. "Мысль изреченная есть ложь"? Но тогда ложно и само это изречение! В своей культурной истории человечество выработало такие внутренние - духовные и психологические - механизмы, которые обеспечивают перекодировку симультанного образа в линейную, графическую (или иную) протяженность без катастрофических для него потерь -именно: преодоление без уничтожения. И потому в завершенном тексте Шиллер прозревает ту самую, "первичную тайную общую мысль", что тревожила его накануне текста. По той же причине оспаривает возможность беспредметничества Пабло Пикассо: "Всегда исходишь из чего-нибудь. Потом можно снять всякий налет реальности, он уже не нужен, так как идея предмета оставила неизгладимый след. Предмет спровоцировал художника, возбудил его мысли, взволновал его чувства. Мысли и чувства стали пленниками его работы. Как бы они ни старались, они не могут вырваться из картины. Они являются ее неотъемлемой частью, даже когда нет видимых следов их присутствия"62. При очевидной полемичности этого высказывания ("снять всякий налет реальности"), нельзя не видеть столь же бесспорную его глубину. Перефразируя Пикассо, мы скажем: на высочайшем гребне творческого энтузиазма симуль й образ становится пленником художественного текста, его "неотъемлемой частью", даром что аналитически ухватить "видимые следы" его отдельного присутствия, увы, удается далеко не всегда. Симультанный образ органически "делится" - оборачивается противоречивой, диалогической, двуголосой полнотой текста, - "раздвоением единого", диалектикой прямых и контекстуальных смыслов, дробности и непрерывности. Поль Валери прав, конечно: "начало" и "конец" чужды "стихийному формированию"63, т.е. в рамках нашей концепции - симультанному образу. Однако они чужды также и художествен ному тексту, поскольку, повторюсь, в динамике текста симультанный образ преодолевается, но не уничтожается, - принципиально важный нюанс! Именно здесь разгадка некоторых странностей и "перескоков", например, в структуре поэтического времени. Вот - знаменитая фетовская элегия "Не спрашивай, над чем задумываюсь я. . . ". В заключительном ее катрене ("коде") есть такое полустишие: "Тот плач давно умолк..." С точки зрения физической или технической, полустишие это может быть истолковано вполне однозначно: за трагическими событиями прошлого последовал плач. Однако с точки зрения художественной, т.е. органической, дело обстоит куда сложнее: мы "узнаём" о плаче и эстетически переживаем его задолго до появления в тексте его лексического "представителя", -имею в виду четвертый, срединный катрен:
Я помню, отроком я был еще; пора Была туманная, сирень в слезах
дрожала...
Конечно, без особых душевных мук здесь при желании можно обнаружить всего лишь сирень, "покрытую дождевыми каплями" (именно так истолкован этот образ в одной современной литературоведческой работе). Но это - часть правды, ибо на языке искусства дрожащая в слезах сирень - это еще и сирень, увиденная сквозь слезы. Исче-зающе малая художественная "клеточка" органически повествует и о состоянии предмета, и о состоянии души. Предчувствие и начало того плача пророчески даны уже в восприятии этой , пронзительно чистой сирени. Эстетическая реакция на событие опережает само событие; свойство объекта опережает объект. Мы уже знаем о Беде, еще ничего фактически о ней не узнав. Здесь речь не о параллельных, синхронно выстроенных состояниях: ощущение первоначальной свежести и чистоты сиреневого куста - предчувствие несчастья. И не о сменяющих друг друга фазах: сначала - ощущение свежести, потом - предчувствие несчастья. Суть Дела в том, что оба состояния даны одномоментно, - они изнутри, диало-
ески проросли друг другом; физическими категориями тут оперировать нельзя.
пециалисты
(например, Жан Прево) отмечают: в минуты
творческо-вает'РеНИЯ
Стендаль
" Формально - не столько создает,
сколько записы-этом
П°Д
самодиктовкУ
собственный текст. И вот что любопытно:
при Ре
п Зачастую
он
Делает орфографические
ошибки,
но затем, в корректу-ЭЖе
И
Не
Думает
их
Устранять. Зато стендалевский синтаксис
почти
?ечен,
а синтаксис - смысловая "скрепа",
обеспечивающая конти нуалъность
художественного
высказывания о жизни, - она впрямую
восходит к симультанному образу. Конечно,
преимущественное внимание
к синтаксису не в последнюю очередь
объясняется тут также и устным
характером творческой
мысли писателя, - подобно Достоевскому
и
Тютчеву, Стендаль тяготился "писанием",
а то, что адресуется уху, обычно
требует повышенной чуткости именно к
"скрепам".
нуалъность
художественного
высказывания о жизни, - она впрямую
восходит к симультанному образу. Конечно,
преимущественное внимание
к синтаксису не в последнюю очередь
объясняется тут также и устным
характером творческой
мысли писателя, - подобно Достоевскому
и
Тютчеву, Стендаль тяготился "писанием",
а то, что адресуется уху, обычно
требует повышенной чуткости именно к
"скрепам".
"Раздвоение единого" (симультанного образа) на прямые и контекстуальные смыслы становится предпосылкой его динамической реконструкции в тексте: диалог смыслов, преодолевающих, однако не уничтожающих друг друга, порождает третью по отношению к каждому из них, синтетическую, величину - аналог синкретичности симультанного образа. Вот пушкинское, вечное:
V/ Я вас любил: любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим; Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам бог любимой быть другим.
( Будучи трижды повторено^ печатное "я_вас_любил" перерастает в заклинани^^^мшгйсш^очнре^'я^вас люблю". Грамматически прошедшее ~время^зЙО£ачивается эстетически настоящим временем. Семантическая категоричность^ заданноТть~и"прямизна {"^васГлюбил") подрываются живой импровизацией, растерянностью, инверсионной шаткостью ("любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем"). Самое ответ-ственное_- "не совсем" - оттеснено куда_-то на периферию фразы; путь к нему извилйстТ^е^Т^^ьт, может" и др.); подлежащее ("любовь") с трудом дотягивается до своего сказуемого" ("угасла"). Авторитет семантики снижен еще и вследствие того, что далее^она погружается в отрицательное поле ("не совсем", "не тревожит", "не хочу", "ничем"). Семантика - "любила", искусство - любит! Это зыбкое, двоящееся состояние во втором катрене опровергается. Здесь поляризация элементов сомнения, резкое "качание" чувства, проясненность конфликта. Извилистость, спотыкание уступают место прочной парности, интонационной симметрии
1 то ревностью"; "так
"безмолвно" - "безнадежно"; "то робостью" -искренно" - "так нежно").
^Художественная суть этого пушкин^кс1гхишедевра_шгзникдет в поединке с прямыми, грамматическишГзначениями - как форма несогласия с ними.) Однако не следует думать, будто сами прямые эти значения и вовсе уходят в песок или - под натиском художественных - разваливаются на глазах изумленного читателя. Ничего подобного! Конечно же, мы имеем ту_тдело^п^о51«зо£ечием. Но противоречием диалектическим, а не формально-логическимГ^Тазница "существенная. [^Подлинная сложность, богатство и драматизм переживания, виртуозно ув'е'ковёчён1 ного Пушкиным в восьми лирических стихах, заключают в себе и мужественную догадку об исчерпанности любви, и ощущение ее живого присутствия64. Художественный смысл ("люблю") по отношению к прямому гг
слу ("любил") - другое, но не стор^ш^е^случайное другое* а свое.
ъ*0 диалектическая, Гераклитова ситуация раздвоения единого, - Т и дука" и лиры как нельзя точней фиксируют ее суть. Из единого ня _ целостного, гармонического переживания - вырастают в пуш кинской миниатюре полярнь'ге чувства; первое уже сказалось словом, же осознано; второе - еще стихийно, бессловесно - собственного рационального облика у него нет, и оно вынуждено облачаться в одежды своего оппонент^"- Т.-С • v-of**^
Между^^елым^а^щце^чд^хдЁ!!-11 "частями раньше цедаг^^_ BjrpocT-рянстшГ^иалога~югик" -завязывается продукт^вная^штлизия -эффект^Ф^^моспГ^^^^ критичность - отношение под знаком HOpjg^a^fi^nHH^H3fo^TekcTa недосягаемая норма - симультанный образ). Это объясняется тем, что с самого начала текстуальная часть обречена служить двум господам, метаться меж двух огней - двух целых'- уже сотворенным и еще не сотворенным. В обоих случаях она несет на себе проклятие незавершенности: в первом - оттого, что не в состоянии вместить полноту своего истока - дотекстуального "целого раньше частей", во втором - оттого, что этой вот неполнотой только и способна участвовать в создании своего итога - "целого после частей" (ведь незавершенность части, напомню, предпосылка нормального функционирования целого). "Целые" давят на текстуальную часть с обеих сторон, и в этом крайне стесненном бытии обнаруживается двойная уязвимость части, а потому и двойной повод для критического к ней отношения. В лучах прошлого она знаменует некие потери, в лучах будущего - некий дефицит.
ПУШКИНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВДОХНОВЕНИЯ
ознику
ВДОХНОВЕНИЯ
Здесь
может возникнуть вопрос: не получается
ли, что "диалог логик" -
поединок сугубо головной, рассудочный,
в некотором смысле игра избыточных
интеллектуальных сил? Ведь творческий
процесс, словно пожар,
охватывает всего
художника,
не так ли? Куда же подевалось, например,
вдохновение,
эта
всеобъемлющая и всесжигающая стихия,
-уж
она-то неделима и целостна? Увы! Ничуть
не бывало: она так же противоречива,
как и творческий процесс, и принадлежит
одновременно Двум
'сферам": и "целому раньше частей",
и "частям раньше целого". собственно,
и возникает она именно в момент перехода
от первой ко торой,
т.е. по совершенно конкретному поводу.
Не как инструмент,
а
как
тотальное творческое состояние;
не
за пределами искусства, а в нем,
в
сокровеннейших его недрах; не на пустом
месте - в виде априорного, предстартового
воодушевления ("поющее состояние"
Поля Валери), езадресного
и, в сущности, безобъектного, - а в
"гудящей" динамике Уховного
труда, даром что самому автору ситуация
эта может представ-ться
в принципиально ином свете. Лесков,
например, не придавал ану решительно
никакого значения; Достоевский - придавал;
Лео-се
r
Д3
Винчи
казалось,
что, работая над "Тайной вечерей",
он и вов-обходился
без вдохновения; а Толстой же пытался
удержать вдох-ение
упоенной и опаляющей молитвой: "Верю,
что во мне сила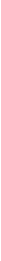
Твоя,
данная для исполнения дела Твоего. Дело
же Твое в том, чтоб преувеличивать
силу Твою в себе и во всем мире"
(Дневник. Декабрь 1898 г.).
Вдохновение - "как бы двойное бытие": и следствие (погружения в "предмет"), и предпосылка, условие (его, "предмета", художественной разработки), - скользящий духовный порог - то ли конец интуиции, тс ли начало рассудка; как выразился Рибо, шифрованная депеша, которую бессознательная деятельность передает сознательной65. Это - воистину миг, когда "всё дается", - ■ "сладостный страх" (страшит огромность собственного духовного потенциала) трансформации непредсказуемого в неизбежное (Пьер Буле), "вероятья в правоту" (Борис Пастернак), логики симультанного образа - в логику текста.
Противоречивый характер вдохновения теоретически осознается сравнительно поздно; "дионисийская" и "аполлоновская" его координаты долгое время пребывают в разлуке, вообще друг о друге ничего не ведают. Для Платона вдохновение - "божественное безумие", а творческий процесс - исступленный, граничащий с полным беспамятством подъем духа. И только. Во многом созвучна этой античной теоретической модели ренессансная концепция экстатического самораскрытия гения. Так, согласно Марсилио Фичино, в любом случае и в любой своей ипостаси "вдохновенное безумие" знаменует порыв к вершинным возможностям духа; на этом взмывающем пути оно родственно смыкается с мистическим созерцанием. В XV! столетии платоновская трактовка вдохновения осложняется идеей "искусности" ("аполлоновский" мотив). Однако на этой - в целом мистико-религиозноЙ - почве научно-концептуальное знание сформироваться не могло; надлежало каким-то образом рационально структурировать - примирить с эстетической нормативностью -саму идею вдохновенного творчества. Задачу эту остроумно решает Кант: вдохновение (гений) - инстанция, по каналам которой природа диктует законы искусству. Впоследствии Гегель резко активизирует диалектические механизмы этой теоретической ситуации: вдохновение - не повод к продуктивной, "порождающей" деятельности, а момент тотальной вовлеченности художника в бытие предмета, - он сам, демиург, становится динамической формой овладевшего им содержания.
И все-таки. . . все-таки никто, даже и немецкие романтики, так проницательно не взглянул на эту проблему, как Пушкин и Баратынский.
Когда сменяются виденья Перед тобой в волшебной мгле И быстрый холод вдохновенья Власы подъемлет на челе. . .
Это - Пушкин, юный, девятнадцатилетний, в исповедальном общении с Жуковским. Спустя двенадцать лет "холод вдохновенья" отзовется - в других его стихах - "слезами вдохновенья", грянувшего и объявшего душу в момент созерцания "волшебной" красы мраморных фигур:
. . .Пред ними сам себя я забывал; В груди младое сердце билось — холод. Бежал по мне и кудри подымал...
("В начале жизни школу
помню я . . . ")
Как видим, и здесь вдохновению сопутствует холод... Может быть,
» путствует" - понятие, не вполне адекватное поэтической пушкинской
иепции: там Ведь оксюморон - "холод вдохновенья", состояние
отиворечиво _ иелостное) диалектическое, а не сумма характеристик
"вдохновение" плюс "холод". Аналогичный ход художественного лемеха - в стихотворении Баратынского "Скульптор" (1841), написанном, несомненно, в русле пушкинской философии творчества: свобода художника, прозревшего в камне прекрасную нимфу, возможна только как освобождение нимфы от каменных покровов. "Герои" движутся навстречу друг другу, и последний покров падет лишь в тот вожделенный миг, когда под "лаской вкрадчивой резца" Галатея распознает, наконец, страсть. Вкрадчивая ласка резца, как бы потерявшего и забывшего в себе собственную страсть, - парафраза на пушкинскую тему "холод вдохновенья".
Но Пушкин проницательно уловил не только философию, но и (вспомним собственные его слова) "механику вдохновения", отграничив его от восторга - нарушителя спокойствия, столь необходимого для нормального восприятия прекрасного. "Восторг, - констатирует Пушкин, - не предполагает силы ума, располагающей частей в их отношении к целому". Вот, оказывается, в чем дело! Стихия вдохновения - "механика" частей и целого, - тот самый пограничный творческий рубеж - скользящий порог, на котором, уже в нашей интерпретации, симультанный образ ("целое раньше частей") делится и трансформируется в художественный текст ("части раньше целого"). В пушкинском теоретическом восприятии вдохновение - не семантически нейтральный, тепловой источник творческого подъема, а, скорее, сила конструирующая, осложненная "холодом", расчетом, но и памятью о гармонии, и мощью духа, - шутка ли! -"власы" подъемлющего "на челе".
КРИТИКА ТЕКСТА И КРИТИКА ТЕКСТОМ
Для художника симультанный образ - нечто естественное, первично-природное, к чему он вроде бы и отношения-то не имеет и что непременно следует в себе лелеять, беречь и охранять - вот так же, как природу. Это в некотором смысле экологический аспект творческого процесса. Внутренний, "порождающий" импульс проецируется вовне - на наружный экран; свое кажется чужим, между тем оно - "свое другое", не более того. По отношению к тексту симультанный образ - примерно то же, что естественный человек" по отношению к руссоисту: идеал и мерка, т.е. та самая норма, в свете которой только и возможна критика. Ориентация на симультанный образ в момент "вхождения" его в текст указывает на спо-пособность (и готовность!) художника судить себя по мерке высшей ровной полноты, "горних" возможностей, столь ценимых А. Григорье-■м. Отсюда нередкие интроспективные авторские свидетельства высо-е бережного, сыновнего отношения к истокам - дальним, колыбель-> синкретическим началам художественного текста. Грэхем Грин, т Мер> глубоко убежден, что всякая попытка перекроить или пусть пос К° откорРектиР°вать Уже созданный образ, безусловно, утопична, ольку посягает на уникальность личности, некогда вызвавшей его к
жизни.
"Я никогда не буду тем человеком,
каким я писал все это много месяцев
назад", - говорит он в отчаянии66.
О необычайной, порою прямо-таки
палаческой придирчивости Толстого к
себе и своим текстам написано
немало. Однако в литературном поведении
Толстого - особенно
позднего - отчетливо просматривается
и другая, консервативная тенденция:
то, что однажды стихийно выплеснулось
на бумажный лист, несет
неотменимую, не подлежащую корригирующему
пересмотру высшую
правду. За этим полное и крепнущее
доверие к неисповедимым запасам духа,
бессознательная тяга к тому, что
отложилось помимо воли и теперь вот
"ищет излиться". Гений знает миф,
даже и не изучив его, -если
не ошибаюсь, слова эти принадлежат
эстетику Фридриху Фишеру. В ситуации,
которую я пытаюсь здесь описать, Толстой
знает
жизнь
даже и тогда,
когда эмпирически ничего о ней не
знает, - это
знание немое, довербальное
и, с точки зрения Толстого, наиболее
авторитетное. Вот одна
из дневниковых его записей (5 ноября
1865 г.): ". . .Писал по новому
- так, чтобы не переделывать..."
(речь о "Войне и мире")- 2 февраля
1870 г. (на отдельном листке): "Для того,
чтобы сказать понятно то,
что имеешь сказать, говори искренно, а
чтобы говорить искренно, говори
так, как мысль приходила тебе...е7
9-10 декабря 1886 г. - Черт-кову:"Работал
я для календаря, а потом драму. Кажется,
что я грешил с ней,
очень уж ее отделывал. А это не следует,
и оттого хуже многое бывает."
Наконец, 29 августа 1889 г. еще одна
(дневниковая) запись, как бы
доводящая до упора, до последней точки
исподволь, на протяжении четверти
века вызревавшую идею авторского
"неделания" - невторжения
в текст: «Думал о том, что я вожусь с
своим писаньем Кр<ейцеро-вой>
Сон<аты> из-за тщеславия; не хочется
перед публикой явиться не вполне
отделанным, не складным, даже плохим. И
это скверно. Если что есть
полезного, нужного людям, люди возьмут
это из плохого. В совершенстве
отделанная повесть не сделает доводы
мои убедительнее. Надо
быть
юродивым и в писании"™.
Этот толстовский "консерватизм" - явление в истории литературы отнюдь не уникальное. Томас Манн, например, характеризует себя как человека "своего scrips! (я написал)", имея в виду "пиетет перед великолепным при определенных личных обстоятельствах каждодневным уроком, - следствием чего является очень, вероятно, нехудожническая склонность видеть в... книге не столько объективное, доводимое до максимального совершенства произведение искусства, сколько след жизни, ретушировать который было бы для меня чуть ли не равносильно обману... Не хотел бы... чтобы. . . подумали, что мне чуждо стремление к совершенству. Я делаю всегда все как только могу лучше. Но именно оттого, что я это знаю, я не убираю и не самое лучшее"69. Таким образом, для Томаса Манна невторжение в собственный текст - способ сохранить, законсервировать в нем нечто личное, биографическое, удержать какой-то фрагмент опыта - пережитого и уже с разбега претворенного в художественную структуру. Конечно, эта позиция Томаса Манна - на фоне толстовской концептуальной жажды юродства "в писании" - кажется не более чем технической процедурой или интеллектуальной игрой: автор преднамеренно не вторгается в текст, всецело
пагаясь на творческую инерцию - доведенный до блеска, до автоматиз-П порыв к совершенству. Перо, обученное инстинктом, и само позабо-я 0 надлежащей "кондиции" - без того, чтобы автору понадобилось либо еМу предписывать. Вот и получается: автор сознательно оставляет в тексте и не самое лучшее, поскольку бессознательно - как бы ни
положились планетьг _ непременно доведет его до совершенства. Словом, даже ничего не делая, Томас Манн все же знает, что делает. Между тем толстовская жажда юродства "в писании" безусловно однозначна и тотальна - она не оставляет рассудку никаких лазеек, ни единого шанса на увертку. Для Толстого невторжение в текст - форма самокритики или критики текстом и потому принципиально ничем не отличается от активных вторжений. Приостанавливая творческий процесс на ступени первого варианта, Толстой - как, вероятно, думалось ему -предъявляет самому себе картину собственной духовной неполноты и незавершенности.
И так всегда: вхождение в текст - это с самого начала шаги "в себя", и любая критическая операция на тексте - не что иное, как переделка и перестройка своего духовного уклада, правка души, идеала, принципа и т.п. Коррекция текста - уловка, позволяющая тексту корригировать, доводить до "кондиции" его, автора. И это естественно: раз возникнув, художественная "клеточка" действует уже по собственному "разумению" - реализует свою витальную программу, то и дело "опрокидывая" (Андрей Белый) авторскую инициативу. "Содержание того, что я писал, -признается Толстой В.И. Алексееву, - мне было так же ново, как тем, которые читают" (10 февраля 1890 г.). И в "Послесловии" к "Крейцеровой сонате": "Я никак не ожидал, что ход моих мыслей приведет меня к тому, к чему он привел меня. Я ужаснулся своим выводам, хотел не верить им, но не верить нельзя было". В работе над той же "Крейцеровой сонатой" завязывается - не на живот, а на смерть - борьба между толстовской доктриной (проповедью), поскольку она требовала сострадания к падшему, и железной логикой текста, эту доктрину "опрокидывавшей". Мы явственно обнаруживаем приметы этой борьбы, например в седьмой редакции повести. Здесь Позднышев, уже после трагической развязки, признается: "Я в первый раз увидал в ней человека, сестру и не могу выразить того чувства умиления и любви, которое я испытал к ней . в восьмой редакции характер жены Позднышева еще более смягчен; теперь она "в самой глубине души добрый, великодушный, почти вятои человек, способный мгновенно, без малейшего колебания и раскаяния отдать себя всего, всю свою жизнь другому"70. И все-таки Страдание" как мировоззренческий принцип не претворен здесь в эпический, собственно повествовательный материал и сохраняет черты роповедничества, не осложненного живым ходом событий.
онечно, поостережемся думать, будто симультанный образ "Крейце-
Р вой сонаты" к толстовской доктрине и вовсе не приобщен, - это было
об ГРУ шим Упрощением всей ситуации. Там, в составе симультанного
раза, доктрина эта свернута и интимно сращена с органикой "целого
пп частей"; здесь же, в тексте, целое расплетено в дискретную
яженность, и оттого-то возможны открытые, прямые мировоззренчес-
 кие
вторжения в художественную реальность.
Попутно отметим, что способность
текста перестраивать автора - власть
творения над творцом -
порою абсолютизируется, а то и доводится
до абсурда. Валери, напри-мер, всерьез
размышляет о "жутком унижении",
которое испытывает художник,
ставя в тексте последнюю точку: теперь
он - дело рук собственного
детища71.
Разумеется, критике текстом
как
эстетико-психологи-ческий
феномен доведена здесь до упора.
кие
вторжения в художественную реальность.
Попутно отметим, что способность
текста перестраивать автора - власть
творения над творцом -
порою абсолютизируется, а то и доводится
до абсурда. Валери, напри-мер, всерьез
размышляет о "жутком унижении",
которое испытывает художник,
ставя в тексте последнюю точку: теперь
он - дело рук собственного
детища71.
Разумеется, критике текстом
как
эстетико-психологи-ческий
феномен доведена здесь до упора.
Ну а если чуть подморозить эмоции? Чуть подрессорить фантазию? Тогда, очевидно, выяснится, что художник, в сущности, постоянно вынужден работать в условиях внутренней несвободы: он стиснут, зажат между двух неотвратимостей, двух логик: как бы природной неотвратимостью симультанного образа и "культурной" логикой саморазвивающегося текста ("части раньше целого"). На пересечении двух этих "несвобод" и возникает динамика творческого процесса; они-то и детерминируют изнутри янусиапский характер художественного мышления: оберечь, сохранить симультанный образ художник может, только преодолевая его, подвергая критической трансформации в дискретную текстуальную протяженность. Прав Поль Валери: писатель в самом себе несет и интимно приобщает к своей работе критика: "Был некий Буало в Расине, или подобие Буало"''2. "Критик" входит в состав "художника", а вовсе не является внешней по отношению к нему, контрольной, инстанцией, -принцип "раздвоения единого", напомню, действует неумолимо. Правда, задолго до Валери, - опять-таки напомню, - принцип этот в его эстети-ко-творческой модификации был уловлен Толстым: "В писателе должно быть всегда двое - писатель и критик73. В той мере, в какой "критик" в составе "художника", преодолевая, создает, самокритика в составе творческого процесса становится актом сомосозидания. Здесь спрятаны ключи ко многим парадоксам искусства, и в частности, к непостижимой, на первый взгляд, склонности великих писателей к "приукрашиванию", "улучшению" явно отрицательных своих персонажей. Ну, вот, возьмем хотя бы владелицу семейного пансиона для лиц обоего пола и прочая г-жу Воке ("Отец Горио") - существо крайне несимпатичное. Напомню некоторые детали: сорочий глаз; стеклянный взгляд; жирное потрепанное лицо; нос, торчащий как клюв у попугая; раздобревшее, словно у церковной крысы, тело; деланная улыбка танцовщицы и - зловещая хмурость ростовщика. Пожалуй, достаточно. И вот, это ходячее скопище пороков, эта "куропатка, обернутая шпиком", этот "сурок" и эта недоверчивая "кошка" произносит слово "липы" (les tilleules) так, как произносила его нежная и женственная возлюбленная автора "Отца Горио" -Ева Ганская: "льипы" (les tieuiles)-
Или другой пример: персонажу, явно несимпатичному, очерченному насмешливым пером, дешево актерствующему Наполеону Толстой отдает чувство, постоянно владеющее, по собственным его словам, "лучшими' людьми " в самые сильные и поэтические минуты счастливой, удовлетворенной любви" (эпизод на Шевардинском редуте)74.
И бальзаковская г-жа Воке, и толстовский Наполеон - персонажи» мягко выражаясь, малопривлекательные, тем не менее они всецело, и не
пько юридически, но и психологически, принадлежат своим создате-Т с одной стороны, по закону "проекции" (Зигмунд Фрейд) они несут рбе какие-то именно авторские - отчужденные, объективированные и, чит, отныне художественно изжитые негативные черты; с другой роны, эти негативные черты теперь, уже на уровне текста, совершают обратный путь, возвращаются в авторское лоно - к первое л а дельцу; у него-то, в нем-то и вызревает ощущение личной, органической причастности ко всем характеристикам сотворенного мира. Ответственность за нравственную ущербность персонажа претворяется в переживание личной нравственной ущербности; критика со стороны текста совпадает с бескомпромиссной самокритикой. И потому, "улучшая", "приукрашивая" отрицательного героя, автор, по сути, совершенствует свой собственный нравственный потенциал.
Таким образом, истинный смысл авторской коррекции текста -критики текста - в критике самого себя текстом. Лаже когда автору кажется, что он работает над рукописью, в действительности он неутомимо возится с собственной персоной - возделывает, уточняет, "откидывает", огранивает. И недовольство черновиком - это черное недовольство самим собой; и стремление к идеальному варианту или редакции - это попытка доработать, поднять, возвысить себя на уровень шедевра. Конечно же, лучшее произведение Толстого - Толстой.
В реальном движении творческого процесса критика текста и критика текстом нераздельны; может быть, потому и путает эти аспекты Лев Николаевич: то ли рукопись перемарывает, то ли себя. "Я блудник", -жестоко расправляется он с собой на всеприемлющей дневниковой страничке. И это в пору завершения седьмой редакции "Крейцеровой сонаты": критика текстом продолжается и за пределами его, хотя, с другой стороны, это, конечно, и критика текста - с высоты новой, "доработанной" нравственной позиции.
-
-
-
-
-
-
