
Глава 6
ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОГО ИССАЕАОВАНИЯ МИКРООБЪЕКТОВ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Философы перепутали равенство со схожестью.
Люли, действительно, родятся схожими — да, но
не равными».
Антуан ле Ривароль
Из всего комплекса задач судебной микрообъектологии решение
экспертной задачи подводит итог всей деятельности по использованию
микрообъектов на стадии предварительного следствия1. Именно экс-
пертиза направлена на преобразование потенциальной информации,
заключенной в микрообъектах (в совокупности с другими материалами
дела), в криминалистически значимую доказательственную информа-
цию, которая может быть использована для правильного решения уго-
ловного дела.
Необходимость в четком определении задач экспертного исследо-
вания раскрывается следующими положениями. Прежде чем назначать
экспертизу по исследованию микрообъектов, следователь, дознава-
тель, суд должны определиться в отношении устанавливаемого объек-
тивного факта, входящего в предмет исследования и представляющего
практическую значимость для следствия. В свою очередь, это возможно
только в процессе познания экспертом изучаемого им носителя инфор-
мации о произошедших в прошлом событиях. «Именно эта информация
служит основой для внутреннего убеждения эксперта о существовании
или отсутствии факта или совокупности фактов, относящихся к делу.
Получение же этой информации базируется на знаниях, навыках и уме-
ниях эксперта правильно выбрать и применить методику и предусмот-
ренные ею методы и технические средства. Выбор той или иной мето-
дики зависит, в свою очередь, от задач и особенностей объектов
исследования»2.
1 Вполне естественно, что итогом всей деятельности по использованию микрообъек-
тов является оценка результатов их экспертного исследования следствием и судом. Од-
нако это в большей степени относится к области методики расследования преступлений в
целом (оценка всего комплекса доказательств в их совокупности), чем непосредственно к
судебной микрообъектологии.
2 Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: курс общей теории. М., 2006. С. 164.
189
Задачи экспертного исследования микрообъектов определяются
в каждом конкретном случае ситуационно, т. е. в зависимости от об-
стоятельств дела. Вместе с тем они должны опираться на общие клас-
сификационные положения, принятые в судебной экспертизе. Реализа-
ция же их в судебной микрообъектологии как самостоятельном учении
с ярко выраженной практической направленностью, имея ввиду специ-
фику микрообъектов, требует, однако, особого рассмотрения этого во-
проса. Кроме того, в специальной литературе эти задачи представлены
весьма разнообразно и несистематизированно.
Классификация экспертных задач, определение наиболее актуаль-
ных из них основывается на данных о типичных ситуациях, в которых
микрообъекты (вещества и материалы) наиболее часто вовлекаются
в сферу события происшествия и являются искомыми по делу элемен-
тами вещной обстановки. Разработка содержания этих задач основы-
вается на имеющихся частных и типовых методиках исследования объ-
ектов. И, наоборот, на базе этих методик разрабатываются схемы
исследования объектов различной природы и алгоритмы решения ти-
повых задач1.
Первое и главное основание классификации экспертных задач — ис-
комое, которое определяется предметом доказывания и обстоятельст-
вами конкретного дела.
В общем виде экспертные задачи определяются возможностями ис-
следования объекта экспертизы и ее предметом2. Судебно-экспертные
исследования связаны с выявлением и изучением свойств и признаков
объектов, которые в результате предметно-практической и познава-
тельной деятельности позволяют установить некоторые ранее имев-
шие место события либо иные фрагменты реальности .
Нельзя сказать, что развитие представлений о классификации экс-
пертных задач прошло ряд определенных четко выраженных времен-
ными интервалами этапов, характерных, например, для формулирования
предмета криминалистики, становления теории судебной экспертизы,
теории судебной фотографии других проблемных вопросов и учений.
Многие ученые в разное время обращались к этой проблеме, кото-
рая свое развитие в отечественной криминалистике отсчитывает от ра-
боты Е. Ф. Буринского 1903 года «Судебная экспертиза документов,
1 См.: Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них.
Вып. 1.М., 1983. С. 9.
2 См.: Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россий-
ской. М., 1999. С. 129; Зинин А. М., Майлис Н. П. Судебная экспертиза: учебник. М., 2002.
С. 22.
3 См.: Аверьянова Т. В. Указ. соч. С. 163.
190
производство ее и пользование ею»1. Однако ни одно из предложений
как самой классификации, так и оснований деления задач ни в какие
времена не принимались всеми хотя бы в общем и целом. Нет единст-
ва во мнениях и сегодня. Это относится и к общей теории судебной
экспертизы и, в особенности, к теории судебной экспертизы, связанной
с микрообъектами.
Пожалуй, единственное, в чем сходятся мнения, это выделение
в качестве самостоятельного элемента классификации — идентифика-
ционной задачи. Теория криминалистической идентификации историче-
ски оказалась первой и одной из самых разработанных частных крими-
налистических теорий, выступившей не как сумма отдельных
теоретических построений, а как систематизированное знание, как упо-
рядоченная система понятий2.
Первоначально, в период становления криминалистической эксперти-
зы, все задачи были разделены на идентификационные и неидентифи-
кационные, что соответствовало общему уровню развитости теорети-
ческой базы. Однако расплывчатость термина «неидентификационные
задачи», который, в сущности, сводится лишь к определению задачи
как противоположной идентификации, привело к отказу от такого деле-
ния и послужило основанием к открытию дискуссии по классификации
экспертных задач с выделением в конечном итоге диагностики. И не
просто замены термина «неидентификационные задачи» на «диагно-
стику», а формирование теории диагностики, классификации задач уже
в ее рамках, системы методов и т. д.
С. М. Потаповым был введен термин «родовое тождество» ,
А. Р. Шляховым — «родовая (групповая) идентификация»4, другие уче-
ные использовали термины «групповая принадлежность» и «установ-
ление групповой принадлежности»5. Терминологическое разнообразие
не только не внесло какой-либо определенности, но, напротив, привело
к смешению понятий и вкладываемой в каждый из терминов смысловой
нагрузки. «Ряд криминалистов (А. Р. Шляхов и др.) продолжает придер-
живаться традиционных взглядов на существо и значение родовой
(групповой) идентификации как на один из важнейших видов и этапов
1 Буринский Е. Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование
ею. СПб., 1903. С. 281-282.
2 См.: Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 2: Частные криминалистические тео-
рии. М., 1997. С. 244.
3 Потапов С. М. Введение в криминалистику. М., 1946. С. 16.
4 Шляхов А. Р. Организация и производство криминалистической экспертизы В СССР //
Теория и практика криминалистической экспертизы. М., 1962. Вып. 9. С. 54.
Селиванов Н. А. Установление групповой принадлежности объектов в судебной экс-
пертизе // Советская криминалистика на службе следствия. М., 1961. Вып. 15. С. 81;
Эйсман А. А. Вопросы установления групповой принадлежности (родовой идентифика-
ции) в криминалистике // Проблемы судебной экспертизы. М., 1961. С. 1.
191
криминалистического отождествления. Другие ученые, не видя сущест-
венной разницы между родовой (групповой) идентификацией и уста-
новлением родовой (групповой) принадлежности (Н. А. Селиванов,
А. А. Эйсман и др.), используют в своих работах либо и тот и другой
термин на равных правах, либо термин «установление родовой (группо-
вой) принадлежности» в значении «родовая (групповая) идентификация»1.
Положение изменилось с выходом в свет двух работ В. А. Снеткова,
в которых он употребил, применительно к экспертным задачам, термин
«диагностика»2.
Современная трактовка этого термина была сформулирована Ю. Г. Ко-
руховым, который отмечал, что «криминалистическая диагностика —
это определение свойств и состояния изучаемого объекта (любого
предмета, события, явления, ситуации), установление наличия в нем
элементов отражения события, имевшего места преступления, выявле-
ние причинной связи изменений объекта (отражений в нем) с событием
преступления в целях установления истины по делу»3.
Такое широкое понятие криминалистической диагностики, включаю-
щее выяснение практически всех возможных обстоятельств рассле-
дуемого события, не привело, однако, к окончанию дискуссии. Многими
авторами предлагается более расширенный перечень видов эксперт-
ных задач.
Так, например, сам Ю. Г. Корухов предложил трехчленную класси-
фикацию, включающую классификационные, диагностические и иден-
тификационные задачи4. Такую же структуру предлагают В. Ф. Орлова,
А. Р. Шляхов5, А. М. Зинин, Н. П. Майлис6 и другие ученые.
К идентификационным задачам в такой классификации относятся
задачи, направленные на установление индивидуально-конкретного
тождества. Диагностические задачи направлены на установление при-
роды объекта, его целевого назначения, области применения; свойств
и состояния объекта, условия его возникновения, функционирования,
1 Снетков В. А. Кисин М. В. К вопросу о родовой (групповой) криминалистической
идентификации //Труды ВНИИОП. 1965. № 9. С. 18.
2 Снетков В. А. Проблемы криминалистической диагностики // Тр. ВНИИ МВД СССР.
М., 1972. Вып. 23. С. 103-106; Снетков В. А. Проблемы использования диагностики в
криминалистике // Проблемы совершенствования следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий в аспекте ликвидации преступности в СССР. Алма-Ата, 1974.
3 Корухов Ю. Г. Соотношение криминалистической диагностики и распознавания //
Криминалистические методы и средства в раскрытии и расследовании преступлений: в 2-х т.
Т. 1.М., 2006. С. 91.
4 См.: Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика в расследовании преступлений.
М., 1998. С. 68.
5 См.: Орлова В. Ф., Шляхов А. Р. Принципы классификации задач криминалистиче-
ской экспертизы //Актуальные проблемы судебной экспертизы. М., 1984. С. 49-67.
6 См.: Зинин А. М., Майлис Н. П. Указ. соч. С. 22.
192
изменения; механизма возникновения объектов, причины появления
определенных последствий, результатов и т. п. К классификационным
были отнесены задачи, решающие вопросы установления принадлеж-
ности объектов к определенному классу.
Следует отметить, что А. М. Зинин и Н. П. Майлис при этом подчер-
кивали, что классификационные задачи могут решаться не только как
самостоятельные, но и в ходе диагностических и идентификационных
исследований1. В идентификации решением классификационной зада-
чи является тот этап исследования, когда проверяемый объект относят
к определенному, заранее установленному классу объектов. В диагно-
стическом — установление того или иного обстоятельства в случае,
когда наукой заранее определен класс состояния каких-то объектов, и
состояние исследуемого объекта ему соответствует.
Подробный анализ предлагавшихся классификаций проведен
Т. В. Аверьяновой при подготовке курса общей теории судебной экс-
пертизы, в котором представлены наиболее часто встречающиеся мне-
ния2. Так, например, предлагалось классифицировать задачи:
— на идентификационные, диагностические, ситуационные, класси-
фикационные3;
— идентификационные, диагностические классификационные, диаг-
ностические задачи исследования состояния4;
— идентификационные, ситуационные, реставрационные, классифи-
кационные, диагностические5;
— идентификационные, классификационные, диагностические, рес-
титуционные, прогностические, ретроспективные6;
— идентификационные, диагностические классификационные, диаг-
ностические задачи состояния, атрибутивные (вспомогательные)7 и др.
Таким образом, наиболее часто, помимо идентификационных (кото-
рые присутствуют во всех классификациях) и диагностических задач,
встречаются классификационные и ситуационные.
1 См.: Зинин А. М., Майлис Н. П. Указ. соч. С. 23.
2 См.: Аверьянова Т. В. Указ. соч. С. 167-172.
3 См.: ВинбвргА. И., Малаховская И. Т. Судебная экспертология. Волгоград, 1984.
4 См.: Рудченко А. И. Классификация и структура решения диагностических эксперт-
ных задач, их место в системе задач судебной экспертизы // Теоретические вопросы су-
дебной экспертизы. М., 1981. Вып. 48.
5 См.: Пучков В. А. О формировании и развитии судебного материаловедения // Ре-
фераты криминалистических чтений. М., 1979. Вып. 26. С. 12.
6 См.: Толстухина Т. В. Современные тенденции развития судебной экспертизы на
основе информационных технологий: автореф. дис. ...д-ра юрид. наук. М., 1999. С. 19.
7 См.: Рудченка А. И. Классификация и структура решения диагностических эксперт-
ных задач, их место в системе судебной экспертизы // Теоретические вопросы судебной
экспертизы, м., 1993. С. 104-105.
193
Сопоставление содержания классификационных и диагностических
задач позволило Р. С. Белкину следующим образом сформулировать
свою точку зрения, «...распознавание как предпосылка диагностики
есть установление сходства с заведомо сходным объектом, включение
исследуемого объекта в ту классификационную нишу, которую занима-
ет этот известный объект, т. е. фактически классификация исследуемо-
го объекта. Не всякая диагностика суть и исключительно классифика-
ция, но зато всякое классифицирование охватывается понятием
диагностики...Так называемые классификационные задачи представ-
ляют собой разновидность задач диагностических и поэтому не требуют
выделения их в самостоятельный класс»1.
Анализ содержания тех задач, которые в литературе именуются си-
туационными, свидетельствует, что они заключаются в установлении
состояния обстановки, положения участников и других элементов рассле-
дуемого события. «Если сопоставить это содержание, — пишет Т. В.
Аверьянова, — с понятием диагноза, диагностической задачи (установ-
ление состояния, природы, признаков и т. п. объектов), то становится
очевидным, что ситуационные исследования фактически преследуют те
же цели»2.
То есть, и классификационные, и ситуационные, и диагностические
задачи несут одну и ту же смысловую нагрузку, что позволяет принять
для экспертной практики двухчленную классификацию, состоящую из
идентификационных и диагностических задач.
Мы полностью согласны с таким делением, но лишь при одном ус-
ловии: двухчленная классификация является начальной, базовой.
И в рамках диагностики, и идентификации могут быть проведены самые
разные исследования, а, следовательно, внутри них должны быть вы-
делены несколько самостоятельных задач, или подзадач, по основанию
конечной цели экспертизы.
Вне всякого сомнения, классификация объекта исследования, на-
пример, при отнесении микрообъекта к объекту волокнистой природы,
установлении вида волокнообразующего полимера по характерным
признакам и множество других в широком смысле относятся к «уста-
новлению диагноза». Однако во многих случаях это самостоятельная
экспертная задача — конечная цель исследования. То же можно ска-
зать, например, и об определении по морфологии микроосколков стек-
ла причины разрушения изделия, механизма ДТП по субстациональным
или морфологическим изменениям микрообъектов лакокрасочного по-
крытия автомобиля и т. д. — это также «диагноз», но «диагноз» специ-
1 Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 2001. С. 262.
2 См.: Аверьянова Т. В. Экспертные задачи: понятие и классификация // Известия
Тульского гос. ун-та. Тула, 2001. Вып. 4. С. 75-81.
194
фический, он констатирует ситуацию, в которой были произведены те
или иные действия и не имеет ничего общего с «диагнозом классифи-
кационным».
Классификация видов диагностики может осуществляться с учетом
характеристик предмета, объектов, методов, технических условий ре-
шения диагностической задачи. Так, по мнению А. М. Зинина и Н. П.
Майлис, по предмету может быть проведена диагностика природы,
свойств предметов; по объектам — лиц, предметов, веществ, материа-
лов, различных явлений и их отображений; по методам — почерковед-
ческая, автороведческая, трасологическая и т. д.; по техническим усло-
виям — лабораторная, полевая и т. д. Т. В. Аверьянова, в целом
соглашаясь с предложенной классификацией, предлагает заменить ме-
тод на область специальных знаний, так как в большинстве экспертиз
могут использоваться одни и те же методы (наблюдение, измерение,
описание, микроскопия и т. д.).
В литературе существуют и другие основания классификации экс-
пертных задач. Например, на основе этапности исследовательского
процесса на конечные, промежуточные и вспомогательные1.
Вопрос о классификации есть вопрос о структуре научного знания и
представляет собой систему распределения каких-либо однородных
предметов или понятий по классам, отделам и т. п. по определенным
общим признакам2. При построении научной классификации весьма
важен правильный выбор ее основания, т. е. признаков или свойств
системы, на основании которых осуществляется группировка3.
Не говоря о нецелесообразности использования имеющихся клас-
сификаций задач, которые могут быть эффективными в определенных
условиях, все они носят функциональный характер. Для практической
же экспертной деятельности, по нашему мнению, все диагностические
задачи могут быть, кроме того, дифференцированы на группы по осно-
ванию целей каждой из них. Такая классификация, во-первых, отражает
суть процесса доказывания; во-вторых, находится в логической связи
с вопросами, ставящимися на разрешение экспертизы; в-третьих, ниве-
лирует существующие разногласия, и, наконец, более удобна и понятна
как для развития научных разработок, так и для практического исполь-
зования.
В свою очередь, каждая из задач может быть подвергнута дальней-
шей дифференциации в зависимости от объекта исследовании и во-
просов, интересующих следствие. Таким образом формируется много-
1 См.: Основы судебной экспертизы. Ч. 1: Общая теория. М., 1997. С. 78-79.
2 См.: Словарь русского языка: в 4-х т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и
доп. Т. 2. М., 1984. С. 54.
3 См.: Штоф В. А. Введение в методологию научного познания. М., 1978. С. 115-116.
195
уровневая классификационная система, отражающая суть исследователь-
ского процесса и дающая возможность точно определиться с целью ис-
следования (по подобию классификации самих объектов исследова-
ния).
Классификация экспертных задач исследования микрообъектов мо-
жет быть построена по такому же принципу и на основе подчиненности
общей классификации. Это значит, что первые уровни задач для мик-
рообъектов те же, что и для всех иных видов экспертиз. Следующие,
более узкие задачи могут быть как совпадающими, так и сугубо специ-
фическими.
В настоящее время классификация экспертных задач в судебной
микрообъектологии практически не решена именно с точки зрения по-
строения системы. Обычно в работах, посвященных этому вопросу, они
приводятся в рамках простого перечисления без учета разных порядков
и уровней, что является необходимым условием в обеспечении консо-
лидации знания в целом и его отдельных элементов.
Так, например, к специальным задачам исследования микрообъек-
тов М. Б. Вандер относит «...изыскания идентификационного характера
в отношении обособленных масс веществ, источников, установление
контактных взаимодействий, определение узкой групповой принадлеж-
ности материала частиц, дифференциация объектов по времени и ус-
ловиям их использования»1. А. А. Кириченко различает следующие экс-
пертные задачи при исследовании микрообъектов: групповая или
индивидуальная идентификация, установление целого по части как
разновидность индивидуальной идентификации объектов, группофика-
ция, установление единого источника происхождения, диагностическое
исследование, ситуационное исследование, реконструкция объектов2.
На классификацию экспертных задач микрообъектологии имеются и
другие точки зрения. Так, П. П. Ищенко, разделяет идентификационные
и ситуационные задачи, в том числе и диагностические3; В. М. Бовсу-
новский и Н. И. Клименко — идентификационные, классификационные
и диагностические4; В. С. Митричев и В. Н. Хрусталев отдельно выде-
ляют задачу обнаружения микрообъектов5; Э. М. Просалова — восста-
1 Вандер М. Б. Использование микрочастиц при расследовании преступлений. СПб.,
2001. С. 155.
2 См.: Кириченко А. А. Основы судебной микрообъектологии: монография. Харьков,
1998. С. 470.
3 См.: Ищенко П. П. Специалист в следственных действиях. Уголовно-процессуальные и
криминалистические аспекты. М., 1990. С. 138.
4 См.: Клименко Н. И., Бовсуновский В. М. Микрообъекты, вещественные доказатель-
ства: метод, пособие. Киев, 1984. С. 14.
5 См.: Митричев В. С, Хрусталев В. Н. Основы криминалистического исследования
материалов, веществ и изделий из них. СПб., 2003. С. 36.
196
новление первоначального состояния объекта (реконструкционную за-
дачу)1.
В свою очередь, многие авторы придерживаются и двухчленной
классификации, включающей только идентификационные и диагности-
ческие задачи2.
Для судебной микрообъектологии остается открытым для дискуссии
и достаточно специфический аспект, связанный с возможностью от-
дельного выделения в качестве самостоятельной задачи экспертного
установления факта контактного взаимодействия объектов.
Существует и разобщенность во мнениях по отношению к задачам
для отдельных классов микрообъектов.
Из представленного, даже весьма неполного перечня задач экспер-
тизы микрообъектов, видна разобщенность мнений, отсутствие единой
классификационной системы, которая так же, как и для теории судеб-
ной экспертизы в целом, должна быть представлена в виде соподчи-
ненное™ уровней — своего рода «дерева задач».
Для решения этого вопроса попытаемся сопоставить имеющиеся
мнения и их обоснования с общей классификационной системой и по-
строить классификацию по образу и принципу последней.
Первый уровень дифференциации задач представлен двухчленной
системой. Соответственно, и микрообъекты исследуются для решения
идентификационных и диагностических задач.
Прежде чем начать рассмотрение перечисленных экспертных задач
по исследованию микрообъектов, хотелось бы определиться с задачей,
выделенной В. С. Митричевым и В. Н. Хрусталевым в качестве само-
стоятельной — задачи обнаружения микрообъектов.
Следует согласиться, что исследованию микрообъектов всегда пред-
шествует их поиск и, естественно, обнаружение, во многих случаях
в рамках экспертного исследования. Однако обнаружение микрообъек-
тов может рассматриваться как начальный этап исследовательского
процесса, но никак не отдельная конечная задача, тем более, что сам
микрообъект при этом не исследуется. В нашем анализе практики экс-
пертного исследования микрообъектов не были встречены случаи по-
становки вопросов на разрешение экспертизы о наличии микрообъек-
тов на объекте-носителе вообще. Если этот вопрос присутствует, то
всегда дополнялся следующим (следующими), например, о видовой,
родовой, групповой принадлежности. Вопрос о наличии микрообъектов
1 См.: Просалова Э. М. Теория и практика криминалистической экспертизы: учеб. по-
собие. М., 1985. С. 33-34.
2 См.: Капитонов В. Е., Кузьмин Н. М. и др. Работа с микрообъектами на месте про-
исшествия: учеб. пособие. М., 1978. С. 45; Кузьмин Н. М., Одиночкина Т. Ф. и др. Технико-
криминалистические средства собирания и опыт исследования микрообъектов: метод.
рекомендации. М., 1983. С. 30.
197
может предшествовать вопросу об их локализации на объекте-носителе,
что связано с решением ситуационной (диагностической) задачи. И так
далее. Это позволяет нам категорично утверждать об отсутствии в сис-
теме задач экспертного исследования микрообъектов самостоятельной
задачи, связанной с их обнаружением. Это всего лишь первый этап
многих исследований.
Идентификационные задачи
Рассматривать общие положения теории идентификации, очевидно,
нет необходимости, так как она не нуждается в каком-либо уточнении
или дополнении, по крайней мере, в рамках данной работы. Ограни-
чимся лишь цитатой, определяющей понятие криминалистической
идентификации.
«Под идентификацией понимается установление тождества
объекта по его проявлениям при разных обстоятельствах или от-
дельным частям; т. е. один и тот же объект понимается как тот
же самый» 1.
Теория вопроса, касающегося идентификационных экспертных ис-
следований микрообъектов, интересна с точки зрения имеющихся раз-
ночтений в терминологии и вкладываемой смысловой нагрузки в понятие
«групповой идентификации», «отождествления», а также возможности
идентификации жидких и сыпучих объектов.
Именно на этих моментах мы и акцентируем свое основное внима-
ние, как на наиболее дискуссионных.
В первую очередь следует определиться с понятиями теории иден-
тификации применительно к микрообъектам, основными из которых
можно считать идентифицируемый и идентифицирующий объекты.
Идентифицируемыми являются объекты, в отношении которых уста-
навливается тождество. Идентифицирующие — чьи свойства отражают
свойства идентифицируемого объекта.
В. С. Митричев и В. Н. Хрусталев пишут, что в идентификационных
материаловедческих исследованиях части целого, т. е. микрообъекты,
не являются ни идентифицирующими объектами, ни проявлениями
идентифицируемых объектов . С одной стороны, такое утверждение,
очевидно, верно, если рассматривать процесс идентификации по ана-
логии лишь с решением задачи установления целого объекта по частям
при его расчленении. В этом случае, действительно, обе части (или бо-
лее) расчлененного объекта, с точки зрения не их отношения к событию
преступления (например, часть, обнаруженная на месте происшествия,
и часть, изъятая у подозреваемого), а по роли в процессе получения
1 Митричев В. С, Хрусталев В. Н. Указ. соч. С. 54.
2 См.: Там же. С. 55.
198
информации, равноценны. Но если рассматривать микрообъекты как
следы преступления, то, с нашей точки зрения, они являются проявле-
ниями идентифицируемого объекта, отражают его свойства (морфоло-
гические и субстациональные), а, следовательно, являются его прояв-
лением и в полной мере отвечают понятию идентифицирующего
объекта.
Следует, однако, особо отметить, что речь идет только об индивиду-
ально определенных материальных объектах с устойчивым внешним
строением, обладающих признаком целостности, что выражается в от-
дельной от других системе качеств, выделенных из окружающей обста-
новки. И здесь уместно остановиться на вопросах материаловедческой
идентификации жидких и сыпучих объектов, т. е. не обладающих цело-
стностью и устойчивостью структуры.
При исследовании этого вопроса сыпучие и жидкие объекты рас-
сматриваются обычно в одном контексте, нам же кажется логичным их
разделить, так как и природа, и агрегатное состояние, и индивидуаль-
ная определенность их различна.
Идентификация жидких и сыпучих тел всегда рассматривалась
в трех аспектах. Первый — существует ли принципиальная возмож-
ность индивидуальной идентификации. Второй — если да, то является
ли эта идентификация криминалистической. И, наконец, третье — мо-
жет ли быть осуществлена такая идентификация практически путем
исследования признаков внутреннего строения.
А. И. Винберг указывал, что «объектами криминалистической иден-
тификации не могут являться различные вещества, жидкие и сыпучие
тела, как не имеющие определенной и стабильной формы» 1. Н. А. Се-
ливанов ставил под сомнение саму возможность индивидуальной иден-
тификации вещества2.
Так как под криминалистической идентификацией понимается только
установление тождества индивидуально-определенного объекта, то
следует определиться с тем, что за объект в этом случае подлежит
идентификации.
Сыпучие тела представляют собой некую совокупность большого
числа индивидуально определенных объектов, в большинстве случаев —
микрообъектов. Отображение этого сыпучего тела, как правило, есть
либо единичный микрообъект, либо некоторое их множество, но не от-
делившаяся твердая частица от какого-то единичного материального
образования. Процесс же идентификации предполагает установление
1 Винберг А. И. Насущные вопросы теории и практики судебной экспертизы // Сов. го-
сударство и право. М., 1961. № 6. С. 76.
2 Селиванов Н. А. Актуальные теоретические вопросы криминалистической идентифи-
кации // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1972. Вып. 15. С. 146.
199
тождества конкретного объекта (идентифицируемого), свойства которо-
го проявились в следах (в том числе и в микрообъектах, которые отде-
лились от него) и являются идентифицирующими объектами. В случае
сыпучих объектов, таким образом, отсутствуют идентифицируемый, и
как следствие, идентифицирующий объекты, что не позволяет говорить
об идентификации в криминалистическом понимании этого термина.
Справедливости ради следует заметить, что если в процессе следо-
образования сформировался микрообъект, представляющий собой не
отдельную (неразрушенную) частицу, входящую в состав сыпучего те-
ла, а часть какой-либо одной частицы, если этот следообразующий
объект был обнаружен и факт первоначальной принадлежности микро-
объекта к конкретной частице установлен, то в этом случае имеет ме-
сто идентификация. Однако идентификация не сыпучего тела, а только
лишь конкретной частицы.
Иначе обстоит дело с жидкими микрообъектами (микроколичествами
жидкости). Вполне естественно, что они могли отделиться только от
какого-либо объема также жидкого вещества (смеси веществ), который
можно рассматривать как единое целое, имеющее определенную мате-
риальную субстанцию, хотя и не имеющее устойчивой формы. Если
в процессе исследования удается выявить у обоих объектов достаточную
совокупность признаков и оценить их как практически неповторимую,
то, очевидно, можно говорить об идентификации как свершившемся
факте. Объем жидкости является идентифицируемым, микроколичест-
во жидкости — идентифицирующим объектом, так как ее свойства от-
ражают свойства объема.
Таким образом, можно констатировать, что для сыпучих тел, пред-
ставляющих собой совокупность микрообъектов идентификация невоз-
можна. Жидкие объекты могут быть идентифицированы по информа-
ции, заключенной во внутренней организации объема жидкости и
сохранившейся у отделившегося от него микроколичества.
Следующий вопрос о принадлежности идентификации микрообъек-
тов к идентификации криминалистической целесообразно рассмотреть
с позиции предложенных Р. С. Белкиным совокупности признаков, ха-
рактеризующих последнюю. Эту совокупность составляют следующие
особенности:
1. Объекты криминалистической идентификации — индивидуально-
определенные тела, обладающие устойчивым внешним строением.
2. Криминалистическая идентификация осуществляется по отобра-
жениям устойчивых свойств идентифицируемых объектов.
3. Сфера криминалистической идентификации не ограничена экс-
пертизой; принципиально криминалистическая идентификация может
200
быть осуществлена при производстве любого следственного действия
любым участником доказывания1.
Р. С. Белкин, проанализировав эти положения в приложении к веще-
ствам и материалам, делает вывод о некриминалистическом характере
такой идентификации2. Отдавая себе отчет в том, какую роль сыграл
Р. С. Белкин в отечественной криминалистике, о его вкладе в ее разви-
тии, мы все же позволим не согласиться с его мнением в этом вопросе.
Микрообъекты — вещества и материалы — являются индивидуаль-
но-определенными материальными образованиями, обладающими ин-
дивидуальными субстациональными и морфологическими признаками.
Если эти признаки в достаточной степени отображают устойчивые
свойства идентифицируемых объектов, от которых они отделились
в процессе следообразования, то по ним можно установить тождество.
Именно это качество специфично для криминалистической идентифи-
кации.
Суть идентификационного исследования в материнских науках и су-
дебной экспертизе совершенно не совпадают. Так, в органической хи-
мии под идентификацией вещества подразумевается установление его
химического состава, что в корне отличается от криминалистической
идентификации — установления тождества самому себе, выделения
одного конкретного объекта из множества сходных с ним (в том числе и
по химическому составу, строению и т. д.).
В химии, биологии, других науках идентификация предполагает ре-
шение чисто технических задач, тогда как весь процесс криминалисти-
ческой идентификации целенаправлен на выявление конкретных фак-
тов, имеющих значение для установления истины в расследуемом
деле. «Таким образом, — пишет А. И. Винберг, — криминалистическая
идентификация, как и наука криминалистика в целом, служат в первую
очередь целям правосудия. Это составляет важную и отличительную
особенность криминалистической идентификации от идентификации
в других науках. В той же связи стоит и другая особенность криминали-
стической идентификации, заключающаяся в том, что итоги ее прове-
дения должны быть выражены в регламентированных процессуальных
актах, вне которых установление тождества путем криминалистической
идентификации не будет иметь надлежащего доказательственного зна-
чения»3. Таким образом, с точки зрения общих задач судебной эксперти-
зы, исследование микрообъектов веществ и материалов в криминали-
1 См.: Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 2: Частные криминалистические тео-
рии. М., 1997. С. 267.
2 См.: Белкин Р. С. Указ. соч. С. 276.
3 Винберг А. И. Указ. соч. С. 77.
201
стических целях является задачей прямо противоположной задачам
исследования в науке химии и других естественных науках.
Это приводит к заключению, что идентификация веществ и мате-
риалов в процессе их экспертного исследования носит ярко выражен-
ную специфику, заключающуюся в использовании криминалистической
теории идентификации, отличную от идентификации в тех базовых нау-
ках, в недрах которых разработаны методики выявления свойств объ-
ектов. Отлична и конечная цель процесса — установление индивиду-
ального тождества, а не структура и состав соединений или их смесей.
Что касается третьего признака криминалистической идентификации
в представленной совокупности, отсутствие которого, например, выво-
дит идентификацию в судебной медицине из разряда таковых, то и
здесь просматривается явное соответствие идентификации веществ и
материалов криминалистической сущности процесса.
Субъектом идентификации может быть и следователь, проводящий
следственное действие, и оперативный сотрудник, выполняющий ее
при проведении оперативно-розыскных мероприятий, и специалист в ходе
проведения предварительных исследований. При наличии определен-
ных условий — это возможно.
Не следует забывать, что идентификация веществ и материалов
может быть проведена и в ходе обыска, и выемки, и при осмотре места
происшествия или вещественных доказательств, т. е. в ходе проведе-
ния любого следственного действия, а не только экспертизы, только ее
результаты будут носить не доказательственный, а ориентирующий
характер, что, впрочем, характерно и для идентификации любых других
объектов.
Указанные положения позволяют сделать однозначный вывод о крими-
налистическом характере идентификации веществ и материалов, иден-
тифицирующим объектом которой выступают микрообъекты. Это поло-
жение не меняет некриминалистической сущности экспертизы веществ
и материалов, идентификационные исследования в которых лишь один
из элементов.
Что касается третьего аспекта, связанного с возможностью практи-
ческой реализации идентификации микрообъектов, то лучшим критерием
здесь можно считать экспертную практику производства идентификаци-
онных материаловедческих исследований. На протяжении последних
50-ти лет в экспертных подразделениях успешно выполняются иденти-
фикационные экспертизы, идентифицирующим объектом в которых вы-
ступают микрообъекты самой разной природы.
Кроме того, начиная с работы В. М. Колосовой (1955 г.), в научной
литературе постоянно публикуются новые методики, позволяющие про-
водить более тонкий анализ морфологических и субстациональных
свойств микрообъектов, а значит выявлять большее число индивидуа-
202
лизирующих признаков. Современные инструментальные методы ана-
лиза дают возможность определять примеси, в том числе и случайного
происхождения, на уровне следовых количеств. Все это повышает
идентификационную значимость признаков, которые в совокупности и
формируют внутреннее убеждение эксперта при формулировании кате-
горического вывода об установлении индивидуального тождества.
Говоря об идентификационных задачах, обычно к ним относят, по-
мимо установления единичного объекта, и установление общей родо-
вой принадлежности, и общей групповой принадлежности, и источника
происхождения микрообъекта. Представляется, что такой расширенный
перечень требует некоторого уточнения и объяснения.
Под установлением общей родовой принадлежности объектов по-
нимают отнесение их к общему классификационному множеству — ро-
ду, выделенному по научно-техническим основаниям, под общей груп-
повой принадлежностью — принадлежность объектов к множеству,
сформированному с учетом специальных обстоятельств их возникно-
вения или существования1.
В самом определении данной задачи заложено некоторое противо-
речие по отношению к криминалистической идентификации. Так, группа
или род, — это определенная совокупность однородных предметов.
Соответственно, идентификации, в данном случае, должны подвергать-
ся несколько объектов. Вместе с тем «понятие криминалистической
идентификации складывалось как обозначение процесса отождествле-
ния единичного объекта2, но не группы сходных. Именно в этом видят
смысл криминалистической идентификации А. И. Винберг3, М. В. Сал-
тевский4, В. П. Колмаков5, В. С. Митричев6 и многие другие криминали-
сты7... Мы говорим о тождестве как о равенстве самому себе единично-
го индивидуально-определенного объекта...Тождество означает только
то, что объект является тем же самым. Всякая вероятность этого — не
что иное, как отнесение объекта к более или менее узкой по объему
1 См.: Комкова Е. А., Беляева Л. Д., Зайцев В. В. Экспертное исследование стекла и
изделий из него: учеб. пособие. Саратов, 2006. С. 27.
2 См.: Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россий-
ской. М., 1999. С. 144.
3 См.: Винберг А. И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе.
М., 1956. С. 36.
4 См.: Салтевский М. В. Теоретические основы установления групповой принадлеж-
ности в судебной экспертизе: автореф. дис. ...д-ра юрид. наук. Харьков, 1969. С. 11.
5 См.: Колмаков В. П. Криминалистическая идентификация как способ доказывания в
уголовном и гражданском судопроизводстве // Криминалистика и судебная экспертиза.
Киев, 1966. Вып. 3. С. 95.
6 Митричев В. С. Вопросы теории судебной идентификации // Труды ЦНИИСЭ. М.,
1970. Вып. 2. С. 111.
203
группе подобных»1. Возможно ли при указанном противоречии считать
установление общей родовой (групповой) принадлежности идентифи-
кационной задачей?
Достаточно часто установление общей родовой (групповой) принад-
лежности микрообъектов является вынужденной мерой. Если при ре-
шении идентификационной задачи индивидуализирующих признаков
в микрообъекте и идентифицируемом объекте выявлено недостаточно
для решения вопроса о тождестве, то исследование заканчивается на
стадии установления их общей родовой (групповой) принадлежности.
А. М. Зинин и Н. П. Майлис пишут: «В качестве незавершенного этапа
идентификации можно рассматривать исследование, позволяющее ус-
тановить не индивидуально-определенный объект, а лишь целый ряд
объектов, составляющих группу»2.
Но, задачи, имеющие своей целью установление характеристик
(свойств) неизвестного или известного объекта для отнесения его к об-
щепринятому классу (роду, группе) на основе сравнения его признаков
с признаками класса, рода, группы объекта (а не с признаками единич-
ного конкретного объекта, как это имеет место при идентификации),
традиционно относят к классификационным. Это приводит к выводу,
что задача по установлению общей родовой (групповой) принадлежно-
сти рассматривается только лишь как этап идентификационного иссле-
дования — классификация группы объектов, но не криминалистическая
идентификация. Следует заметить, что классификация всегда предше-
ствует установлению единичного материально-определенного объекта,
т. е. решению идентификационной задачи. Действительно, для того
чтобы установить тождество между микрообъектом и конкретным объ-
ектом по соответствующим признакам видовой, родовой и групповой
принадлежности, необходимо установить вид, род, группу микрообъекта —
классифицировать его — и только после этого устанавливать тождество.
На ранних этапах развития судебной материаловедческой эксперти-
зы классификационные основания были заимствованы из других облас-
тей знаний, в первую очередь, построенных по основанию комплекса их
технологических свойств, предусмотренных ГОСТ или целевым назна-
чением. Несоответствие же научно-технических классификаций объек-
тов задачам их экспертного исследования привело к определенным
трудностям в решении задач уголовного судопроизводства. Непремен-
ным условием решения классификационной задачи в судебной экспер-
тизе является наличие разработанной классификационной структуры
микрообъектов, учитывающей разноуровневый порядок выделения ус-
танавливаемого множества. Начальные уровни такой системы приве-
1 Белкин Р. С. Указ. соч. С. 272.
2 Зинин А. М., Майлис Н. П. Указ. соч. С. 23.
204
дены в первой главе работы, более узкие же могут быть разработаны
только с учетом особенностей конкретного вида микрообъектов. На-
пример, родовая и групповая дифференциация микроволокон отлича-
ется от соответствующей для микрочастиц стекол или лакокрасочного
покрытия. Это очевидно, ведь как сами признаки, так и их совокупность
для каждого вида микрообъектов будут различны.
Особого внимания при рассмотрении идентификационных задач су-
дебной микрообъектологии заслуживает теория и методология экспер-
тизы по установлению факта контактного взаимодействия объектов.
Эти вопросы исследовались в работах Г. Л. Грановского1, 3. А. Коваль-
чука2, В. С. Митричева3, В. Ф. Орловой4, В. А. Пучкова5 и др. Проблем-
ными можно считать несколько положений. Во-первых, существует ли
такая экспертная задача как самостоятельная или ее выделение не-
обоснованно; во-вторых, относится ли она к задаче идентификации,
имеет ли диагностический характер или самостоятельное значение;
в-третьих, характер специальных знаний эксперта, выполняющего ис-
следования по установлению факта контактного взаимодействия.
Особенность процесса контактного взаимодействия объектов, с точ-
ки зрения следообразования, заключается в том, что следообразующий
объект не только отображается на следовоспринимающем, но и сам,
в свою очередь, фиксирует на себе следы от следовоспринимающего
объекта, который, таким образом, приобретает качества следообра-
зующего. Это происходит всегда, даже если на одном или обоих объек-
тах следы взаимодействия не обнаружены. Так, например, при контакте
пальца руки с поверхностью, которую традиционно называют следо-
воспринимающей, на ней отображается след в виде наслоения потожи-
рового вещества, но и на палец переходят частицы поверхности. Это
могут быть следовые количества вещества, даже некоторое количество
1 См.: Грановский Г. Л. Некоторые теоретические проблемы установления факта кон-
тактного взаимодействия // Криминалистическое исследование контактно-взаимодействова-
ших объектов. М., 1982. С. 17-23.
2 См.: Берзин В. Ф., Ковальчук 3. А., Меленевская 3. С. Установление факта контакт-
ного взаимодействия объектов (критический анализ экспертного исследования) // Крими-
налистика и судебная экспертиза. Киев, 1991. Вып. 43. С. 42-50.
3 См.: Митричев В. С, Таран М. Н. Основные положения экспертизы в целях установ-
ления факта контактного взаимодействия элементов вещной обстановки // Вопросы тео-
рии и методики экспертизы в целях установления факта контактного взаимодействия
элементов вещной обстановки. М., 1978. С. 3-29.
4 См.: Орлова В. Ф., Беляева Л. Д. Криминалистическая экспертиза факта контактного
взаимодействия элементов вещной обстановки места происшествия // Криминалистиче-
ское исследование контактно-взаимодействоваших объектов. М., 1982. С. 9-17.
5 См.: Пучков В. А. О методическом обеспечении исследования контактного взаимо-
действия элементов типовых ситуаций по уголовным делам // Актуальные вопросы су-
дебно-экспертного исследования материалов, веществ и изделий. М., 1983. С. 44-55.
205
молекул, которые не сможет «уловить» ни один аналитический прибор,
но перенос вещества (след) присутствует и в этом процессе. Традици-
онно же об установлении факта контактного взаимодействия говорят
только в случае выявленного взаимного следообразования.
В условиях контактно-следового взаимодействия объекты следооб-
разования выступают одновременно и как следообразующие, и как
следовоспринимающие, образуя единую динамическую систему, кото-
рая приобретает новые информационные качества. Контактное взаи-
модействие реализуется на основе приема-передачи вещества и энер-
гии, а, следовательно, информации.
Вопрос о возможности отнесения экспертизы по установлению фак-
та контактного взаимодействия объектов к идентификационной задаче
может быть решен следующим образом. Как видно из механизма сле-
дообразования, контактное взаимодействие как предмет познания име-
ет структуру, включающую в себя признаки следующих объектов:
— первый элемент вещной обстановки;
— второй элемент вещной обстановки;
— механизм взаимодействия первого и второго элементов вещной
обстановки;
— внешняя среда;
— механизм взаимодействия первого элемента вещной обстановки
с внешней средой;
— механизм взаимодействия второго элемента вещной обстановки
с внешней средой1.
Сформировавшиеся в результате контактного взаимодействия сле-
ды несут информацию:
— о первом элементе вещной обстановки по следам на втором;
— втором элементе вещной обстановки по следам на первом;
— внешней среде по следам на первом и втором элементах.
Вероятность возникновения ситуации, когда бы все три элемента
системы контактного взаимодействия имели бы однородную субстаци-
нальную природу, можно оценить как приближающуюся к нулю. А это
значит, что в контактном взаимодействии в своеобразное единое целое
объединены вещества и материалы различной природы и состава.
Таким образом, если на втором элементе вещной обстановки сохра-
нились следы первого, имеющие достаточное количество признаков
для его идентификации, то можно говорить об идентификации первого
элемента по следам на втором. Это же относится и ко второму элемен-
ту вещной обстановки. С точки зрения экспертной технологии исследо-
вание следов контактного взаимодействия можно представить как ряд
1 См.: Митричев В. С, Таран М. И. Указ. соч. С. 3-29.
206
самостоятельных этапов, результаты которых впоследствии синтези-
руются:
— идентификация первого элемента вещной обстановки по следам
на втором;
— идентификация второго элемента вещной обстановки по следам
на первом;
— идентификация элементов внешней среды и др.1
Информационное значение сформировавшейся при контакте объек-
тов системы и синтеза ее отдельных элементов можно рассмотреть как
механизм взаимодействия информационных сигналов. В теории ин-
формации принято считать, что при появлении нескольких доказа-
тельств или же признаков идентифицирующих объектов происходит
прирост количества информации, содержащихся в доказательствах,
признаках и т. д., но не простым суммированием, а по закону «квадра-
тичного эффекта» — взаимного усиления когерентных сигналов. Суть
его состоит в том, что при взаимодействии последних мощность сум-
марного сигнала становится больше суммы мощностей отдельных сиг-
налов на величину, называемую мощностью когерентных сигналов2.
Это значит, что оценка экспертом выявленного комплекса совпа-
дающих признаков в следе и элементе вещной обстановки в первом
исследовании в совокупности с результатами второго позволяет рас-
сматривать этот комплекс как неповторимый и достаточный для инди-
видуализации обоих объектов. Причем, учитывая квадратичный эффект
суммы информации, в некоторых случаях каждый из элементов может
быть установлен не индивидуально, а даже на уровне групповой при-
надлежности.
При контактном взаимодействии объектов происходит не только
взаимный перенос микрообъектов веществ и материалов, хотя в боль-
шей степени это относится именно к ним, но и образуются традицион-
ные трасологические следы, повреждения тканей человека и т. д. Это
предопределяет необходимость решения задачи по установлению фак-
та контактного взаимодействия с использованием всех видов информа-
ции, получаемой в процессе комплексного материаловедческого, тра-
сологического, судебно-медицинского и других исследований.
Особую группу объектов идентификации составляют индивидуаль-
но-определенные источники происхождения, под которыми В. С. Мит-
ричев понимал:
— конкретный целый предмет, части которого обнаружены в связи
с определенными обстоятельствами дела;
1 См.: Митричев В. С, Хрусталев В. Н. Указ. соч. С. 79.
2 См.: Гвахария О. Г. О некоторых применениях теории информации и теории игр
в криминалистике: автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 1980. С. 10.
207
— определенное количество однородных предметов, которое по на-
личию в них случайных для данных обстоятельств дела признаков от-
личается от другой массы предметов того же рода, но имеющей иное
происхождение;
— предприятие-изготовитель или место произрастания, или место
переработки;
— определенную массу жидкости или сыпучего тела1.
Вне всякого сомнения, первый источник (конкретный целый предмет)
при наличии отделившихся от него микрообъектов является объектом
идентификации — решается задача: от какого конкретного объекта про-
изошел данный микрообъект.
Невозможность проведения идентификационных исследований сы-
пучих тел мы уже отмечали — у сыпучей массы отсутствует индивиду-
ально определенный объект, и исследование ограничивается установ-
лением родовой (общей родовой) или групповой (общей групповой)
принадлежности совокупности микрообъектов (сыпучего тела).
Рассмотрен нами и второй из источников — установление общей
родовой (групповой) принадлежности объектов.
Установление предприятия-изготовителя основано на использова-
нии системы классификации объектов, заложенных в требованиях
стандартов, технических условий, ассортиментных перечней. Как пра-
вило, такое экспертное исследование носит комплексный характер, так
как требует использования товароведческих или технологических зна-
ний (рецептурных параметров, вариационных признаков производст-
венно-технологических особенностей и др.), знаний об ассортименте
продукции, реализуемых по результатам установления комплекса мор-
фологических и субстациональных признаков микрообъектов. По своей
методологической основе эта задача ничем не отличается от установ-
ления общей родовой (групповой) принадлежности объектов, но не как
промежуточная, а как конечная цель.
Подводя итог идентификационным задачам по исследованию мик-
рообъектов (или их этапам), можно выделить следующее резюмирую-
щее положение. При выявлении достаточного комплекса признаков
микрообъекта (в том числе и микроколичеств жидкости и некоторого
объема), индивидулизирующего его, и установлении совпадения с тем
же комплексом признаков идентифицируемого объекта в полном соот-
ветствии с учением о криминалистической идентификации можно говорить
о решении задачи индивидуальной идентификации. К этой же задаче
относится и установление источника происхождения микрообъекта по
1 Митричев В. С. К вопросу об установлении источника происхождения вещественных
доказательств с помощью криминалистической экспертизы // Советская криминалистика
на службе следствия. М., 1961. Вып. 15.
208
отношению к объекту, от которого он был образован (отделен). Задача
по установлению факта контактного взаимодействия объектов по всем
основаниям относится к идентификационной задаче. Идентификация
сыпучих объектов по микрообъектам принципиально невозможна, так
как отсутствует идентифицируемый объект, хотя возможно установле-
ние общей родовой (групповой) принадлежности частиц. Задачи уста-
новления общей родовой (групповой) принадлежности, выделяемые как
идентификационные, являются, по сути, незавершенными идентифика-
ционными исследованиями, его этапами.
Диагностические задачи
Диагностика опирается на закономерности процесса изменения объ-
екта в определенных ситуациях, его природы, свойств и отношений
с другими объектами. Она позволяет не только вычленить данный объ-
ект познания из всего многообразия вещей, явлений, отношений, но и
показать его связи с другими объектами, с внешней средой1.
Каждая предметная наука разрабатывает свои специфические ме-
тоды, методики и системы диагностических признаков на базисе общих
теоретических положений теории диагностики. Более того, в каждом
классе, роде, виде экспертиз имеются свои, порой специфические за-
дачи, количество которых значительно превышает идентификацион-
ные. Совокупность этих задач, как общих, так и родовых (видовых), яв-
ляется основой для создания системы диагностических свойств класса,
рода, вида, иными словами — построения иерархической структуры
признаков, характеризующих эти свойства2.
Основные понятия, необходимые для развития представлений о за-
дачах диагностических исследований микрообъектов, могут быть выве-
дены из предложенных Н. П. Майлис общих определений теории кри-
миналистической диагностики3.
Предметом диагностических исследований микрообъектов выступа-
ют закономерности отображений свойств предметов в отделившихся от
них микрообъектах, позволяющих определять их состояние и характер
изменений, внесенных в процессе совершения преступления.
Объект — совокупность свойств предмета и связанных с ним родо-
вых и групповых признаков микрообъекта, исследование которых осу-
ществляется с учетом механизма взаимодействия и соотношения раз-
личных связей, возникающих в процессе события преступления.
1 См.: Корухов Ю. Г. Роль диагностики в следственной и экспертной практике // Ин-
форм. бюллетень по материалам криминалистических чтений «Значение диагностики в
следственной и экспертной практике. М., 2004. № 25. С. 5.
2 См.: Майлис Н. П. Диагностика: система понятий // Новые разработки и дискуссион-
ные проблемы теории и практики судебной экспертизы. М., 1985. С. 1-6.
3 См.: Там же. С. 1-6.
209
Ранее мы уже отмечали, что диагностические задачи включают в себя
достаточно большой перечень отдельных задач, из которых для микро-
объектов можно выделить следующие, наиболее часто встречающиеся
в экспертной практике1. В первую очередь, это собственно диагности-
ческие. Основу решения многих из них составляет классификация объ-
ектов в соответствии с обстоятельством или состоянием.
В диагностике так же, как и в идентификационном исследовании
(в качестве начального этапа), может быть выделена задача по уста-
новлению родовой (общей родовой) принадлежности объекта(ов). Она
связана с установлением обстоятельства в случае, когда наукой зара-
нее определен класс состояний каких-либо объектов2. При диагности-
ровании применяется метод сравнения в отношении конкретного част-
ного с некоторым классом объектов в целях установления природы
объектов3, т. е. отнесения их к одному выделенному множеству. Даль-
нейшая классификация может быть обозначена как диагностическая,
проводимая не по признакам объекта, а по его состоянию. Например,
различные по природе микроволокна со следами термического воздей-
ствия.
Несмотря на схожесть терминологии, в обоих видах исследований
(классификационные задачи) эти задачи отличаются, в первую оче-
редь, по своей гносеологической сущности — различии объектов срав-
нения в их связи с расследуемым событием. Подобно тому, как в кри-
миналистической идентификации участвуют два вида объектов —
идентифицируемый и идентифицирующий, в диагностическом эксперт-
ном исследовании участвуют также два вида — диагностируемый и ди-
агностирующий4, но их взаимосвязь друг с другом принципиально раз-
лична. Так, по следам (идентифицирующий объект) идентифицируется
объект, связь которого с событием преступления устанавливается. На-
пример, по частице лакокрасочного покрытия, обнаруженного на одеж-
де пострадавшего при ДТП (идентифицирующий объект), устанавлива-
ется конкретный автомобиль (идентифицируемый объект), от которого
эта частица предположительно отделилась. При диагностике же связь
с событием имеет диагностируемый объект, а диагностирующие его
объекты такой связи не имеют. Например, при выявлении взаимопро-
1 В каждом конкретном случае, в соответствии со способом совершения преступле-
ния, следственной ситуацией, вопросами, интересующими следствие, могут возникать и
достаточно эксклюзивные задачи. Однако, их вариаций может быть настолько много, что
предугадать и рассмотреть все их многообразие не представляется возможным. По этой
причине мы остановимся лишь на наиболее типичных из них.
2 Зинин А. М., Майлис Н. П. Указ. соч. С. 23.
3 Корухов Ю. Г. Указ. соч. С. 5.
4 Аверьянова Т. В. Указ. соч. С. 424.
210
никновения слоев в лакокрасочном покрытии автомобиля (диагности-
руемый объект) устанавливают, что это могло произойти в результате
динамического удара, сопровождающегося повышением температуры,
а по характеру — что такое взаимопроникновение присуще установлен-
ному ранее классу микрообъектов ЛКП сформировавшим свою внут-
реннюю структуру в результате ДТП (диагностирующий объект). В диаг-
ностике сущность микрообъекта, который находится в определенной
связи с исследуемым событием, устанавливается его сравнением с объ-
ектами или их отображениями, заведомо не связанными с событием
преступления. «Необходимым условием диагностирования является
наличие классифицированных знаний об объектах, накопленных науч-
ным или опытным путем и не связанных общим происхождением с объ-
ектом, подлежащим распознаванию» 1.
Еще одно отличие связано с этапностью и завершенностью иссле-
дования. Если при идентификации установление совпадений совокуп-
ности общих признаков является лишь начальным ее этапом, то при
диагностике этот результат свидетельствует о завершении исследования2.
Здесь следует сказать несколько слов о задаче по установлению
факта контактного взаимодействия, которая ранее нами была отнесена
к идентификации. Взаимоперенос микрообъектов веществ и материа-
лов, их количество и локализация, происходит в строгой зависимости от
механизма контакта, определяется им и отображает его. Это значит,
что решив идентификацию обоих контактировавших предметов, изучив
локализацию микрообъектов на них, возможно установить и механизм
взаимодействия, а это уже диагностическая задача (обычно ситуацион-
ная). Это положение определяет задачу по установлению факта кон-
тактного взаимодействия как носящую интегративный характер, что вы-
ражается в решении двуединой задачи — с одной стороны, это
идентификация, причем одновременно двух контактировавших объек-
тов, но с другой — диагностика. Несмотря на кажущееся противоречие
с положением о связи диагностируемого и диагностирующего объекта
с событием преступления, его здесь нет. Так же, как и в традиционном
диагностическом исследовании, механизм события устанавливается по
перешедшим микрообъектам (диагностируемый объект), а диагности-
рующим выступает установленная закономерность формирования их
локализации в зависимости от механизма.
1 ЗининА. М., МайлисН. П. Указ. соч. С. 122.
2 См.: Дубровин С. В. Криминалистическая диагностика. М., 1989. С. 14.
211
В системе диагностических задач может быть выделена еще одна
самостоятельная задача, связанная с воссозданием исследуемого со-
бытия — ситуационная. По своей сущности ситуационные задачи ис-
следования микрообъектов как никакие другие имеют характер интег-
рирующий, объединяющий различные области экспертного знания.
Во многих случаях решение ситуационной задачи связано с установле-
нием факта контактного взаимодействия. Установление причины раз-
рушения, в результате которого образовался микрообъект, как правило,
носит комплексный характер совместно с трасологической экспертизой.
Так, Ю. Г. Корухов отмечает, что для уяснения механизма явления, ис-
следуемого в диагностической экспертизе, требуется комплексное ре-
шение вопросов, относящихся как к генетической, так и функциональ-
ной связям1.
Отдельно можно выделить задачи по установлению целевого назна-
чения изделия, от которого в процессе совершения преступления отде-
лился микрообъект; причин (механизма) разрушения; способа произ-
водства источника микрообъекта, решение которого основано на
использовании системы классификации объектов, заложенных в требо-
ваниях стандартов, технических условий, ассортиментных перечней. Как
правило, такое экспертное исследование носит комплексный характер,
так как требует использования товароведческих или технологических
знаний (рецептурных параметров, вариационных признаков производ-
ственно-технологических особенностей и др.), знаний об ассортименте
продукции, реализуемых по результатам установления комплекса мор-
фологических и субстациональных признаков микрообъектов.
Однако, если для экспертизы веществ и материалов в макроколиче-
ствах эти задачи относятся к распространенным, то при исследовании
микрообъектов их решение носит в большей степени желаемый харак-
тер. Как правило, в микрообъекте отсутствует достаточный для этого
комплекс признаков.
Связь экспертных задач исследования микрообъектов в общей сис-
теме, их последовательное решение при переходе от одной к другой
представлена на рисунке 20.
1 См.: Корухов Ю. Г. Формы связи доказателственных фактов, установленных трасо-
логической экспертизой // Проблемы и практика трасологических и баллистических ис-
следований. М., 1976. Вып. 17. С. 23.
212
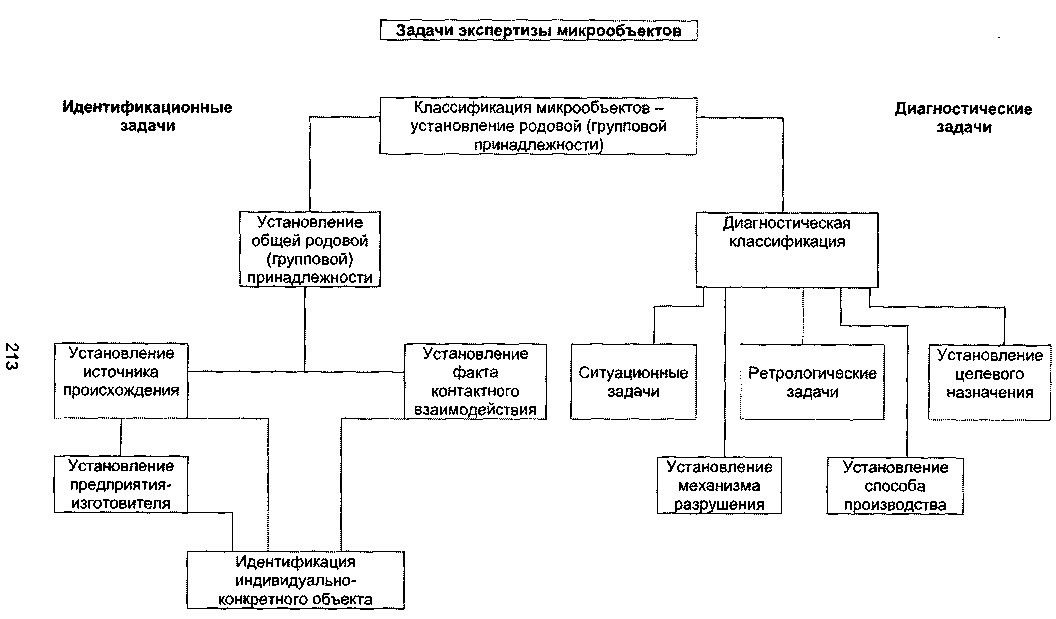
Рис. 20. Классификация экспертных задач по исследованию микрообъектов
Приведенный перечень экспертных задач по исследованию микрообъ-
ектов не является исчерпывающим — такого разработано быть не может,
так как уникальность каждой следственной ситуации предопределяет воз-
можность постановки и других задач, может быть, даже в каком-то смысле
уникальных. Однако общие положения могут служить основой для
творческого подхода к их решению. Большинство задач взаимосвязаны
друг с другом, решение одной является исходным пунктом для сле-
дующей. Представленная система построена таким образом, что дает
возможность органичного подключения новых элементов в соответст-
вии с уровнем развития экспертной техники и потребностей практики.
Классификация экспертных задач есть не что иное, как определение
в самом общем виде направления исследовательского процесса, ре-
зультат которого направлен на установление обстоятельств, интере-
сующих следствие. В экспертной практике общие задачи преобразуют-
ся в форму их конкретной реализации в определенном виде судебной
экспертизы. В связи с этим приобретает значение установление взаи-
мосвязи экспертных задач с характером исследуемых объектов, т. е.
с определенными их классами, родами и группами. Для каждой экс-
пертной задачи должен быть очерчен круг классификационных мно-
жеств и единичных или конкретных объектов, в отношении которых
данная задача может быть поставлена и решена. Фактически это означает
определение для каждой общей экспертной задачи подчиненных ей
частных подзадач. Именно смысл последних определяет круг вопросов
в постановлении о назначении экспертизы. Таким образом формирует-
ся определенная система, объединяющая в различной степени сопод-
чиненное™ классификационные множества объектов исследования,
частные и общие экспертные задачи.
Взаимосвязь экспертных задач с классификационными множествами
объектов, в том числе и с единичными и индивидуально определенны-
ми объектами, выражается:
— в связи каждой задачи с классификационными множествами объ-
ектов и единичными и индивидуально определенными объектами;
— отношениях между предметами (объектами) — элементами вещ-
ной обстановки расследуемого события: отношениями тождества и
различия, пространственных, временных, причинно-следственных;
— субординации задач различных классов, родов, видов; в том чис-
ле и степени самостоятельности задач;
— цели решения экспертной задачи и подзадачи;
— общем подходе к решению задачи с указанием комплексного ха-
рактера решения и перечислением соответствующих смежных и част-
ных подзадач;
— общем способе решения задач через выделяемые признаки1.
1 См.: Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них:
метод, пособие. М., 1983. Вып. 1. С. 69-70.
214
Для определения схемы решения частных экспертных задач, в том
числе их постановки, структуры, субординации, цели и общего способа
решения, таким образом, необходимо определиться с принципом диф-
ференциации объектов исследования внутри каждого класса в соответ-
ствии с уровнями конкретизации задач.
Решение и диагностических, и идентификационных задач в отношении
микрообъектов основывается на исследовании их морфологических
особенностей внутреннего и внешнего строения, состава и свойств.
Однородные по природе свойства микрообъектов образуют определен-
ные информационные поля1 (морфологическое и субстациональное],
которые в совокупности формируют информационное пространство .
При этом для решения экспертных задач имеют значение не столько
отдельно взятые признаки и свойства микрообъектов, сколько выяв-
ленные взаимосвязи между ними. Например, качественный и количест-
венный состав вещества или материала (что имеет решающее значе-
ние при идентификации вещества или материала в химии) в судебной
микрообъектологии не всегда может быть определяющим при установ-
лении родовой и групповой принадлежности микрообъекта без учета
его морфологических особенностей и наоборот, так как его строение и
состав находятся во взаимосвязи друг с другом. Этот принцип характе-
рен для всех микрообъектов, относящихся к веществам и материалам.
Решение любой экспертной задачи по исследованию микрообъектов
можно представить как последовательность операций, направленных
на выявление в объекте (объектах) исследования определенного ком-
плекса признаков и их сравнение с известными, что позволяет отнести
их к определенным классификационным категориям или отождествлять
на более высоком уровне. Если этот комплекс ограничен обязательны-
ми, закономерными для данного рода объектов признаками, то реше-
ние задачи ограничивается установлением родовой принадлежности
объекта или общей родовой принадлежности. Если же наряду с обяза-
тельными открыты и признаки случайного происхождения, то можно
вести речь о решении задачи по установлению узкой групповой либо
общей групповой принадлежности.
Криминалистическая идентификация также основана на методе
сравнительного исследования, но идентификационных признаков —
«в основе процесса криминалистической идентификации лежит сравне-
ние совокупности идентификационных признаков, качественная оценка
совпадений и различий сравниваемых признаков и их отображений на
идентифицирующих объектах или установление объекта по его частям»3.
В теорию экспертной идентификации понятие идентификационного поля ввел А. А.
Эйсман в 1967 г.
2 См.: Митричев В. С, Хрусталев В. И. Основы криминалистического исследования
материалов, веществ и изделий из них. СПб., 2003. С. 12.
3 ВинбергА. И. Криминалистика. Разд. 1. Введение в науку. М., 1962. С. 79.
215
В соответствии с методологией диагностического и идентификаци-
онного исследований, которая имеет общую сущность, вначале выяв-
ляются родовые, затем групповые, и, наконец, индивидуальные признаки.
Сопоставляя эти признаки с признаками, характерными для определен-
ных классификационных категорий, решается задача по установлению
конкретной родовой или групповой принадлежности, индивидуального
тождества. Многоступенчатый характер исследования, обусловленный
многократным переходом от множества большего объема к множеству
наименьшего объема, при наличии системы частных признаков приво-
дит к выделению из последнего индивидуально определенного объекта.
Коллективом авторов методического пособия для экспертов по ис-
следованию волокнистых материалов и изделий из них предложена
иерархия подразделений множеств объектов, основанная на понятии
«порядок рода» и «порядок группы». В этом построении род 1-го поряд-
ка является начальным и выделяется по наиболее распространенному
качеству или свойству и их выражению в признаке. Род 2-го порядка —
производный от рода 1-го порядка по какому-то новому качеству или
свойству охватывает множество объектов, определяемое совокупно-
стью двух качеств или свойств. Род 2-го порядка уже рода 1-го порядка.
Род 3-го порядка — производный от рода 2-го порядка по следующему
качеству или признаку и так далее1.
Принцип выделения групп объектов аналогичен. Точно так же в клас-
сификацию вводятся понятия «порядков группы» и соответствующие
определения. Группа 1-го порядка является исходной при установлении
групповой принадлежности, группа 2-го порядка — производной от нее
по какому-либо новому, независимому качеству или свойству и т. д.2
Принципиально отличаются лишь основания выделения групп объек-
тов, которые имеют более узкую распространенность и специфичны
для более ограниченного круга объектов. Особое значение имеют при-
знаки, сформировавшиеся в процессе эксплуатации изделия, изготов-
ленного из исследуемого вещества или материала, или уникальное со-
четание веществ или материалов, которые в большинстве случаев
относятся к случайным. При наличии таких признаков возможно уста-
новление групповой принадлежности микрообъекта более высокого по-
рядка и сужение множества до индивидуально-определенного объекта,
т. е. до индивидуальной идентификации.
Принципиально путь решения диагностических и идентификацион-
ных задач исследования микрообъектов может быть представлен в виде
схемы, учитывающей соподчиненность каждого этапа и их иерархию.
Принцип решения экспертной задачи по исследованию микрообъектов
может быть продемонстрирован на примере установления общей родо-
1 См.: Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них:
метод, пособие. М., 1983. Вып. 1. С. 60.
2 См.: Там же. С. 62.
216
вой (групповой) принадлежности микрообъекта и возможного источника
его происхождения при наличии нескольких объектов сравнения (рис. 21).
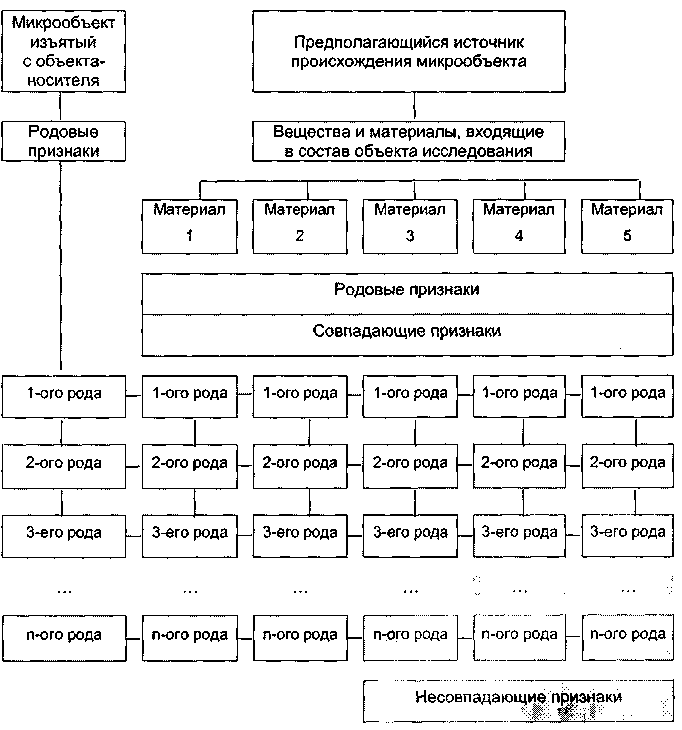
Рис. 21. Принцип решения задачи по установлению общей родовой принадлежности
микрообъекта и веществ и материалов, входящих в состав
предполагаемого источника его происхождения
217
Задача имеет комплексный характер. В качестве промежуточных
этапов ее решения можно выделить:
— установление родовой (групповой) и общей родовой (общей груп-
повой) принадлежности микрочастиц, отделившихся от контактировав-
ших объектов и материалов самих объектов;
— установление пространственных характеристик исследуемого
факта — топография взаиморасположения частиц;
— характер и механизм разрушения объектов.
В приводимом примере описана схема решения только первого эта-
па как наиболее соответствующего материаловедческому исследова-
нию микрообъектов, что интересует нас в первую очередь.
Первый этап решения в общем виде сводится к последовательному
сравнению родовых признаков микрообъекта, который был обнаружен
на объекте-носителе (например, внешних признаков, устанавливаемых
путем непосредственного наблюдения; признаков способа производст-
ва, вида в соответствии с научно-технической классификацией и т. д.),
с теми же признаками веществ и материалов, входящих в состав изде-
лия, от которого предположительно был отделен исследуемый микро-
объект. При этом устанавливается общая родовая принадлежность по
1-му порядку, 2-му порядку и т. д. Дальнейшему исследованию подвер-
гаются только те вещества и материалы, которые имеют совпадающие
признаки, то есть между ними и микрообъектом установлена общая ро-
довая принадлежность (при условии, что эти различия принципиальны).
В представленной схеме такими объектами выступают материал 1 и 2,
так как между остальными из них и микрообъектом уже на стадии уста-
новления общей родовой принадлежности выявлены принципиальные
отличия и нет необходимости в дальнейшем сравнительном исследо-
вании.
Схемы последующих этапов (установление общей групповой при-
надлежности микрообъекта с материалом, входящим в состав источни-
ка объектов сравнения) аналогичны представленной: происходит по-
следовательное сужение сравниваемых с микрообъектом множеств
веществ и материалов.
Данную схему можно проиллюстрировать на примере экспертного
исследования по решению задачи установления общей родовой (груп-
повой) принадлежности объектов: микрочастицы лакокрасочного по-
крытия автомобиля и сравниваемых покрытий автомобилей, от которых
эта микрочастица могла быть отделена (при условии отбора сравни-
тельных образцов вблизи места отделения исследуемого микрообъекта)
(рис. 22).
218
1. Установление родового признака первого рода.
Признак первого рода — отправной в данном исследовании и выде-
ляется по самому общему основанию, кроме того, наиболее просто вы-
являемому. В большинстве случаев этим признаком является цвет
микрообъекта. На данном этапе выделяются объекты сравнения, сов-
падающие с микрообъектом по спектральным характеристикам.
Сравнительное исследование цвета микрообъекта и объектов в дан-
ном случае показало, что объект 5 хотя и близок по цвету с микрообъ-
ектом, но имеет несколько иной оттенок (рис. 23). Несовпадение при-
знака 1-го рода дает основание исключить объект 5 из дальнейшего
исследования.
2. В качестве родового признака 2-го рода может быть выбрана по-
слойная морфология частиц, выявляемая в ходе микроскопического
исследования шлифов образцов в видимой зоне электромагнитного
спектра.
Из иллюстраций (рис. 24) видно, что сравнительный образец ЛКП
№ 4 имеет большую суммарную толщину слоев, а также иную морфо-
логию. Это дает основание для вывода об отсутствии общей родовой
принадлежности исследуемого микрообъекта и четвертого образца
сравнения.
Выявленные признаки (цвет и морфология) относятся к родовым.
Для исследования групповых признаков необходимо выявить следую-
щие более специфические из них, которые могут указывать на отклоне-
ния от стандартной технологии получения.
3. Установление группового признака первого рода.
Таким исследованием может быть изучение характера люминесцен-
ции ЛКП при облучении их УФ-светом. При этом различные нераство-
ренные в лакокрасочном материале добавки могут иметь различные
характеры распределения, отличаться интенсивностью свечения и
спектральными характеристиками люминесценции.
Люминесцентный анализ образцов ЛКП в данном примере (рис. 25)
позволил выявить:
— достаточно близкие характеры люминесценции всех исследуемых
эмалей (верхний слой);
— схожие по интенсивности и характеру люминесценции грунтовок,
входящих в состав исследуемого микрообъекта и второго сравнитель-
ного образца;
— некоторые отличия в интенсивности люминесценции вкраплений
грунтовки третьего образца ЛКП.
219
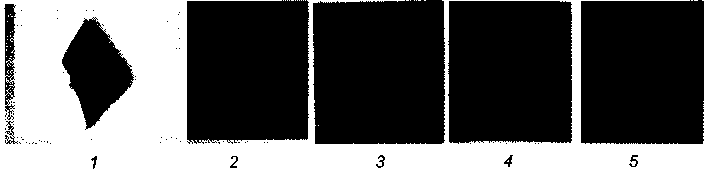
1 — исследуемый микрообъект (увеличение 96х); 2, 3, 4, 5 — объекты сравнения
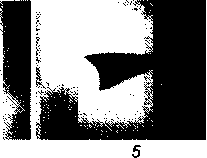

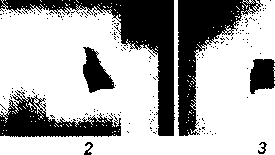
2, 3, 4 — частицы ЛКП, совпадающие по цвету с микрообъектом;
5 — частица ЛКП близкая, но не совпадающая по цвету с микрообъектом
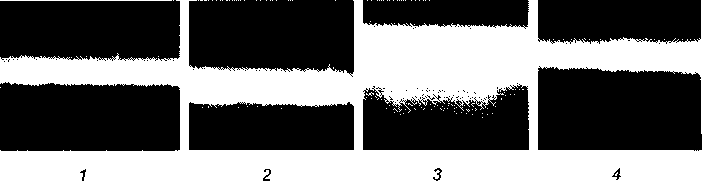
Рис. 24. Шлифы образцов ЛКП: 1 — исследуемый микрообъект;
2,3, 4 — образцы сравнения
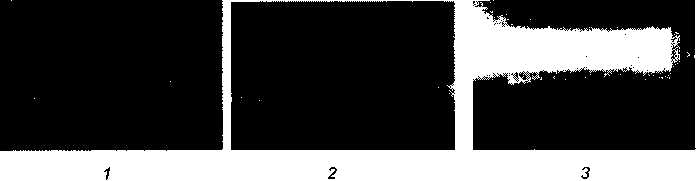
Рис. 25. Характер люминесценции шлифов ЛКП:
1 — исследуемый микрообъект; 2, 3 — образцы сравнения
220
До этого этапа исследования выявлялись признаки морфологическо-
го характера, образующие морфологическое информационное поле.
Для обоснованного же вывода по результатам экспертизы необходимо
формирование информационного пространства, в которое помимо мор-
фологического поля входит и поле субстациональное.
Для подтверждения факта отсутствия общей групповой принадлеж-
ности микрообъекта и третьего образца, а также для установления об-
щего источника происхождения (наличия общей групповой принадлеж-
ности) микрообъекта и второго сравнительного образца необходимо
проведения исследования, направленного на установление элементного,
функционального или иного состава исследуемых объектов. Для частиц
ЛКП этим исследованием традиционно выступает ИК-спектрометрический
анализ.
5. Послойный ИК-спектральный анализ исследуемого образца ЛКП и
образцов сравнения относится к групповому признаку второго рода
Рис.
26. ИК-спектр
эмали
исследуемого
микрообъекта,
соответствующий
эмали
МЛ-1226
«Рубин»
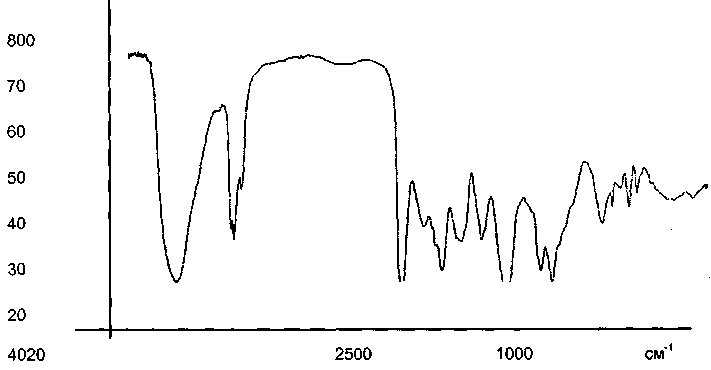
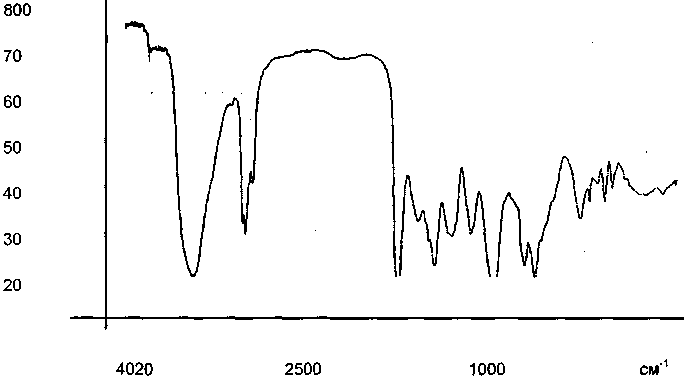
Рис. 27. ИК-спектр эмали второго сравнительного образца,
соответствующий эмали МЛ-1226 «Рубин»
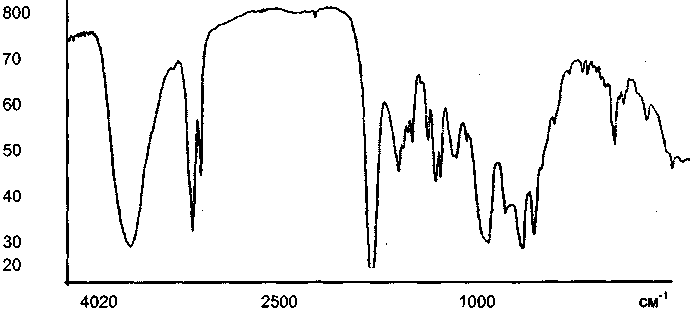
Рис. 28. Ик-спектр эмали третьего сравнительного образца,
соответствующий эмали ПФ-115
222

Рис. 29. ИК-спектр грунтовки микрообъекта, соответствующий грунтовке ВКФ-193
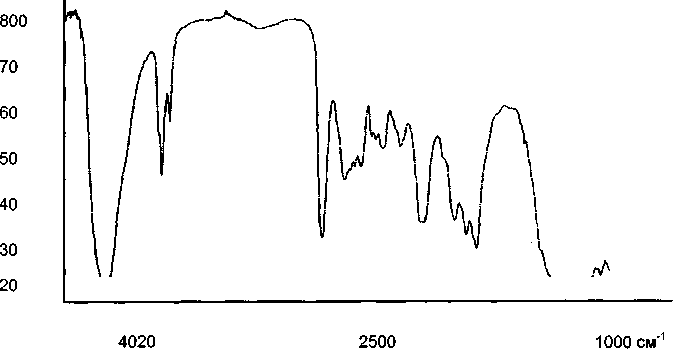
Рис. 30. ИК-спектр грунтовки второго образца ЛКП,
соответствующий грунтовке ВКФ-193
223
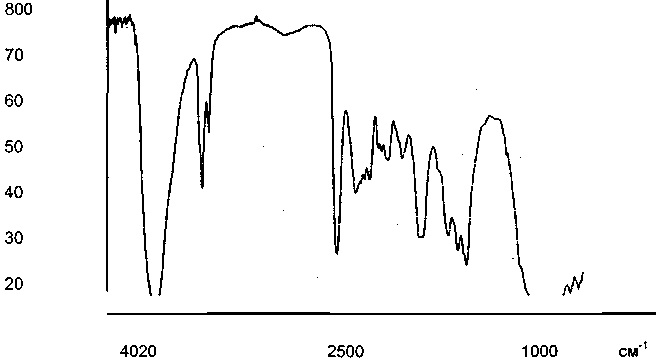
Рис. 31. ИК-спектр грунтовки третьего образца ЛКП,
соответствующий грунтовке ЭП-0228
Таким образом, сопоставление данных ИК-спектрометрических ана-
лизов позволяет однозначно установить отсутствие единого источника
происхождения микрообъекта и третьего сравнительного образца, а также
общую групповую принадлежность микрообъекта и второго образца
ЛКП. Однако решить вопрос об идентификации по данному комплексу
выявленных совпадающих признаков у второго образца и микрообъекта
(следа), очевидно, не представляется возможным, так как использова-
ние грунтовки и эмали одних и тех же наименований не является непо-
вторимым сочетанием. И эмаль и грунтовка являются в данном случае
стандартными слоями лакокрасочного покрытия автомобилей, широко
использующимися на заводе-изготовителе или при ремонтной окраске
с соблюдением технологических параметров, а, следовательно, данный
комплекс характерен для определенной партии автомобилей, т. е. яв-
ляется признаком групповой принадлежности.
Вообще же значимость каждого признака определяет только лишь
определенную вероятность тождества сравниваемых объектов на дан-
ном уровне диагностирования или идентификации. «Совпадение одного
отдельного признака может служить лишь основанием для предполо-
жения о тождестве, поскольку отдельный признак встречается не толь-
ко у данного предмета, но и у многих других. Это равно относится как
к общим признакам, так и к частным. Лишь при совпадении многих при-
224
знаков вывод о тождестве становится все более надежным»1. В боль-
шей степени имеет значение случайное сочетание признаков всех ве-
ществ, из которых сформирован исследуемый и сравниваемый материал.
В приведенном примере ими являются признаки грунтовки, шпатлевки и
эмали, сочетание которых в совокупности может дать неповторимость
свойств, что, в конечном итоге, может привести к решению идентифи-
кационной задачи.
При сравнительном исследовании признаков микрообъектов особого
внимания заслуживают выявленные различия, так как малый размер
объектов исследования во многих случаях не реализует его репрезен-
тативность с точки зрения сохранения всех признаков макрообъектов,
от которых они были образованы (отделены). Такие различия могут
быть следствием случайных причин. «Если ориентировать исследова-
ние на изучение всех признаков однокачественных систем, начиная
с совпадений, то обнаруженные различия выступают в качестве побоч-
ного продукта исследования. Но именно они требуют особого подхода
к оценке, потому что содержат в себе максимум информации»2. Обстоя-
тельное исследование различий, их объяснение и получение четких пред-
ставлений о генезисе возникновения, таким образом, является необхо-
димым элементом решения вопроса о тождестве или его отсутствии.
Следует особо подчеркнуть, что все исследования по решению как
идентификационных, так и диагностических задач, связанных со срав-
нением признаков или свойств объектов, возможны только при соблю-
дении всех требований, предъявляемых к сравнительным образцам.
В первую очередь, это касается места отбора таких образцов, которое
должно находиться в области возможного отделения микрообъекта и
может быть установлено в соответствии с ситуацией произошедшего
события. Это требование вполне очевидно, так как все материалы и
вещества, будь то ЛКП, волокна, стекло или другие, подвержены экс-
плуатационным изменениям в различной степени в зависимости от того
участка изделия, на котором они находятся. Так например, волокна
в большей степени изнашиваются на тех участках изделия, где проис-
ходит большее трение (обшлага рукавов, локтевые участки), ЛКП авто-
мобиля — в зонах, контактирующих с агрессивной средой (крылья, по-
роги и др.) и т. д. Несоблюдение этого требования может привести
к ошибочным выводам. Правила отбора образцов для сравнительного
исследования микрообъектов, их хранения и предоставления на экс-
пертизу достаточно подробно освещены в специальной литературе, что
1 Эйсман А. А. Заключение эксперта в системе судебных доказательств: автореф.
дис. ...д-ра юрид. наук. М., 1965. С. 16.
2 Кучеров И. Д. Основы теории дифференциации и ее использование в криминали-
стической экспертизе: автореф. дис. ...д-ра юрид. наук. М., 1972. С. 17.
225
дает нам возможность не останавливаться на них, а только указать на
важность их соблюдения.
Приведенный пример по решению задачи установления общей груп-
повой принадлежности представляет собой лишь наиболее часто
встречающуюся экспертную технологию, хотя при определенных ис-
ходных данных может быть реализована и иная схема.
Если же рассматривать процесс экспертного исследования в общем
виде, то для реализации указанной схемы сужения классификационных
множеств микрообъектов необходима, в первую очередь, разработка
системы классификационных признаков для каждого их вида. Именно
четкая классификация признаков дает возможность дифференцировать
уровни выделения родов и групп. В каждом случае содержание призна-
ка отдельного свойства или качества микрообъекта должно быть про-
явлением специфичности морфологии, качественного состава вещества
или материала, количественного соотношения ингредиентов с учетом
их вариационности и т. д. Кроме того, каждое основание должно отве-
чать определенным требованиям, связанным: с однозначностью эври-
стического описания признаков в соответствующих научно-технических
терминах, доступных пониманию адресата заключения эксперта; воз-
можностью выявления экспертом признака при исследовании объекта
в ограниченное (сроком производства экспертизы) время; обусловлен-
ностью получения качественно новой информации об объекте, харак-
теризующей следующую, более сложную его сторону и др.1
Иерархия классификационных признаков, построенная по принципу
сужения множества объектов при их последовательном выявлении, на-
прямую связана с частотой их встречаемости, а, следовательно, со
значимостью при отграничении родов и групп друг от друга. Именно по-
этому такой подход представляется не только логичным по своей сути,
но и рациональным с точки зрения оценки заключения эксперта, что
имеет существенное значение в свете отнесения полученного доказа-
тельства к категории достоверного.
Именно по этой причине необходимо остановиться на вопросах, ка-
сающихся оценки заключения эксперта, которое осуществляется на ос-
нове положений как формального характера, так и касающихся его су-
щества2.
Элементы формального характера складываются из выяснения со-
блюдения установленного процессуальным законом порядка назначе-
ния и проведения экспертизы, правильности оформления заключения и
не подлежит ли эксперт отводу.
1 См.: Кучеров И. Д. Указ. соч. С. 61.
2 См.: Орлов Ю. К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам. М., 1995.
226
К числу элементов, касающихся существа заключения, относятся:
допустимость исследуемых объектов, обоснованность выводов, их пра-
вильность и определение доказательственного значения1.
Формальные элементы рассмотрены в соответствующем разделе
работы, что освобождает нас от необходимости их повторять.
Отдельного рассмотрения заслуживает оценка обоснованности вы-
водов, а, следовательно, их достоверность и доказательственная зна-
чимость, что выражается в оценке заключения эксперта, и здесь следует
начать с формирования внутреннего убеждения эксперта при форму-
лировании выводов по проведенному исследованию.
Не останавливаясь на соотношении объективного и субъективного
характера оснований внутреннего убеждения эксперта, можно отме-
тить, что одним из элементов этой системы выступает оценка призна-
ков и свойств исследуемых объектов. Кроме того, «выводы эксперта
всегда основаны на данных науки и конкретных результатах исследо-
вания, их истинность проверяется в конечном итоге экспертной, след-
ственно-судебной практикой. Субъективность выводов не следует рас-
сматривать подчеркнуто в противопоставлении с объективными данными
или указывать на их «недостаточность», «ненадежность» в отличие,
например, от математических методов применения ЭВМ»2.
Учитывая важность значения выводов эксперта, форму, обоснова-
ние выводов и их доказательственное значение, А. А. Эйсман предла-
гал даже выделить в самостоятельный раздел судебной экспертологии
исследования формы и обоснования выводов, полагая, что этот раздел
должен включать теорию оценки экспертом данных, обнаруженных им
в ходе исследования3.
Решение проблемы объективизации, оценки обоснованности выво-
дов эксперта, формирования его внутреннего убеждения сопровожда-
лось попытками использования теории вероятности и накопления ста-
тистических данных о признаках объектов. Это вполне оправданный
подход, так как при этом помимо описания и объяснения признаков
в формировании выводной части заключения участвуют конкретные
количественные оценки их совпадений и отличий.
Заключение эксперта является одним из видов доказательств и
в соответствии с законом подлежит оценке следователем и судом. Это
означает, что следователь, а впоследствии суд должны признать его
достоверным, т. е. проверить ход и результат исследования, соответст-
1 См.: Зимин А. М., МайлисН. П. Указ. соч. С. 187.
2 См.: Шляхов А. Р. Структура экспертного исследования и гносеологическая характе-
ристика выводов эксперта-криминалиста//Труды ВНИИСЭ. M., 1972. Вып. 4. С. 97.
3 См.: Эйсман А. А. Экспертология в системе научного знания // Экспертные задачи и
пути их решения в свете НТР: сб. науч. тр. ВНИИСЭ. М., 1980. С. 67.
227
вие сделанных выводов проведенному исследованию и установить
обоснованность выводов, их аргументированность.
При проверке методической стороны заключения эксперта следова-
тель и суд должны выяснить:
— правильно ли избрана методика исследования и полно ли она
описана в заключении;
— обеспечивает ли проведенное исследование решение поставлен-
ных вопросов, описаны ли применявшиеся приемы и технические сред-
ства (приборы, реактивы и т. д.), какие получены результаты, их моти-
вированность;
— какие положения специальных знаний использованы экспертом
для обоснования результатов исследования;
— достаточно ли было представленных материалов для исследова-
ния и выводов эксперта;
— соответствуют ли проведенные исследования уровню развития спе-
циальных знаний и возможностям данного вида судебной экспертизы1.
По мнению Л. Н. Головченко, «наиболее сложной для следователей
и суда является оценка научной обоснованности заключения эксперта,
под которой следует понимать: достаточность для сделанных выводов
исследовавшегося материала; эффективность примененных методов
исследования; соответствие выводов эксперта проведенному исследо-
ванию»2.
Действительно, экспертное исследование основано на использова-
нии специальных знаний, т. е. знаний, не являющихся общеизвестны-
ми и общедоступными. Вполне очевидно, что ни следователь, ни судья
не могут в полной мере оценить заключение эксперта с точки зрения
его научной обоснованности, соответствия выводов проведенному ис-
следованию, его полноты и т. д. по объективной причине — они в боль-
шинстве случаев не обладают такими знаниями, за исключением неко-
торых традиционных видов экспертиз (баллистика, дактилоскопия и
некоторые другие).
Более того, увеличение объема знаний, относящихся к специаль-
ным, расширение объема применяемых при исследовании объектов
экспертизы новейших методов, усложнение приборной базы, несо-
мненно, еще больше затрудняют оценку достоверности заключения
1 См.: Лисиченко В. К. Особенности проверки и оценки заключений экспертизы на
предварительном следствии и в суде // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1982.
Вып. 24. С. 33.
2 Головченко Л. Н. Некоторые вопросы оценки заключения криминалистической экс-
пертизы следователем и судом // Актуальные проблемы судебной экспертизы и кримина-
листики. Киев, 1993. С. 49.
228
эксперта неспециалистом1. «Не считаться с этим — значит обманывать
самих себя и уходить от решения насущно важных вопросов»2.
Таким образом, закон обязывает следователя и суд оценить заклю-
чение эксперта как достоверное доказательство с позиции его научно-
сти, обоснованности, логичности и т. д., что во многих случаях объек-
тивно невозможно. Все предложения по урегулированию указанного
декларативного положения закона, вносимые в разное время разными
учеными, можно свести к следующим подходам.
1. Придать заключению эксперта особый доказательственный ста-
тус, обусловливающий квалифицированную оценку с участием соответ-
ствующих специалистов и закрепить это положение в виде нормы в за-
коне3.
2. Изменить действующее законодательство, а именно: вывести за-
ключение эксперта из ранга рядовых доказательств4.
3. «Эксперт самостоятелен как в выборе суммы научных положений,
так и в определении объема излагаемого научного материала. Однако,
решая для себя эти вопросы, он обязан постоянно помнить, кому адре-
сованы результаты исследования, т. е. о тех лицах, которым предстоит
оценить его заключение. Другими словами, эксперт должен излагать
ход и результаты исследования доступным литературным языком, ука-
зывая на выявленные в ходе исследования свойства и признаки объек-
та (факта, явления), мотивированно объясняя их, применяя при иссле-
довании апробированные методики и подробно объясняя специальные
методические положения, новые малоизвестные методы и средства
исследования»5.
4. Оставить то же положение, которое существует сейчас6.
По мнению Т. В. Аверьяновой, наиболее приемлемое решение про-
блемы — изменить закон, дополнив соответствующую статью пунктом
об обязательном участии при оценке заключения эксперта следовате-
лем и судом специалиста должного профиля (штатного или внештатно-
го сотрудника), который в полной мере сможет оценить заключение7.
Однако, не произойдет ли в этом случае дублирование деятельности
эксперта, чем будет отличаться этот специалист от эксперта, выпол-
1 См.: Аверьянова Т. В. Указ. соч. С. 465.
2 Корухов Ю. Г. Достоверность экспертного исследования и пути совершенствования
ее оценки // Вопросы теории судебной экспертизы и совершенствования деятельности
судебно-экспертных учреждений: сб. науч. тр. ВНИИСЭ. М., 1988. С. 10.
3 См.: Корухов Ю. Г. Указ. соч. С. 22.
4 Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития /
колл. авт. М., 1994. С. 224.
5 Аверьянова Т. В. Указ. соч. С. 470.
6 См.: Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции раз-
вития / кол. авт. М., 1994. С. 224.
7 См.: Аверьянова Т. В. Указ. соч. С. 468.
229
нившего исследование, почему его оценке суд должен будет доверять,
а выводам эксперта нет, из числа какой категории специалистов он бу-
дет выбираться и многие другие вопросы как правового, так и организа-
ционного плана возникают при анализе первого предложения. То есть
в данном предложении, в том виде, как оно сформулировано, больше
неясных моментов, чем конкретно обозначенного пути реализации.
Второе предложение о придании заключению эксперта особого до-
казательственного статуса кажется нам противоречащим одному из ос-
новных принципов уголовного судопроизводства — равенстве всех до-
казательств и их оценке лишь в совокупности.
Третье предложение в отношении многих видов экспертиз, относящих-
ся к достаточно распространенным (баллистическая, трасологическая дак-
тилоскопическая и др.), наглядно проиллюстрированным фототаблицами,
можно признать реально выполнимым. Такая оценка в подавляющем
большинстве случаев ни у следователя, ни у суда особых затруднений
не вызывает. Однако для экспертиз, связанных с исследованием мик-
рообъектов или других специальных направлений, оно вряд ли может
быть реализовано на практике. Так, например, расшифровка рентгено-
грамм пространственной структуры кристаллической решетки микро-
объекта есть настолько узкопрофильное специальное исследование,
настолько сложное, что в полном объеме его может выполнить только
специалист высочайшего класса с использованием сложного математи-
ческого аппарата и программного обеспечения. Описание хода иссле-
дования и его расчетной части немыслимо без оперирования специ-
альными терминами, и сложно себе представить их литературную
интерпретацию доступным языком. Даже иллюстрирование хода и ре-
зультатов исследования различными спектрограммами не изменит си-
туацию в оценке экспертизы следователем и судом. Это же относится
не только к новым методам и методикам, но даже и к широко приме-
няющимся и апробированным.
И, наконец, оставить все без изменений — самое рациональное на
сегодняшний день предложение, ибо, судя по научным публикациям,
этот вопрос далек от стадии своего решения, принятие же каких-либо
законодательных инициатив в этой ситуации может иметь самые нега-
тивные последствия.
Однако, говоря о том, что необходимо оставить все без изменений,
мы имеем ввиду лишь законодательную сторону проблемы. Ее необхо-
димо решать, но решать в рамках существующего закона.
В первую очередь, эксперт может дать показания в суде, где пояснит
основания, на которых им были сформулированы те или иные выводы
по экспертизе. С другой — сегодня уже достаточно эффективно функ-
ционирует институт независимой экспертизы, выполняемой в негосу-
дарственных учреждениях. Выводы в заключении независимого экспер-
230
та, если они совпадают, могут служить одним из оснований достовер-
ности экспертного исследования. При разногласиях, возникших у экс-
пертов, может быть назначена повторная экспертиза, для консультации
в суд могут быть приглашены ведущие ученые и специалисты и т. д.
Однако эта процедура не должна быть обязательной, а существовать
лишь факультативно и реализовываться только в необходимых случа-
ях. Следует заметить, что при возникновении затруднений по оценке
заключения эксперта на практике поступают именно так.
Другой путь нам видится в повышении степени объективизации ре-
зультатов исследования. Внутреннее убеждение эксперта должно ос-
новываться в большей степени не на его субъективном восприятии и
анализе выявленного комплекса признаков исследуемых объектов, но
на критериях, поддающихся численному выражению. Сопоставление
количественных параметров, нахождение коэффициента корреляции
одних и тех же признаков исследуемого объекта и объекта сравнения
позволяет не только более обоснованно формулировать выводы, но и
дает возможность проводить их оценку следователем и судом.
Например, сравнение цвета микрообъекта и объекта сравнения
можно проводить не только на уровне их схожести или различия, выяв-
ленных визуально, но и на основании данных калориметрических или
спектральных исследований. В этом случае зона области поглощения
электромагнитного спектра будет иметь конкретное выражение в виде
интервала длин световых волн. Совпадение или различие ИК-спектров
может быть выражено коэффициентом корреляции, который отражает
качественные и количественные параметры.
Известно, что измерять можно не только линейную величину, вес
или объем, но и частоту встречаемости того или иного признака. Кроме
того, можно измерить и величину того или иного параметра и частоту
его встречаемости у объектов данного класса. Естественно, два этих
показателя, вместе взятые, обладают большей выделительной способ-
ностью или, иными словами, надежнее обеспечивают индивидуализа-
цию объекта. Вот почему в решении проблемы объективизации и по-
вышении научной обоснованности криминалистических исследований,
в частности, идентификационного характера, определению частоты
встречаемости того или иного признака и на этой основе определению
его информационной значимости уделяется особое внимание. На этом
основании и должно строиться построение классификационных мно-
жеств микрообъектов.
Этому вопросу, а именно выявлению количественных критериев для
комплекса признаков, по которым возможно «узнавание» объекта, вы-
деление его из множества схожих, а также сравнение с другими и, в ко-
нечном итоге, индивидуальной идентификации посвящен следующий
раздел работы.
