
55651550
.pdf
некоторые основания не только для взгляда на нацию как непрерывный процесс самоидентификации и политического выбора, но и поддерживает идею нации как результата многочисленных само- и иноприписываний, аскриптивной классификационной практики множества людей, результаты которой отражаются в их повседневности и инфраструктурных изменениях общества – той самой «сборки социального», о которой столь выразительно пишет Брюно Латур64. Механизмы и способы «сборки наций», таким образом, опираются на коммуникативные (дискурсивные и нарративные) практики, вне которых трудно было бы представить формирование современных наций как политических объединений.
О каких, однако, нациях здесь идет речь? Являются ли механизмы формирования и воспроизводства, или особенности «сборки» этнонаций и гражданских наций сходными или же они обладают собственной спецификой и особенностями? В обширной литературе о национализме и историческом становлении наций довольно подробно описаны специфические черты конкретных исторических случаев нациестроительства, однако, мне не известны работы с таким анализом этих процессов, в котором бы становление этнонаций последовательно сопоставлялось с возникновением гражданских наций или наций-государств. Обычно эти процессы изображаются разнесенными во времени (становление этнонаций в таком представлении предшествует становлению наций-государств) и, видимо, по этой причине само сопоставление начинает выглядеть антиисторичным и спекулятивным. Однако действительно ли в данном случае можно вести речь только о предшествовании одних идеологий – другим, и одних процессов – другим? Если процессы конструирования наций продолжаются и сегодня (а теоретики продолжают выделять типы этно- и гражданских наций), то не логичнее ли будет рассматривать процессы конструирования тех и других, в свою очередь, как отличающиеся друг от друга? Если так, то сборка этнонаций должна отличаться от сборки наций гражданских, иначе сама эта типология оказывается под вопросом. Известная формула (встречаемая, впрочем, сегодня по очевидным причинам чаще у отечественных обществоведов) о нации как «этносе с армией» игнорирует обратно-направленные процессы распада и исчезновения вполне современных наций-государств (Советский Союз, Югославия, Чехословакия), и риторика о якобы незавершенных в них процессах нациестроительства или отсутствия в них «единой нации» здесь не спасает, поскольку с очевидностью выступает не как следствие развертывания
ния в такой его конкретной реализации, как «воображение нации».
64Латур Б. Пересборка социального. Введение в актор- но-сетевую теорию / пер. И. Полонской. М.: Изд. дом Высшая школа экономики, 2014.
логики этой концепции, а как банальное объяснение ad hoc65.
Впрочем, ставя вопрос об отличиях в механизмах становления этно- и гражданских наций, я не могу претендовать на сколько-нибудь конкретный ответ, и не столько потому, что его обоснование требует обширных исследований, значительного времени и более пространного жанра изложения, но главным образом потому, что я не располагаю необходимыми для этого знаниями. Можно лишь выдвинуть гипотезу, что присутствующие в обоих случаях дискурсивнонарративные механизмы (националистический дискурс, национально-исторические нарративы) имеют приблизительно равный удельный вес как факторы формирования наций обоих типов, в то время как институциональное и вещественное отражение и воплощение таких нарративов или дискурсов (в виде музеев, переписей, границ, армии, национальных медиа и проч.) оказывается более развитым и показательным в случае гражданских наций.
Более привлекательной, однако, мне представляется другая позиция, в соответствии с которой речь здесь идет не о двух типах нации, а всего лишь о конкурирующих описаниях единого процесса нациогенеза, застигнутого на его разных стадиях, во-первых, и с различающейся концептуализацией различий, вовторых. Действительно, если обратить внимание на вопрос, из кого состоят эти нации, то в первом случае ответом будет – из граждан (ведь нация здесь определяется как согражданство и часто именуется гражданской нацией), однако, во втором случае по этой же логике этнонация должна будет состоять из «коэтников» или «этнофоров» как носителей одинаковой этничности. При такой трактовке получается, что признание за этнонациями статуса объективных сообществ с логической неизбежностью приводит и к признанию объективного существования этносов. Между тем многие из тех, кто признает существование этнонаций, отрицают существование этносов. В объективности существования гражданских наций как логического следствия и результата действия юридического института гражданства и, так сказать, демографического измерения государственности, насколько мне известно, никто не сомневается. Как же тогда быть с этнонациями, отсутствие сомнения в объективном существовании которых с неизбежностью приводит к эссенциалистской и примордиалистской позициям не только в отношении этого постулируемого типа нации, но и применительно к этническим сообществам, поскольку нет сомнения, что они состоят из тех, кто разделяет конкретную этническую идентичность? Мне представляется поэтому, что в обсуждаемой здесь типологии наций этнонации оказываются не
65Ср. такого рода суждения с аналогичным диагнозом в отношении американской нации (ср.: Alan Brinkley. The Unfinished Nation: A Concise History of the American People. 6. ed. N.Y.: McGraw-Hill, 2010).
51

столько отдельным типом, сколько проекцией в сферу классификации – идеологии этнонационализма, рассматривающего этнонации как «естественный продукт» и «норму» политического устройства. С другой стороны, вполне вероятно, что российские этнологи, как сторонники советской концепции этноса, так и ее противники, стали в данном случае жертвой своеобразного номинализма или фетишизма – назови они «этносы» «нациями», споры бы поутихли (о связи советских концепций этноса и нации выше речь уже шла).
Вопрос о культурной сложности наций обретает свой смысл лишь в перспективе изучения и объяснения таких коллективных феноменов, как массовое сознание (единство мнений и представлений), коллективное действие и гражданский национализм, как попытка объяснения событий единообразного поведения со стороны по видимости разнородного, составного и гетерогенного по происхождению населения современного государства. В этой связи важно отметить, что хотя феноменология единообразного поведения этнонаций и гражданских наций практически совпадает, предлагаемые теоретические объяснения для солидарного действия у этих двух разных типов сообществ существенно различаются. Таким образом, исследователь здесь сталкивается, по меньшей мере, с двумя явлениями, требующими объяснения: 1) почему разнородное может вести себя одинаково; 2) почему феноменологически близкие или сходные реакции отмечаются у столь различающихся типов сообществ. Последний вопрос можно переформулировать и следующим образом: почему для проявлений национального единства обществоведы предлагают одни объяснения для случаев этнонаций и другие – для случаев культурно сложных, или композитных наций?
Работа категоризации (похоже, что не только у человека) осуществляется на основе принципа экономии когнитивных усилий (развитый мозг, как мотор мощного авто, потребляя много энергии, остается в природе роскошью). Независимо от своей позиции и особенностей понимания нации, исследователь вынужден прибегать к категоризации, поскольку «нация» в терминосистемах разных дисциплин представляет собой, прежде всего, некоторый класс признаваемых в чемто похожими, равными, или эквивалентными индивидов, то есть множество, выделяемое на основе именно категоризации как операции, объединяющей объекты в более крупные совокупности на основе наличия у них сходных атрибутов (характеристик, качеств) или сравнения множества с некоторым прототипом, с позиции сравнивающего бесспорно отвечающим идее или сути нации.
В отношении принципов классификационного мышления современная наука (и это особенно справедливо для гуманитарных и социальных дисциплин) продолжает жить в тени гигантов (в случае антропологии – зачастую гигантов весьма отдаленного прошлого). Научные классификации со времен Аристо-
теля усовершенствовались ненамного: как и великий грек, мы продолжаем определять порядок вещей через их принадлежность к ближайшему роду (Genus proximus) и систему отличительных признаков от соседних видов (Differentia specifica), вместе с Борхесом улыбаясь над попытками мудрецов из иных цивилизаций установить свои критерии в этой области, и продолжающих, в соответствии с известной шутливой классификацией, делить животных на классы «только что разбивших кувшин», «издалека выглядящих мухами», «видевших Императора» и т. д. Однако, как и они, мы тоже пользуемся готовой, созданной не нами и задолго до нас, сеткой различений, редко задаваясь вопросом, насколько она пригодна для ситуаций, по существу, радикально новых и человечеству прежде не встречавшихся. Наши классификации в этом отношении могут быть уподоблены техническим устройствам (телефону, планшету, стиральной машине или холодильнику), представляющим собой упакованные в единый предмет решения и усилия поколений ученых и инженеров, выбравших до нас и за нас то, что нам, по их мнению, будет удобно и полезно66.
По аналогии с таким подходом все рассуждения в терминах таких «заранее заготовленных» типологических обобщений, как «язык», «культура», «народ», «нация», «национальность» и проч. опираются на агрегаты признаков, выделенных, проанализированных и отобранных поколениями специалистов, являвшихся
66Вероятно, классификацию вполне можно рассматривать в качестве аппарата в том смысле, который придал этому понятию Дж. Агамбен, писавший: «Еще более расширяя и без того обширный класс фуколдианских аппаратов, я буду называть аппаратом буквально все, что имеет возможность каким-то образом пленять, на-
правлять, определять, пресекать, определять, контролировать или обеспечивать жесты, поведение, мнения или рассуждения живых существ. Следовательно, не только тюрьмы, психлечебницы, паноптикон, школы, конфессии, фабрики, дисциплины, судебные меры и т. д. (чья связь с властью в определенном смысле очевидна), но и перо, письмо, литература, философия, земледелие, сигареты, навигация, компьютеры, мобильные телефоны и, почему бы и нет – сам язык, являющийся, возможно, самым древним из аппаратов, с помощью которого был незаметно для себя пленен тысячи и тысячи лет назад один из приматов, не осознававший последствий, с которыми ему уже скоро придется стол-
кнуться» (Agamben Giorgio. What is an Apparatus and Other Essays. Stanford: Stanford Univ. Press, 2009. С. 14.
Курсив добавлен). Чуть выше он пишет: «Когда Хайдеггер в “Вопросе о технике” замечает, что Gestell (постав) в обыденном языке означает Gerät (аппарат), но что он этим термином намерен обозначать “собирание вместе того положения (Stellen), которое (рас)полагает человека, то есть заставляет его обнажить реальное в способе упорядочения (Bestellen)”, то близость этого термина к… фуколдианским аппаратам становится очевидной» (там же. Курсив добавлен).
52

также носителями конкретных языков и идеологий67. В контексте радикальной новизны современной экономики знаний следует также помнить, что, как и все технические аппараты, аппараты концептуальные стремительно устаревают и нуждаются в постоянной настройке, починке и замене. Хрупкие политические альянсы, именуемые «народами» или «нациями», вырастающие на основе политическими же средствами сконструированных единств языка и культуры – этой пены на поверхности глубинных исторических трансформаций – выдаются за natural kinds – классы вещей как они есть сами по себе, существующих независимо от воспринимающего их человека и наделяемых той же степенью суверенности и автономности, что и планеты, звезды или галактики. Такого рода натурализм
иэссенциализм, вполне очевидные во взглядах теоретиков XIX в. или их современных последователей (например, Пьера ван ден Берга или Энтони Смита), принимают менее очевидные и более тонкие формы у конструктивистов, но не преодолеваются полностью
иими, поскольку оказываются тесно связанными с особенностями европейского категориального мышления в целом, в том числе мышления типологического или классификационного – пункт, оказывающийся центральным для дальнейших рассуждений.
Еще до рассмотрения категориальных и терминологических аспектов научных и политических рассуждений на «национальные темы» здесь уместно обратить внимание читателя на то обстоятельство, что сравнение и идентификация таких «натуральных разрядов», как звезды, камни, растения, или животные, а также методы и принципы выделения этих классов
вещей, как и отнесения индивидуального объекта к классу, мало отличаются от методов и принципов, положенных в основу используемых в современных социальных науках классификаций человеческих сообществ. Современный фундамент научных классификаций строился сравнительно недавно – главным образом в XIX в., а всего пару веков назад еще возможно было объединять тюленей и морских львов с русалками и сиренами (последних, кстати, Линней зачислял вместе с обезьянами, лемурами и человеком в одно семейство).
Переплетение культурно-языковых и политических идентичностей в концептах нации и народа, а также влияние групповой саморефлексии на резуль-
67В отношении языка как объекта классификации (в том числе определения статуса конкретной лингвемы как «этнического языка») можно отметить возможность бесконечной регрессии в реализуемом «внутри» него и его же средствами определения. Древним грекам и представителям других цивилизаций того времени в этом отношении было, кажется, проще, поскольку они определяли свой язык как единственную членораздельную и доступную человеку форму общения, считая все прочие – «гавканьем», а их носителей – варварами (barbarophonoi, букв. лающие), т. е. недочеловеками.
Русская выхухоль с ее хоботком и ластами и земноводным образом жизни долго сопротивлялась классификационным усилиям натуралистов.
таты таких категоризаций, конечно, усложняют картину, но не меняют ее принципиальным образом, поскольку категоризация мира в целом осуществляется
втех же головах (в данном случае – людских), что и категоризация человеческих коллективов и подчиняется тем же закономерностям и прихотям. На это обстоятельство обратили внимание еще Э. Дюркгейм и М. Мосс, которые в своей работе «О некоторых первобытных формах классификации», опубликованной более века назад, предложили концепцию, в соответствии с которой классификация вещей, по крайней мере в первобытных обществах, повторяет и воспроизводит классификацию людей: «Если тотемизм является в определенном отношении объединением людей в кланы в соответствии с природными объектами (ассоциированными видами тотемов), он выступает и наоборот – как группировка естественных объектов в соответствии с социальными группами»68. Рассмотрение языка и культуры как аппаратов, т. е. устройств,
вопределенных отношениях программирующих поведение людей, в рамках рассматриваемой здесь темы оказывается продуктивным, поскольку заставляет поновому взглянуть на концептуализацию управления в социально, культурно и политически неоднородных обществах, на возможности и ограничения управления языковыми и культурными процессами, затрагивающими (если не формирующими) и существенные характеристики самих практик администрирования.
Антропологи знают, что противопоставление мира людей (культуры) – всему остальному миру (природе), свойственно далеко не всем обществам и, вероятнее всего, типично лишь для западного модернистского мышления. Отсюда следует, что в ходе рассмотрения проблемы «культурной сложности наций» нам придется либо исключить из рассмотрения все «несовременные» общества, заявив об их несоот-
68Durkheim E., Mauss M. De quelques formes primitives de classification // Année Sociologique. 1901–1902. VI. P.10.
53

ветствии понятию «культура», либо пересмотреть существующие трактовки этого понятия и существенно расширить его объем, включив «отклоняющееся» от западного канона случаи. Такое расширение, однако, оказывается шагом весьма радикальным, поскольку влечет за собой рассмотрение принципов категоризации мира, значительно отличающихся от доминирующего в современном политическом мышлении и европейского по своему происхождению натурализма69. Однако и отказ от рассмотрения иных форм категоризации мира и человеческих сообществ за пределами европейской чреват этноцентризмом и провинциализмом, а настаивание на «единственно верном учении» и его навязывание не разделяющим такой подход обществам может оказаться очередным проявлением концептуального империализма, этого распространенного греха догматического мышления.
К расширению наших представлений о нации подталкивают и некоторые скрытые парадоксы и аномалии «рациональных» представлений о народе как политическом единстве и нации как согражданстве или культурно-языковом единстве. К примеру, идею гражданской нации сложно увязать с тезисом Уильяма Уорнера о нации как единстве живых и мертвых70.
69Упоминание о натурализме современных политических воззрений (включая и взгляды на «народ» или «нацию») не следует рассматривать как утверждение, что в этих воззрениях нет элементов других концептуальных систем – тотемизма, анимизма, и той, что Ф. Десколя называет «аналогизмом» (Descola Philippe. Beyond Nature and Culture. Chicago: University of Chicago Press, 2013. С. 201–225).
70Несколько утрируя, приведу пример из иной области: вопреки своей древности и автохтонности, русалки, домовые и лешие обычно не рассматриваются в качестве членов или частей российской нации (как речные дельфины или ягуары – нации бразильской). Это обстоятельство просто констатировать, но сложнее объяснить. Почему эти «идеологически нам близкие» персонажи из числа явно старожильческого населения – плоть от плоти русского народа (никто ведь не станет отрицать, что этот народ в российскую нацию входит?) – вдруг по какому-то непредъявленному основанию исключается из состава нации? В практически первой научной попытке описания славянской демонологии А.С. Кайсаров пишет о русалках как о «русских нимфах и наядах» с зелеными волосами, любивших качаться «на ветвях дерев» (Кайсаров А.С. Славянская и российская мифология. М., 1810. С. 164; курсив добавлен), а Д.К. Зеленин (1911) доказал их связь с людьми, умершими неестественной смертью, т. е. покойниками, составляющими, по Уорнеру, неотъемлемую часть идеи нации (Уорнер У. Живые и мертвые. М.; СПб.: Университетская книга, 2000). Следуя такой логике, русалки как русские покойники должны рассматриваться как неотъемлемая часть русской/российской нации. Несколько упрощая и обобщая эти связи между живыми и мертвыми, можно предположить, что славянские представления о посмертной природе человека подспудно влияют на концепции народа, но мало касаются тако-
Практически никто из современных теоретиков национализма не отрицает важность социальной памяти (и избирательной амнезии) в становлении нации, но вместе с тем ее великие и заурядные мертвецы с трудом вписываются в синхронистическую концепцию согражданства. Мы апеллируем к истории, демонстрируя достижения наших великих сограждан, всякий раз, когда желаем продемонстрировать величие нации и ее вклад в мировую культуру, и вместе с тем наиболее распространенные модели согражданства, опираясь на легалистское толкование гражданства, не имеют исторического измерения: акты гражданского состояния изымают покойных из числа граждан, сколь бы великими они ни были.
Помимо этого, большинство концепций нации или народа опираются на идею связующих отношений между членами таких сообществ, солидарности определенного типа, предполагающую, в свою очередь, наличие межсубъектных отношений. Таким образом, мы обнаруживаем, что идея субъекта или личности, необходимая для установления такого рода солидарных связей, имеет прямое отношение к идее народа или нации, и, следовательно, концептуализация «субъекта» или «личности» в разных обществах будет иметь прямые следствия для концептуализации соответствующих версий «народа» или «нации». Именно здесь выясняется, что в тех обществах, где критерием субъектности выступает, например, наличие души, в межсубъектные отношения оказываются включенными некоторые животные и даже растения, так что приведенные выше примеры с ягуарами и домовыми оказываются не столь уж надуманными. Они еще раз обращают внимание на то вполне очевидное обстоятельство, что парадоксы и неправильности в нашем использовании понятий народ и нация могут объясняться недостаточным продумыванием таких из их оснований, как особенности субъектности у их чле-
го современного концепта, как нация, осложняя ясные лишь по видимости логические связи между народом
инацией и порождая те классификационные аномалии, о которых пойдет речь ниже. Скептику, который не согласится с причислением русалок, водяных и домовых к русскому народу сегодня, фольклорист может задать вопрос о содержании и характере границ этого концепта в XVIII и XIX вв., когда отрицать размытость
ипроницаемость границ между собственно «народом»
ибытующими среди него «мифологическими персонажами» станет сложнее. Исторически обретаемая четкость такого рода границ не снимает проблемы по существу, поскольку оставляет открытыми вопросы, когда и на каких основаниях произошло такое размежевание, согласуется ли оно с мировосприятием большинства, приемлемо ли для всех и т. п. Дж. Агамбен, анализируя другую границу – между человеком и человекообразными, пишет: «При Старом режиме границы человеческого были гораздо более неопределенными
иколеблющимися, чем после развития гуманитарных наук в XIX веке» (Агамбен Дж. Открытое. Человек и животное. М.: РГГУ, 2012. С. 36).
54

Классификационные аномалии остаются притягательными: «живые камни», помещаемые массовым сознанием на границу живого и мертвого – тромболиты (слева) – притягивают тысячи туристов, а литопсы, принадлежащие царству растений (фото справа) – вдохновляют коллекционеров по всему миру.
нов, природы, лежащей в основе солидарности таких сообществ, и т. п.
В книге Джорджо Агамбена «Открытое. Человек и животное» (М.: РГГУ, 2012) есть глава о таксономиях,
вкоторой он, отмечая особый интерес Линнея к обезьянам и приматам, останавливается на его полемике с преобладавшим в то время теологическим взглядом, где главным различием между человеком и обезьянами было отсутствие у последних души. В одном из примечаний своей «Системы природы» Линней с раздражением комментирует картезианскую концепцию животных как automata mechanica, замечая, что Декарт, видимо, никогда не сталкивался с человекообразными обезьянами. До развития гуманитарного знания и соответствующих ему дисциплин в XIX в. язык также не считался исключительным достоянием человека, и даже Дж. Локк пишет о попугае принца Нассау, якобы умевшем поддержать разговор и отвечать на вопросы «как разумное существо». Столь же неопределенна была граница между приматами и живущими рядом «дикими племенами»: первое европейское описание орангутанга (названного в 1641 г. Никласом Тульпом Homo sylvestris) подчеркивало его близость местным народам. Опубликованная немногим более полувека спустя сравнительная анатомия орангутанга, пигмеев и человека, написанная Эдвардом Тайсоном (1699), изображала пигмеев как промежуточное звено между обезьянами и человеком на основании найденных им 34 различий. Между тем речь идет о времени буржуазных революций и становления современных наций
вЕвропе. Если вспомнить, что Тульп в своем труде сравнивал не только пигмеев, человека и орангутанга, но и привлек литературные сведения о собакоголовых, сатирах и сфинксах71, таксономические отличия человека, как они мыслились в ту эпоху, становятся еще менее определенными. Достоверно можно лишь утверждать, что безусловными членами новых европейских наций оказались буржуа, в то время как аристократия и духовенство уничтожались как паразитические классы (еще одно важное для нас сближение с темой границ человеческого и анимального), а крестьянство и ремесленники низводились до роли
71Agamben Giorgio. What is an Apparatus and Other Essays. Stanford: Stanford Univ. Press, 2009. Р. 25.
механических автоматов, неизбежных и нужных для производства, но не способных на приобщение к создававшимся высоким формам национальной культуры (по фразе одного из чеховских героев – «чумазый на пианинах играть не может»).
Классификационные аномалии и любые отклонения от нормы, эксплицитной или имплицитной, всегда и в любом обществе рождали горячие споры как угрожающие мировым гармонии и порядку и потому представляющиеся социально нетерпимыми. Классификационные аномалии, парадоксы и скандалы не могли в силу этого не привлекать внимания множества поколений и ученых, и широкой публики, а в ситуации межкультурных контактов – представителей обеих контактирующих культур. Стоит в связи с этим вспомнить затруднения Аристотеля в классификации верблюда, страх Монтесумы перед всадником на лошади, удивление Марко Поло, обнаружившего мифического единорога (на самом деле – белого носорога)
вдалекой Индонезии, восторг британских натуралистов перед утконосом, трудности классификации ламантинов, даманов и русской выхухоли (последняя пара рассматривалась по некоторым признакам как родственники слонов).
Но такие трудности касаются не только животного царства. Границы между живым и неживым долгое время оставались неясными и в отдельных случаях остаются таковыми и сегодня, разделяя множество атрибутов, во всяком случае для обыденного мышления.
Вотношении классификационных подходов и методов устранения аномалий отличия между социальными и естественными категориями оказываются не столь уж большими. Во всяком случае, они представляются меньшими, чем межкультурные различия
впринципах классификации. «Мы» (европейцы) объединяем «нации», «этносы» и «племена» в одну категорию на основе того, что рассматриваем их все как человеческие сообщества. «Они» (например, амазонские индейцы) объединяют в нацию людей, леопардов и туканов на том основании, что все они – люди. Для нас их классификационные принципы кажутся эксцентричной экзотикой. Но и они, думается, рассматривают наш подход как провинциальную недалекость. Сами воззрения на сходство и различие оказываются здесь столь различающимися, что перевод одной кар-
55

тины мира в другую (а точнее – одной онтологии на язык другой) представляется едва ли возможным…
Менее масштабные, но не менее драматические различия в подходах наблюдаются и внутри того, что можно было бы условно назвать «региональным мировоззрением», претендующим, впрочем, на универсальное или единственно верное. Речь идет, разумеется, о европейском, западном, или научном мировоззрении. Например, для концепции гражданской нации в рамках этого мировоззрения аномальными оказываются мигрантские и этнические меньшинства, выдвигающие политические требования на (нелегитимном с позиции доминирующего большинства) основании своих культурных отличий. В случае Kulturnation или этнонации аномалией оказываются, напротив, любые сообщества, узурпирующие понятие нация, не имея с точки зрения членов доминирующей Kulturnation достаточных логических на то оснований (примерами из российской переписи могут служить пресловутые эльфы, орки и представители проч. игровых сообществ, пытавшихся вписаться в перечень национальностей; в других аналогичных случаях сходную роль играла queer nation).
Локальный или парокиальный характер европейских представлений о нации (выдаваемый, впрочем, за универсальный) отмечен и в рассуждениях известного специалиста по правам меньшинств, специального докладчика Комиссии ООН по защите прав меньшинств Асбьёрна Эйде. В одной из своих статей, названной им «Национальное общество, народы и этнонации: семантические затруднения и правовые последствия»72, он писал, ссылаясь на известное определение государственности в конвенции Монтевидео 1933 г., что в контексте международного права ее критериями являются: a) постоянное население; b) определенная территория; с) правительство; d) способность вступать в отношения с другими государствами. По его мнению, первый критерий государственности – «постоянное население» – эквивалентен
вконтексте международного права, а точнее совпадает
внем с понятием нации как «постоянно проживающего в границах государства населения, независимо от его этнического состава» («“национальность”, – может быть, излишне поясняет он, – означает гражданство»). Он пишет далее, что данная концепция нации возникла на Западе в XVIII в. и была по своей сути
концепцией территориальной, хотя и эволюциониро-
вала затем «в тандеме с правами человека»73. Важно было то, что все обитатели должны быть одновременно и гражданами, что означало, что гражданство не должно было рассматриваться как привилегия, основанная на рождении или богатстве, но принадлежало всем (это стало основным принципом Французской
72Eide Asbjørn. National Society, Peoples and EthnoNations: Semantic Confusions and Legal Consequences // Nordic Journal of International Law. 1995. Vol. 64, No. 3. P. 353–367.
73Ibid. Р. 353.
революции 1789 г.). Это предполагало и предоставление всем избирательных прав, а впоследствии, за счет расширения объемов прав экономических и социальных – установление принципов демократии и открытого общества.
Таким образом, национальное государство должно было служить не целям монарха, аристократии или иных привилегированных классов, но предоставлять возможности для решений проблем всего населения. В этом отношении государство принадлежало гражданам, т. е. всем, кто проживал в его границах. «Оно, – как пишет Эйде, – являлось общей собственностью членов всех групп общества независимо от их этнической, конфессиональной или языковой принадлежности»74. Именно эти изменения привели к совпадению понятий «национальное» и «гражданское» («national and citizen»). Эйде затем утверждает, что основной проблемой в связи с понятием нации в международном праве стало смешение правового понимания нации с использованием этого понятия в историческом, социологическом, культурологическом или антропологическом значениях, поскольку, когда речь идет о курдах или тамилах как о нациях – нет речи о гражданстве – «это политическое использование термина», а фраза «“нация без государства” означает, что мы находимся в поле этнонационализма»75. Иными словами, устремления лидеров некоторых сообществ еще не превращают эти сообщества в нации, хотя такая политика в ряде случаев оказывается успешной и приводит если не к возникновению суверенных государств, то к существенному расширению прав местных автономий (наиболее показательными примерами здесь являются Гренландия и Нунавут).
Таким образом, не только теории воображения, но и схемы категоризации мира, включая концептуальные границы между субъектами и объектами, природой и обществом, людьми и животными, – все это имеет непосредственное отношение к концепту нации. В более практическом плане изложенное выше позволяет предположить, что успехи и даже само существование (пост)современных наций зависит от их постоянной работы по противодействию унифицирующим транснациональным факторам глобализации, от исходов их непрестанной борьбы с угрожающими им культурными, языковыми, конфессиональными, социальными, политическими, экономическими и мировоззренческими гетерогенностью и многообразием. Нескончаемые усилия и попытки со стороны национальных сообществ справиться с растущей гибридностью культуры, идеологии, населения, политического устройства и экономического уклада могут, однако, разбиться в прах, если классификационные устои и вера в их незыблемость, фундирующие представления о том, чем является нация, сами окажутся под вопросом.
74Ibid.
75Ibid. Р. 354.

ЧАСТЬ 2. СТАРЫЕ НАЦИИ В НОВОМ МИРЕ
Т.Б. Коваль
СОВРЕМЕННАЯ ИСПАНИЯ:
В ЛАБИРИНТЕ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ
Постановка проблемы
Проблема идентичности, а точнее – переплетения множества идентичностей, приобрела в современной Испании особую остроту. Сейчас от ее решения зависит будущее страны и, прежде всего, сохранится ли она в существующих границах, ведь перспектива выхода из ее состава Каталонии, а затем, возможно, и Страны басков становится достаточно реальной. Не случайно поэтому, по словам известного испанского историка Х.П. Фуси, в последнее время тема испанской идентичности, ее сущности и исторического развития заняла центральное место не только в политическом дискурсе, но и в научных дебатах1.
Почти четыре десятилетия Испания идет по пути демократизации, которая началась после смерти Ф. Франко в 1975 г. В сознании испанцев построение демократического общества оказалось тесно связано, с одной стороны, с переосмыслением общеиспанской идентичности, а с другой – с развитием этнонациональных, региональных и локальных идентичностей меньшего масштаба.
Сейчас Испания называется «государством автономий» и состоит из семнадцати «автономных сообществ», у которых есть свои правительства, флаги, гимны и гербы. Отношения с центром выстраиваются у каждой из них по-своему, поэтому степень автономии различна, как различно и соотношение общеиспанского и регионального самосознания. Иногда они гармонично сосуществуют, иногда противоречат друг другу. Другими словами, складывается пестрая мозаика идентичностей разной интенсивности, смыслового наполнения и масштаба. Все это вплетено в этнокультурный, экономический и политический контекст. Существенные различия в социально-экономиче- ском уровне развития регионов усложняют проблему и вносят в нее дополнительный смысл. Достаточно вспомнить лозунг каталонских националистов «Хва-
1Fusi J. P. La evolición de la identidad nacional. URL: http://www.fundacionfaes.org/file_upload/publication/ pdf/20130426110711espana-la-evolucion-de-la-identidad- nacional.pdf
тит кормить Испанию». Кроме того, испанские ученые отмечают, что в последние годы ситуация быстро меняется, и данные социологических опросов, полученные, например, пять лет назад, не соответствуют данным сегодняшнего дня.
Одна из важных особенностей Испании заключается в том, что далекое прошлое не исчезло, но продолжает сохраняться в настоящем и влиять на него. В современном контексте «ретро» ссылки используются для обоснования демократических достижений
ипреобразований, соответствующих децентрализации и наиболее полному соблюдению прав человека и автономных сообществ.
Особая сложность в изучении идентичностей в Испании связана и с неоднозначным толкованием понятий «нация» и «национальность». Сейчас, согласно конституционным положениям, под нацией понимается испанская государственно-политическая общность, т. е. по Конституции допускается использование этого термина только и исключительно для обозначения всей Испании. Другими словами, нация официально понимается только как nation-state. Каталонцы, баски и галисийцы официально определяются как «национальности», все остальные – как региональные общности.
Однако в последние годы «национальности» стали определять себя как «нации», заявляя о своем праве на самоопределение вплоть до отделения, а многие региональные сообщества захотели повысить свой статус до «национальности». Естественно, что центральные власти не хотят допустить развития этого процесса, справедливо усматривая за подобными стремлениями политическую игру местных элит и растущий региональный эгоизм, разрывающий страну на части.
Путаница в понятиях «нация» и «национальность» возникла очень давно. С античности, через средневековую эпоху, вплоть до конца XVIII в. под нациями в Испании подразумевались населяющие ее народы, объединенные общим языком, культурой, обычаями
итрадициями2. С развитием в конце XIX в. нацио-
2Показательно, что испанские этнологи, как, например, Х. Каро Бароха, в своем труде «Народы Испании»
57

налистических партий и движений в Каталонии и Стране басков стала развиваться идея об угнетении их «наций» со стороны центрального правительства. В 30-е годы ХХ в., особенно в эпоху II Республики (1936–1939 гг.), путаница в понятиях нация и национальность усилилась, во многом благодаря испанским социалистам и коммунистам, которые в русле марксистско-ленинского мировоззрения считали, что в Испании существует господствующая кастильская нация и национальные меньшинства – каталонцы, баски и галисийцы, которые ведут борьбу за свои права3. На работы лидеров компартии Испании и ориентировались советские ученые, полагая, что они наиболее объективно отражают реальность.
Ирония истории заключается в том, что эта, как кажется некоторым отечественным исследователям, устаревшая марксистская точка зрения обретает новое дыхание в самой Испании. Во многом потому, что именно коммунисты не только смыкаются с националистическими партиями в регионах, но и становятся их рупором. Так, например, запрещенная баскская террористическая организация Herri Batasuna нашла выразителя своих идей и интересов в коммунистической партии басков, через которую проводит свои идеи в баскском парламенте. При этом коммунистическая риторика сохраняется, и возникает идея борьбы басков как особой нации за свои права против угнетателей из Мадрида.
Различное понимание терминов «нация» и «национальность» применительно к Испании сохраняется как в работах отечественных ученых, так и в трудах зарубежных исследователей, и среди экспертов Европейского Союза4. И это не случайно, ведь мы имеем дело с очень сложной реальностью, дышащей, изменяющейся, дальнейшая траектория развития которой непредсказуема. Многое зависит от политической конъюнктуры, экономической ситуации, амбиций и ловкости политических лидеров в центре и регионах. Необходимо учитывать также влияние глобализации и интеграции Испании со странами Евросоюза.
Идентичности сквозь призму истории
Чтобы подойти к анализу современной ситуации, рассмотрим в самом кратком виде наиболее важные, сохраняющиеся на протяжении многих веков тенденции и основные вехи развития как локального, так и общеиспанского самосознания.
употребляет понятие «нация» как синоним региональной общности, специально оговаривая, что так и было принято в Испании до того момента, как под влиянием Французской революции под нацией в XIX в. стали понимать в первую очередь nation-state.
3Таков взгляд, например, знаменитой Пассионарии. См.: Ibarruri D. Espana – estado multinacional. Paris, 1971.
4См. об этом: Кожановский А.Н. Государственная идентификация по-испански // Испания: Анфас и профиль / под ред. В.Л. Верникова. М.: Весь мир, 2007.
Если окинуть взглядом испанскую историю, то можно увидеть, что центростремительная тенденция, стягивавшая народы полуострова в единую общность и находившая свое выражение в общей идентичности, никогда не побеждала центробежные силы, связанные с локальными чувствами и самосознаниями разного уровня и масштаба. Конечно, в любой стране и в любую эпоху у людей сохраняется привязанность к «малой родине», месту рождения, родному языку или диалекту, культурным традициям. Но в Испании, пожалуй, как нигде прочными оказались территориальные связи регионального масштаба, так называемый регионализм. Даже самые жесткие методы централизации и унификации не могли сломить тяги регионов к сохранению самобытности. В результате две тенденции: интеграции Испании в единое целое и региональной дифференциации находились как бы в пульсирующем равновесии, попеременно выходя на поверхность. Испанские социологи в эпоху позднего франкизма сравнивали чередование двух тенденций с приливами и отливами разной силы, в зависимости от исторического контекста, убеждая власти признать региональную идентичность, которая никуда не делась даже после многих десятилетий политики централизации и унификации5.
Но почему она оказалась столь устойчива? По каким причинам с конца XIX – начала ХХ в. в Испании стал бурно развиваться не только «периферийный» национализм трех этнических общностей – басков, каталонцев и галисийцев, но и регионализм остальных? Над вопросом о причинах устойчивости локальной идентичности задумывались все испанские мыслители ХХ в. Х. Ортега-и-Гассет (1883–1955) посвятил этой проблеме свою работу с характерным названием «Беспозвоночная Испания». По его словам, сказанным еще в 1922 г., «партикуляризм», при котором каждая часть страны живет сама по себе, – вот слово, которое как нельзя лучше характеризует современное положение дел, отражая наиболее глубокую и тяжелую проблему6. Эти слова не потеряли своей актуальности и в наши дни.
Его современник Сальвадор де Мадариага (1886– 1978) полагал, что виною всему страстный темперамент испанцев и их склонность к анархии, при которой каждый сам себе голова. В результате «все регионы испытывают соблазн центробежных сил иберийского сердца»7. Индивидуализм настолько силен, что «значимость Испании как целого меньше суммы значимости отдельных испанцев», собрать же всех воедино может «лишь сила высшей страсти», великая идея и предприятие8. Сравнивая испанцев с англичанами, он
5Informe sociológico sobre la situación social de Espana. Fundación FOESSA. Madrid, 1970. P. 1261.
6Ortega y Gasset J. Espana inbertibrada. Madrid: Revista de Occidente en Alianza editoral. 1981. P. 47.
7Мадариага де С. Англичане, французы, испанцы / пер. с
англ. СПб.: Наука, 2003. С. 152.
8Там же. С. 116.
58
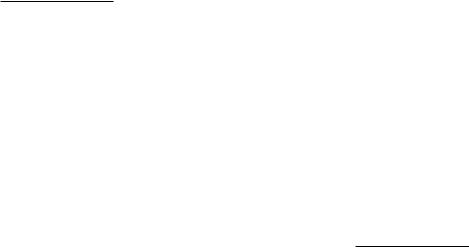
отмечал, что «Как в Америке Соединенные штаты на севере встретились с испанскими «разъединенными» штатами на юге, так и в Европе английскому Соединенному королевству соответствует испанский разъединенный полуостров»9.
Так что, происходящее ныне лишь повторение уже пройденного? Или оно наполнено новым содержанием? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим основные этапы формирования общеиспанской идентичности и регионального самосознания.
Если история локального самосознания уходит
втуманную глубину тысячелетий, то точка отсчета формирования общеиспанского самосознания ясна и определенна. Она связана с объединением испанских народов под властью Рима10. По крайней мере три мощных фактора стягивали древнюю Испанию11 воедино. Во-первых, само наличие центральной власти
влице Рима12. Во-вторых, латинское и римское гражданство, уравнивающее всех граждан перед единым для всех частей Империи законом13. В-третьих, романизация языков и культуры.
Вэту эпоху среди городского населения утвердилось чувство причастности к Римской империи как огромному единому целому. А вот принадлежность к Испании, точнее «испанской части» Империи, а тем более провинциям, образованным внутри полуострова, практически не ощущалась14. С III в. все свободное население Испании не только называлось римлянами, но так само себя и идентифицировало15. Показательно,
9Мадариага де С. Англичане, французы, испанцы. С. 152.
10Римская эпоха продолжалась более шести столетий – с конца III – начала II в. до н. э. до вторжения варваров в самом начале V в.
11Начиная с римской эпохи для обозначения территории полуострова в эпоху античности употреблялся термин Hispania (в противоположность современному España). Также территория всего Пиренейского полуострова часто называлась Иберия. Греки называли ее Гесперия
(Hesperia) Дальняя.
12Изначально, во II в., Испания была включена в римскую провинциальную систему в качестве двух провинций (Испании Ближней и Испании Дальней), а затем к IV в. число провинций увеличилось до шести.
13В 74 г. император Веспасиан в качестве благодарности за поддержку в сложной для него ситуации даровал всем жителям полуострова так называемое латинское право. Оно представляло собой нечто среднее между статусом перегрина и полноценным римским гражданством, которое позже получили все жители территорий, входивших в Римскую империю, благодаря эдикту императора Каракаллы в 212 г.
14По словам Страбона, сказанным после 200 лет римского господства, племена турдетанов, как и многие другие, «совершенно переменили свой образ жизни на римский и даже забыли свой родной язык. Большинство из них стало римскими гражданами.., так что почти все они обратились в римлян» (Strab. III.4.20).
15Кофанов Л.Л. Римское право в Испании до VI в. //
что «латинские классики, которые были родом из Испании, – Сенека, Квинтилиан, Марциал – не особенно ощущали свои испанские корни»16. То же самое, видимо, можно сказать и об императорах Траяне, Адриане, Марке Аврелии – выходцах из Испании. В этом отношении можно согласиться с мнением тех историков, которые видят в Римском гражданстве «античный прообраз национальности Нового времени»17.
Но была и оборотная сторона этих процессов, укреплявшая локальное самосознание. Романизация была крайне неравномерной. В наибольшей степени были романизированы южные и восточные части полуострова, в то время как север и северо-запад были почти не затронуты. Свой особый язык, не входящий ни в одну группу языков, сохранили лишь баски. Административное деление на провинции проводилось с учетом природных барьеров, которые отчасти совпадали с границами проживания древних племен. В итоге были созданы условия для закрепления многих локальных общностей. Так, племена гальегов стали жителями римской провинции Галлеции, а впоследствии галисийцами со своим особым языком гальего, развившемся на основе местного варианта вульгарной латыни. Племена лузитанов стали населением провинции Лузитании, впоследствии португальцами. Почти вся римская провинция Бэтика с ее уже тогда пестрым населением дойдет до наших дней в качестве Андалусии. Кроме того, римляне разделили территорию Испании на муниципии – самоуправляющиеся общины (с ограниченными правами) из нескольких поселений и городов, границы которых практически сохранились до сегодняшнего дня18.
С IV в., после легализации христианства при императоре Константине и превращении его в 380 г. в единственно дозволенную религию при императоре Феодосии, (он, кстати, родился в маленьком испанском городке Кока), религия становится важнейшим фактором объединения народов полуострова, дополняя государственное, правовое, культурно-языковое объединение. К моменту распада Римской империи у населения полуострова уже было весьма развито общее самосознание – как римлян и как христиан. Другими словами, два элемента – гражданский и религиозный стали играть основополагающую роль в формировании общеиспанской идентичности.
Вестготская правда (Книга приговоров). Латинский текст. Перевод. Исследование. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2012. С. 28.
16Висиано-и-Вивес А. Христианство в римской и вестготской Испании: история и традиции // Проблемы испанской идентичности в контексте глобализации. Екатеринбург: УрО РАН, 2007. С. 15.
17Этносы и «нации» в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время / под ред. Н.А. Хачатурян. СПб.:
Алетейя, 2015. С. 41.
18Merchan Fernandes C. El munucipio hispano-romano en la Baetica. Madrid, 1983. dialnet.unirioja.es/descarga/ articulo/813961.pdf
59
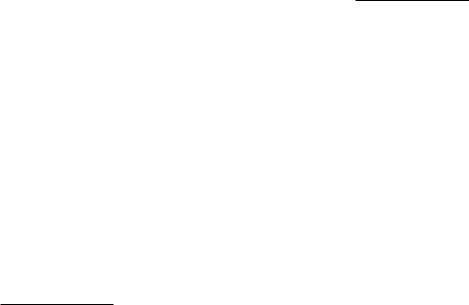
Вторжение варваров в самом начале V в. изменило расклад сил. Особенность испанской ситуации заключалась в том, что после опустошительной первой волны (вандалов, аланов и свевов) другое варварское племя, вестготов, было призвано римлянами в качестве федератов на помощь. Поэтому вестготы воспринимались местным населением отчасти как «чужаки», которым нужно сопротивляться, а отчасти как «свои», потому что именно в них видели защитников и гарантов спокойствия в ту смутную эпоху. Так вестготы оказались на положении «старшего брата». Было создано огромное Вестготское королевство с центром
вТоледо, которое испанская историография называет «первым национальным государством».
Его отличительной особенностью была тесная связь светской и духовной властей, благодаря чему религиозный элемент сыграл огромную роль в формировании новой идентичности, закрепленной в «Вестготской правде»19. Церковь не только подчеркивала свое «совместное правление» со светской властью, но делала все возможное для политического и духовного объединения народов полуострова. Сначала усилиями католических епископов вестготы были обращены в ортодоксальное христианство (к моменту вторжения
вИспанию они были арианами). Это позволило пропагандировать смешанные браки между испано-рим- лянами и вестготами, дав толчок их ассимиляции. Затем католическая религия сделалась официальной, а потом и единственно возможной20. Светская и церковная элита сознательно формировала новую «готскую» идентичность, (хотя вестготы составляли не более 4 % населения полуострова). Широко использовалось противопоставление «мы – они». «Мы» означало как политическую общность «готов» (вне зависимости от их происхождения – автохтонного или вестготского), так и конфессиональную общность – христиан, паству католической церкви. Король воспринимался и как политическая, и как религиозная сакральная фигура, его именовали «исполненным божественного духа», «равноапостольным», «пастырем народов» Испании. Роль «другого» исполняли враги королевства и иноверцы, прежде всего евреи21.
19См. подробнее о роли Вестготской правды в формировании общего правового поля и политической идентичности вестготов в: Вестготская правда (Книга приговоров). Латинский текст. Перевод. Исследование. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2012.
20Этот процесс начался с постановлений III Толедского Собора в 589 г. и завершился постановлениями VI Толедского Собора (638 г.), согласно которым в вестготском королевстве было запрещено жить всем, кто не исповедует католическую веру.
21Временами их насильственно крестили, а постановления XVII Толедского Собора (694 г.) и вовсе сделали их положение невыносимым: предусматривалась конфискация имущества, продажа в рабство, причем рабовладельцы должны были следить за тем, чтобы их новые рабы соблюдали христианские обряды, а дети
Особую роль в формировании новой идентичности сыграл св. Исидор Севильский, по происхождению испано-римлянин22. В духе своей эпохи он обосновал благородство готов (деление на вестготов и остготов было ему неизвестно) происхождением от библейского Магога. Но главное – он создал теорию, согласно которой готы завоевали Испанию силой, а потом горячо полюбили ее. А испано-римляне завоевали готов духовно – своей высокой культурой, языком и католической религией23. Их общая родина – прекрасная Испания24. Св. Исидор был первым, кто воспел Испанию как единое целое, хотя словоупотребление во множественном числе – «Испании», а не Испания, было в то время также широко распространено, свидетельствуя об этнокультурном разнообразии народов полуострова.
На следующем историческом этапе, связанном с арабским завоеванием и Реконкистой25, продолжавшейся почти восемь веков (711–1492), противостояние мусульманам с определенного момента стало осознаваться и как борьба за восстановление Вестготского королевства, и как «крусада», крестовый поход в защиту христианской веры26. Как отмечает Х. Каро
отбирались и передавались на воспитание в христианские семьи. Даже крестившиеся евреи были поставлены под жесткий контроль.
22О роли св. Исидора Севильского в формировании общего вестготского самосознания см., напр.: Fontaine J. Isidoro de Sevilla. Génesis y originalidad de la cultura hispánica en tiempos de los visigodos. Madrid: Ediciones Encuentro, 2002.
23Об этом см.: San Isidoro. Doctor de las Espanas. Madrid: Caja Duero, 2003. P. 140–167.
24«О, священная Испания, вечно счастливая мать вождей и народов, прекраснее ты всех земель от запада до самых индусов. Ты теперь по праву царица всех провинций, излучающая свет не только западу, но и востоку. Ты – честь и краса мира, славнейший край земли,
вкотором изобильно процветает в великой радости (...) Уже в давнее время тебя законным путем полюбил златой Рим, глава народов, и хотя в первый брак тебя взяла эта римская доблесть, однако процветающее готское племя после многих побед по всей земле захватило тебя силой и полюбило, и до сих пор наслаждается прочной властью среди царских островов и многих богатств»
(URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus/Isidor_S/ frametext.htm).
25Сам термин «Реконкиста» – обратное отвоевание христианских земель у мусульман – возник в конце XVIII в. как раз в связи с растущим интересом к испанской идентичности. Арабское завоевание Испании началось в 711 г., а обратное отвоевание – Реконкиста в 718 (722) г., когда произошла битва при Ковадонге и христиане одержали первую победу.
26На первых этапах Реконкисты относительно мирно сосуществовали друг с другом испанцы-христиане; арабы и берберы, исповедовавшие ислам, муввалады (испанцы-христиане, принявшие ислам), мудехары (мусульмане, оказавшиеся в отвоеванных христианами
60
