
- •Глава IV
- •1. Скульптура как вид изобразительного искусства
- •2. Скульптурные материалы и техники
- •3. Круглая скульптура и рельеф
- •4. Разновидности скульптуры
- •5. Жанры скульптуры
- •6. Выразительные средства скульптуры
- •7. Вместо заключения
- •Глава V
- •1. Графика как вид изобразительного искусства
- •2. Особенности восприятия произведения уникальной графики
- •3. Место уникальной графики в изобразительном искусстве
- •4. Материалы и выразительные средства уникальной графики
- •5. Художественные техники, обладающие признаками графики и живописи
- •Глава VI
- •1. О рациональном анализе и эмоциональном восприятии
- •2. Книжная графика
- •3. Эстамп
- •4. Плакат
- •Глава VII
- •1. Общие сведения об архитектуре. Основные понятия и термины
- •2. Польза. Функция. Виды архитектуры и типы зданий
- •3. Прочность. Строительные материалы и конструкции. Тектоника. Ордерная система
- •4. Красота. Архитектурный образ. Образно-композиционные средства. Стиль в архитектуре
- •5. Анализ архитектурной композиции
- •I курс
- •Глава VIII
- •1. История. Понятия. Термины
- •2. Образ
- •3. Форма и функции
- •4. Материал и технология
- •5. Конструкция и тектоника
- •6. Декор. Цвет. Орнамент
- •7. Стиль. Мода. Вкус
- •8. Принципы анализа и критерии оценки
- •Глава IX
- •Глава X
- •1. О природе музыкального искусства
- •8 Re_ con_ci -li - a - vit pec _ ca -to _ res. 4. Die no _ bis Ma-dux VI-tae mor_tu _ us re-gnat VI _ vus. 6. An_ge _ li _ cos
- •8 Ri _ a, quid VI _ di _ sti in VI _ a? 5. Se _ pul _ crum
- •8 Chri_ sti VI _ ven tis, et glo _ ri _ am VI _ di re_
- •2. Исполнительская интерпретация музыкального произведения
- •3. Произведение — слушатель: диалоги
- •Глава XI
- •6. Работа с письменными источниками.
Казанского собора в Санкт-Петербурге, отражают иной подход, однако и в этом случае важно отметить наличие определенной системы за-кономерностей построения формы, получившей развитие в скульптуре конца XIX— начала XX века, например, в творчестве М.М. Анто
кольского. Таким образом, принципы организации пространства в рельефе, зародившиеся в одну историческую эпоху, принимаются другой, адекватно выражая присущие ей представления о передаче пластической формы.
Искусство рубежа XVIII и XIX веков со свойственным ему многообразием стилистических тенденций порождает в рельефах, предназначенных для одного архитектурного сооружения и построенных по общим законам передачи глубины в пределах основных планов, использование различных композиционных приемов, ритмического строя, пластической обработки поверхности. Так различаются между собой рельефы И.П. Мартова и И.П. Прокофьева на аттиках Казанского собора, отражающие. классицистические и романтические принципы трактовки библейских сюжетов из истории Моисея. Вот как описывает их автор монографии «Русские Монументальные рельефы» А.Г. Ромм: «Героическое начало ярче выражено во фризе Мар-тоса. Оно даже подавляет основную тему исцеления. Группа юношей, готовых к самопожертвованию, с протянутыми вперед руками как будто произносит торжественную клятву. Моисей, величественный и властный, возвышается над народом. Прокофьевым Моисей поставлен на том же уровне, как и остальные фигуры: он исполнен сострадания. Фриз Мартоса привлекает прежде всего своей величавостью, "Медный змий" — глубиной человеческого чувства, особой трогательностью. Герои Мартоса сохраняют твердость духа и в страданиях. Прокофьев же главным образом передает такие человеческие чувства, как любовь и сострадание. И на том, и на другом фризе есть изнеможенные и умирающие, есть их поддерживающие и несущие. Но у Мартоса некоторые фигуры похожи на изваяния, в их позах есть что-то застывшее. Композиция, расчлененная с исключительным мастерством, точно рассчитана. Прокофьев более непосредственно выражает свои чувства. Он стремится прежде всего к жизненности образа, к известной непринужденности, но из-за этого и не достигает той же четкости и ясности композиции, как более сдержанный Мар-тос. У Мартоса отдельные группы выделяются на гладком фоне, у Прокофьева они не столь строго разграничень, поэтому его фриз труднее "прочесть", но этот недостаток возмещается эмоциональностью» (Ромм А.Г. Русские монументальные рельефы. М., 1953. С. 54—55).
Круглая скульптура и рельеф порой сочетаются в одном произведении. Сохранившимся до наших дней примером такого сочетания может служить так называемый «Збручский идол» — столпообразная, 246
объемно-пространственная форма которого го четырем граням покрыта плоскостными рельефами, раскрывающими глубинные представления первобытного человека о системе мироздания.
Совмещение форм круглой скульптуры и рельефа характерно для городских монументов и надгробий, когда рельефу отводится роль своего рода комментария, дополнения, способствующего более полному раскрытию содержания памятника. Эту функцию исполняют изображения Полтавской и Гангутской битв на пьедестале растрел-лиевского памятника Петру I. За «лепление» их по эскизам М.И. Козловского, стилизованным под петровскую эпоху, с присущими Растрелли перспективными принципами передачи пространства в скульптуре были удостоены золотых медалей его ученики: Демут-Ма-линовский, Моисеев и Теребенев. Формы классического академического рельефа, в которых работали педагоги и воспитанники Академии конца XVIII — начала XIX века, с его строгой системой расчетов вертикальных и горизонтальных членений и уплощения планов, соблюдением единства плоскости оказались неприемлемыми в сочета
нии с историческим монументом.
В основу эскизов Козловского были положены приемы построения рельефов КБ. Растрелли для триумфального столпа в честь петровских побед. Они также создавались по законам линейной перспективы, но фигуры первого плана вылеплены с большей объемностью, что способствует созданию иллюзии глубины пространства. Итогом этой своеобразной стилизации стало столь убедительное единство монумента, рельефы которого раскрывают образ Петра-триумфатора, созданный КБ. Растрелли, что в 1950-х годах именно ему приписывали исполнение их моделей (Там же. С. 38).
4. Разновидности скульптуры
По своим размерам, материалам, функциям, конструкциям, скульптура разделяется на группы: монументальную, монументально-декоративную и станковую. Границы эти достаточно условны и даже не всегда совпадают с основными, определяющими их понятиями «монументальность», «декоративность», «станковизм». Однако принятая дифференциация в определенной степени упрощает решение вопросов описания и анализа, поэтому воспользуемся ею и мы.
Монументальная скульптура как самостоятельная разновидность выделяется благодаря преобладанию в ней таких функций, как социальная, мемориальная, просветительская, воспитательная. Важнейшее ее качество — монументальность определяется размерами, пропорциями, связью с окружающей архитектурной средой, материалом, его фактурой. Монументальная скульптура, создающаяся с уче
том восприятия на значительном расстоянии, статуарна по своему ха-


рактеру, что является результатом художественного обобщения, отнюдь не сводящегося к отказу от передачи деталей, но к их соподчи-ненности главенствующим формам. Синонимом монументальной скульптуры часто является определение «памятник», монумент, установленный в память героя или исторического события.
Свидетельством социальной детерминированности скульптуры служит «Ленинский план монументальной пропаганды», осуществление которого породило массу произведений различного художественного уровня из «временных», непрочных материалов. Лишь немногие из них, такие, как бюсты Ф. Лассаля, работы В.А. Синайского, Ф.И. Шубина, В.О. Шервуда, мемориальная доска С.Т. Коненкова «Павшим в борьбе за мир и братство народов» стали подлинными памятниками искусства. Анализ их сейчас не входит в нашу задачу. Важен сам факт небывалых со времен древности масштабов выражения социальной функции монументального искусства.
Один из крупнейших русских теоретиков искусства XVIII столетия, конференц-секретарь Академии художеств, П.П. Чекалевский дал такое определение: «Предмет, какой скульптура со стороны нравственной себе предполагает, есть тот, чтоб сделать на веки незабвенною память великих людей, представляя нам в них пример добродетели: ибо мы видим в статуе Императора Петра Великаго знаменитой почтения памятник, воздвигнутый, яко благодетелю отечества». (Чекалевский П.П. Рассуждение о свободных художествах... СПб., 1997. С. 39.) Типичным примером монументальной скульптуры может служить памятник Минину и Пожарскому в Москве работы И.П. Мартоса. В посвященном ему альбоме со вступительной статьей А.Л. Кагановича детально анализируются использованные скульптором позы, жесты фигур, их костюмы, атрибуты, раскрывающие содержание памятника. Жест простертой над площадью руки Минина словно расширяет реальные границы скульптурной массы монумента. Обращенный к Пожарскому, он адресован толпам людей, призываемых на защиту отечества. Этот жест служит средством объединения зоны, об
разуемой двумя фигурами и пространством Красной площади.
А.Л. Каганович акцентирует внимание на роли пьедестала в общем образном решении монумента, пишет о том, как настаивал И.П. Мартос на применении именно гранита, а не мрамора, на необходимости использования монолитного, единого блока, дополненного бронзовыми рельефами, не только более детально раскрывающими содержание памятника, но и своим материалом, размерами, ритмом пластических форм способствующими формированию целостного художественного образа монумента (Каганович А.Л. Скульптор Мартос. Памятник Минину и Пожарскому. М., 1990. С. 112—113).
История создания и бытования памятника Минину и Пожарскому, его высочайший уровень художественного обобщения позволяют в 248
рассказе о нем затронуть еще один важный аспект, связанный с его мемориальной функцией. Сооруженный в честь героев народно-освободительной войны 1612 года, он стал и символом победы в 1812 году над наполеоновской армией. Аналоги мы можем увидеть и в других, наиболее выдающихся произведениях монументального искусства.
Монументальная скульптура может существовать и в формах рельефа, когда значительность раскрываемой ею темы, глубина художественного обобщения, масштаб всего изображения превалируют над архитектурной формой, подчиняют ее. Примером такой парадоксальной ситуации служит Пергамский алтарь, архитектура которого выступает в качестве пьедестала.
Монументально-декоративная скульптура функционально определяется уже самим ее названием. Обладая качеством монументальности, она играет преимущественно декоративную роль: например, скульптура парковая или орнаментальная, украшающая фасады зданий.
По своей мемориальной функции и образному строю наиболее близка монументальной надгробная скульптура, которая иногда рассматривается как самостоятельная типологическая группа. Она обычно связана с архитектурными элементами, имеющими не только конструктивное, но и символическое значение (стела, пирамида, обелиск, саркофаг, колонна).
Особенно очевидна общность мемориальной скульптуры с монументальными сооружениями в так называемых мемориалах, грандиозных архитектурно-скульптурных ансамблях, посвященных памяти жертв Первой и Второй мировых войн. Они обладают сходными функциями и призваны утверждать значительные социальные идеи, служить основой организации большого пространства исторической зоны.
Памятник героическим защитникам Ленинграда, созданный архитекторами С.Б. Сперанским, В.А. Каменским и скульптором М.К. Аникушиным, замыкает одну из центральных магистралей города. Сооруженный на месте, где проходил рубеж обороны в годы Великой Отечественной войны, он является не только мемориалом, но и открывает въезд в город со стороны Москвы. К Пулковским высотам обращены скульптурные группы, доминирующие в его образной концепции. Со стороны города видны лишь обелиск и стена, облицованная гранитом. Бронзовые скульптуры, изображающие защитников города, размещены в двух пространственных зонах, образованных архитектурными объемами, и строятся в смысловом и композиционном соответствии с ними, раскрывая символическое значение обелиска, формы разорванного кольца и пантеона.
Многофигурные группы «Фронт и тыл» не только воплощают образы ленинградцев, прорвавших кольцо блокады, но уже самим ком-
249

оказывается весьма непростой. Потребовалось специальное «объяснение в экспрессии», которое было установлено рядом с надгробием, явившимся смысловым и композиционным центром Голицынской больницы.
Монументально-декоративной называют и скульптуру, непосредственно связанную с архитектурными сооружениями, украшающую, декорирующую их. Пластика на фасадах зданий или на стенах и потолках в интерьерах служит важнейшим средством раскрытия значения постройки, создания ее единого, синтетического по своему характеру художественного образа. Ансамбль Адмиралтейства в Санкт-Петербурге может служить одним из наиболее ярких примеров взаимодействия скульптурных и архитектурных форм. Темы единения стихий — Воды, Земли и Неба — и утверждения России как морской державы раскрываются средствами монументально-декоративной скульптуры через аллегорию, ретроспективную аналогию, исторический (в понимании конца XVIII — начала XIX в.) рельеф. В расположении скульптуры сохраняется идущий от древнерусской традиции иерархический принцип, а ее объемно-пластическая моделировка и степень обобщения форм обеспечивают «прочтение» сюжетов зрителем на значительной высоте.
Парковая скульптура как особая разновидность монументально-декоративной бывает представлена статуарными аллегорическими и мифологическими изображениями, бюстами, произведениями анималистического рода, декоративными вазами, а порой беспредметными пластическими формами. Иногда декоративные функции парковой скульптуры придаются бронзовым отливам или мраморным копиям с произведений античного искусства, первоначально игравших совершенно иную роль, создававшихся для восприятия в иной пространственной системе. Достаточно напомнить скульптуру в ансамбле 12 дорожек Павловского парка или Большого каскада в Петергофе.
В начале XVIII столетия в России начинают появляться сочинения европейских авторов по вопросам паркостроения и использования скульптуры в садах. В них содержатся обстоятельные рекомендации относительно формирования ансамблей за счет размещения статуй и бюстов, объединенных общей сюжетно-тематической программой. Аллегорические и портретные мраморные бюсты, станковые по своему характеру, но обладающие качествами декоративности, образуют в петровскую эпоху на площадках Летнего сада в Санкт-Петербурге циклы, призванные осуществлять преимущественно просветительную функцию, впоследствии утраченную и замещенную в силу исторических условий декоративной, гедонистической и мемориальной.
Станковая скульптура, получившая свое название от скульптурного станка, на котором она создается, предназначена для установ-
позиционным строем, ритмом нарастающего от центра движения создают общий эмоциональный тон, созвучный ритму подъема по пологим ступеням к подножию обелиска, у основания которого на прямоугольном пьедестале установлены фигуры рабочего и воина. Эти изображения более монументальны, хотя решены в единой для всей скульптуры ансамбля, свойственной М.К. Аникушину пластической манере. Монументализация образов достигается за счет четкой масштабной соотнесенности с архитектурным пространством, размером и пропорциями его членений, симметричности постановки диагонально расположенных фигур, передающих не внешнее движение, а потенциальную возможность его.
Олицетворением трагедии города, осмысленной и воплощенной скульптором как трагедия человечества, стала композиция в центре нижнего круглого зала. Не случайно ее обычно называют «пьета», отдавая тем самым дань высочайшему уровню художественного обобщения, достигнутому в этом произведении М.К. Аникушиным.
Более интимно содержание надгробных сооружений, посвященных памяти отдельного человека. Расцвет мемориальной скульптуры в России приходится на конец XVIII — начало XIX века, когда в этой сфере работали такие мастера, как Ф.Г. Гордеев, И.П. Мартос, М.И. Козловский. Их произведения отличаются типологическим многообразием, широтой использования изобразительных мотивов, глубиной художественного воплощения мемориальной темы. Эволюция надгробия в пределах этого периода отражает общее изменение соотношения скульптурных и архитектурных форм эпохи классицизма. Примером в этом плане могут служить произведения Ф.Г. Гордеева, исполненные для семьи Голицыных.
Памятник Н.М. Голицыной (1780. Голицынская усыпальница Донского монастыря в Москве) представляет собой рельеф с фигурой плакальщицы на нейтральном фоне, не разработанном в глубину, хотя присутствующие в нем архитектурные и декоративные элементы изображаются по законам линейной перспективы.
Следующий памятник A.M. Голицыну (1788. Благовещенская церковь Александро-Невской Лавры) является архитектурно-скульптурной композицией, увенчанной профильным портретным медальоном. Аллегорические фигуры, включенные в нее, строятся в соответствии с принципами классического античного рельефа. Их формы уплощаются в соответствии с архитектурными членениями, образующими пространственные планы, находящиеся в «золотом» отношении друг к другу.
В памятнике Д.М. Голицыну (1799. Голицынская больница в Москве) связь между отдельными его частями — обелиском, расположенным на его фоне на цилиндрическом постаменте мраморным портретным бюстом и аллегорическими фигурами в сложных позах — 250

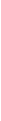

героя или его трактовка, выражающаяся в позе, жесте, детальном анализе форм, в проработке поверхности.
Качествами станковизма может обладать и рельеф. Вспомните восковые рельефы Ф.П. Толстого. Они рассчитаны на восприятие с очень незначительного расстояния, предназначены для рассматривания вблизи, для того, чтобы держать их в руках и не только понять сюжет, но и увидеть точнейшую моделировку форм, почти живописные переходы от одного плана к другому. При этом следует отметить роль темы, определяющей пластическое решение, преобладание в одних случаях графического, а в других — живописного начала.
Не случайно героическая тема войны 1812 года впоследствии была столь органически повторена в уменьшенных (медали) и увеличенных (рельефы Александровского зала Зимнего дворца) вариантах, в то время как рельефы античного цикла существует в наследии Ф.П. Толстого лишь на уровне блестящей интерпретации, пластической иллюстрации «Одиссеи» Гомера.
Таким образом, далеко не у всякого станкового произведения можно изменить размер без утраты его художественных достоинств, подобно тому, как, будучи уменьшенным, теряет свои художественные качества памятник монументальной скульптурь. Вот почему столь отличны станковые композиции скульптурных групп коневожатых П.К. Клодта от повторений его монументальных композиций для Аничкова моста, исполненных другими авторами. Они различаются как оригиналы и уменьшенные копии.
По преимуществу станковым жанром является портрет, но условия его бытования весьма сложны. В том случае, когда представленный в нем персонаж достаточно широко известен, по прошествии времени начинает преобладать мемориальная функция. Иногда, спустя века или даже тысячелетия, в памяти потомков сохраняется имя модели, а не автора. Вспомните портреты Перикла, Сократа и т. п. Они со-масштабны человеку по многим параметрам, начиная с размера, а потому адекватны интерьеру любой эпохи. Они станковы не только по размерам, способу моделировки поверхности, не и по своей функции.
Как особая разновидность станковой скульптуры выделяется мелкая пластика. Функции ее достаточно широки: от амулетов-оберегов древнейших времен до современных настольных украшений. В это понятие не совсем справедливо включают иногда и миниатюрные произведения глиптики (резьбы на камне), камеи (на многослойных камнях или раковинах), инталии (на камнях с углубленным изображением), металлические плакетки и произведения нумизматики. Все это особая область скульптуры, во многих отношениях связанная с декоративно-прикладным искусством, требующая и от художника, и от зрителя отношения к ней не просто как в мелкомасштабному рельефу, но как к самостоятельной области пластического творчества.
ки в общественных и частных интерьерах. При этом она порой отличается от монументальной лишь размерами, хотя по сути своей образует особую разновидность и должна обладать самостоятельными, присущими только ей качествами и выразительными средствами.
Во второй половине XIX — первой половине XX века модели монументальных произведений или их уменьшенные копии часто служили настольными украшениями, но предметный мир письменного стола того времени с его массивным чернильным прибором, в оформлении которого широко использовались элементы ордерной архитектуры, с миниатюрами или фотографиями в рамках — особый мир, в пределах которого сохранялась масштабная соотнесенность скульптуры с окружающими ее вещами.
Подлинные качества станковизма далеко не исчерпываются размерами произведения. Рассчитанная на восприятие с близкого расстояния, станковая скульптура требует от автора детального анализа форм, их более тонкой моделировки, особого внимания к фактуре материала, способам его обработки, но главное — только станковому произведению в полной мере доступно осуществление одной из важнейших функций изобразительного искусства — функции общения со зрителем.
Станковая скульптура обычно не предназначается для конкретного интерьера, однако сюжет и размер определяют условия ее экспонирования. Примерами станковых композиций могут служить многочисленные скульптурные группы Е.А. Лансере, изображающие всадников, скачущих воинов, охотников. В этих произведениях, явившихся порождением социально-исторической ситуации России конца XIX столетия, наглядно прослеживается их соотнесенность с общим масштабно-пропорциональным строем интерьеров того времени, стилем эпохи, когда станковизм становится одной из определяющих его характеристик.
«Амур» Э.М. Фальконе, исполненный для будуара мадам де Помпадур в середине XVIII века, получил очень широкое распространение, будучи тиражированным в бисквитном фарфоре и мраморе не только в свою эпоху, но и впоследствии. «Фальконетов мальчишка» оказался созвучным, сомасштабным и своему времени, и XIX, и XX столетиям. Он вполне органично может существовать и сегодня, причем не только в музейной экспозиции. Этого никак нельзя сказать о многих станковых работах, отягощенных конкретными приметами своего времени, как, например, «Крестьянин в беде» М.А. Чижова или даже об антикизированных, героизированных произведениях, подобных «Русскому Сцеволе» В.И. Демут-Малиновского. Они воспринимаются лишь в музейных условиях. Это свидетельствует о наличии в работе Э.М. Фальконе особых качеств, необходимых именно для станковых скульптурных памятников: будь то выбор темы, сюжета, 252


