
- •Глава IV
- •1. Скульптура как вид изобразительного искусства
- •2. Скульптурные материалы и техники
- •3. Круглая скульптура и рельеф
- •4. Разновидности скульптуры
- •5. Жанры скульптуры
- •6. Выразительные средства скульптуры
- •7. Вместо заключения
- •Глава V
- •1. Графика как вид изобразительного искусства
- •2. Особенности восприятия произведения уникальной графики
- •3. Место уникальной графики в изобразительном искусстве
- •4. Материалы и выразительные средства уникальной графики
- •5. Художественные техники, обладающие признаками графики и живописи
- •Глава VI
- •1. О рациональном анализе и эмоциональном восприятии
- •2. Книжная графика
- •3. Эстамп
- •4. Плакат
- •Глава VII
- •1. Общие сведения об архитектуре. Основные понятия и термины
- •2. Польза. Функция. Виды архитектуры и типы зданий
- •3. Прочность. Строительные материалы и конструкции. Тектоника. Ордерная система
- •4. Красота. Архитектурный образ. Образно-композиционные средства. Стиль в архитектуре
- •5. Анализ архитектурной композиции
- •I курс
- •Глава VIII
- •1. История. Понятия. Термины
- •2. Образ
- •3. Форма и функции
- •4. Материал и технология
- •5. Конструкция и тектоника
- •6. Декор. Цвет. Орнамент
- •7. Стиль. Мода. Вкус
- •8. Принципы анализа и критерии оценки
- •Глава IX
- •Глава X
- •1. О природе музыкального искусства
- •8 Re_ con_ci -li - a - vit pec _ ca -to _ res. 4. Die no _ bis Ma-dux VI-tae mor_tu _ us re-gnat VI _ vus. 6. An_ge _ li _ cos
- •8 Ri _ a, quid VI _ di _ sti in VI _ a? 5. Se _ pul _ crum
- •8 Chri_ sti VI _ ven tis, et glo _ ri _ am VI _ di re_
- •2. Исполнительская интерпретация музыкального произведения
- •3. Произведение — слушатель: диалоги
- •Глава XI
- •6. Работа с письменными источниками.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
ства и мысли. В результате, в соответствии с мироощущением Листа, конфликт глубоких разнополюсных чувств и эмоций через их столкно
вение приводит не к трагедии, а к их осмыслению и растворению в мире грез и любви, к ощущению ее успокаивающего дыхания.
Для Петрарки конфликтность и глубина чувств, одновременность различных состояний души, горя и радости, «неба» и «земли», пустоты и способности объять мир, где любовь «не убивает», но и «не рвет оков», одновременная жажда смерти и ожидание помощи, готовность принять и жизнь, и смерть являются трагедией.
У Листа же, в соответствии с его ощущениями жизни, природы чувств, слышны не столько духовный конфликт, сколько внутренний диалог, философское осмысление определенного душевного состояния. И Лист и Петрарка одушевлены любовью и видят в ней самый глубокий источник жизни и творчества. Но Петрарка скорее говорит о всемогуществе любви и цене, которую платит за нее душа. Лист же ценит в любви расширение духовного пространства, ощущает в ней способность установить гармонию между личностью и миром.
Итак, каковы же основные черты художественного образа в музыке, исходя из которых можно судить о его значимости, глубине?
1. Всеобщность и личностность. Художественный об-раз — обозначение многих явлений, в каком-то отношении родствен-ных. И в то же время он конкретен, индивидуален, наделен неповтори-мыми чертами исполнителя, благодаря которому он становится дос-тупным слушателю.
Ассоциативность. Художественный образ вызывает в сознании слушателей образы памяти, воображения, которые непосредственно связываются с художественным образом музыкального произведения, причем, благодаря высокой степени абстрактности музыкального искусства эта связь более свободна, чем в других видах искусств.
Обобщенность художественного образа, который несет возможность его конкретизации слушателем. Художественный образ предъявляется не как результат, а как процесс вовлечения слушателя в сотворчество.
Противоречивость. Эту особенность художественного образа хорошо объяснил Л.С. Выготский, сформулировавший «закон проти-вочувствования». Суть его такова. Во всяком художественном произведении есть встречные эмоциональные потоки, которые, действуя на слушателя, вызывают его симпатии и антипатии. Эта противоречивость чувств и вовлекает слушателя в сопереживание.
5. Единство, органичность художественного образа. Нехаос, не эклектика, а совместность его разных сторон. Логическая иэмоциональная оправданность и завершенность всех составляющихэлементов художественного образа. Нельзя нарушать изначальнуюего гармонию. Образ должен расти, а не ломаться и достраиваться.490
В чем задачи и трудности исполнительского искусства? Каковы отношения исполнителя с композитором, музыкальным произведением и слушателем?
Какова роль исполнителя и слушателя в интерпретации музыкального произ-иедения^
Каким образом удается приблизить интерпретацию к замыслу композитора?
Какие стили исполнения вам известны?
Какова роль эмоционального и рационального начал в интерпретации?
В чем состоит условность интерпретации музыкального произведения?
ЗАДАНИЯ
1. Прочтите сонет Петрарки № 156.
Увидел на земле я ангельские нравы И в мире солнца цвет божественных красот. Как только вспомню, боль и радость обоймет, Во сне любуюсь тенью призрачной оправы.
В слезах два света видел я, и жгучей лавы, Завидуя стократ, и солнце не найдет, А вздохи слов, что слышал, кружат горний свод, И останавливают реки величавы.
Любовь и разум, доблесть, преданность и боль, Рыдая, в сладостное вдруг сплелись созвучье, И в мире не было нежнейшего дотоль.
А небо, полное гармонии певучей,
Не слало ветра, и был воздух кроток столь,
Что на ветвях листы не дрогнули над кручей.
(Перевод В. Маранцмана)
Послушайте пьесу Ф. Листа «Сонет Петрарки № 123», фортепианную интерпретацию, соответствующую приведенному выше сонету. Проведите сравнительный анализ художественного образа Петрарки в поэзии и Листа в музыке. Совпадает ли эмоциональный настрой сонета Петрарки и произведения Л иста? Как Лист преобразует тему?
Послушайте «Сонеты Петрарки» Листа в исполнении разных пианистов. Попытайтесь выявить отличия в их интерпретации.
3. Произведение — слушатель: диалоги
Мы живем в мире, насыщенном музыкой, и в той или иной степени все мы — слушатели, но слышим и слушаем музыку по-разному. Одни с утра пораньше включают магнитофон или проигрыватель для создания звукового «комфорта». И даже, выходя из дома, берут с собой плейер с наушниками. При этом они могут заниматься различными делами, разговаривать с друзьями или читать книгу — музыка им не мешает. Другие же прилагают немалые усилия, чтобы попасть на концерт интересующего их дирижера, исполнителя или композитора,


Естественно, полное совпадение здесь невозможно — разные люди воспринимают одно и то же произведение по-разному в силу своей индивидуальности, жизненного и художественного опыта. Но эти различия, как правило, относятся к деталям, подробностям.
Таким образом, восприятие музыкального произведения можно охарактеризовать как процесс музыкального мышления, как акт сотворчества, требующий от слушателя активности, внимания, эмоциональной открытости. Этот процесс в огромной мере определяется специфической внутренней диалогичностью музыки.
Высокий уровень общения слушателя с произведением предполагает достаточную эрудированность слушателя как в музыкальном, так и в общекультурном отношении. Имея слушательский опыт, располагая информацией о других произведениях автора, а значит, представляя себе особенности музыкального языка композитора, слушатель легче и точнее воспринимает новый авторский текст. Но дело не только в этом. Главное — в другом.
Появление знакомых интонаций, тематических комплексов или гармонических сочетаний, встречавшихся в других произведениях, в другом контексте, стимулирует работу сознания. Мгновенно возникают сравнения данной ситуации с другими, образуя сложную цепь аллюзий, экстраполяции, фантазий. Процесс восприятия музыкального произведения становится еще более сложным, насыщенным и чрезвычайно увлекательным.
Таков в самых общих чертах механизм взаимодействия слушателя с произведением. Рассмотрим более детально этот процесс на конкретных примерах (произведениях).
СОНАТЫ БЕТХОВЕНА
Вряд ли найдется человек, интересующийся музыкой, которому не знакомо словосочетание «Лунная соната». Казалось бы, все просто. Бетховен написал фортепианную сонату и назвал ее «Лунной». Слово «лунная» говорит само за себя, а соната — это музыкальная форма, окончательно сложившаяся в творчестве венских классиков во второй половине XVIII века и именно у Бетховена получившая наиболее совершенное воплощение.
Известно, что это форма, позволяющая раскрыть изменение, движение, становление образа. Соната — форма циклическая, и музыкальный образ суммируется на основе ее трех частей. Однако все далеко не так просто. Соната действительно сложная форма, и для того чтобы глубоко и верно понять музыку этого произведения, полезно знать более подробно, что такое соната. И почему соната «Лунная»? С таким же успехом ее можно назвать «Романтической» или как-нибудь иначе. Но важно другое...
заранее покупают абонементы в концертные залы. Для них посещение филармонического концерта сравнимо с посещением Храма Красоты, Храма величия человеческого Духа, непреходящих Ценностей. И те, и другие — слушатели, но полярно противоположные. Это касается не только времени, продолжительности контактирования с музыкой, а также репертуара, но и способа, качества восприятия музыки. Если первые пассивны как слушатели (их сознание направлено не на музыку), то вторые не могут воспринимать музыку без встречной, активной работы души, интеллекта.
Такое разное отношение к музыке объясняется не только индивидуальными, личностными качествами слушателя, но и самой музыкой, ее назначением. Так, к примеру, музыка, сопровождающая танцы или звучащая на празднике, вечеринке, не рассчитана на внимательное вслушивание. Ее функция достаточно локальна и ограничена созданием определенной атмосферы.
Естественно, такое разделение слушателей на две полярные группы весьма условно, так как между ними находится большая группа тех, кто в той или иной пропорции совмещает оба принципа отношения к музыке. Обратимся ко второму типу слушателя, как более соответствующему теме нашей беседы, к слушателю, предпочитающему сложную, содержательную, серьезную музыку и готовому в связи с этим к определенной работе души и интеллекта. Как же происходит восприятие музыки? Каков механизм ее понимания? И что значит понять музыкальное произведение? Сразу заметим — этот процесс не тождествен отгадыванию загадки или переводу иностранного текста. Здесь действуют другие правила.
Знакомясь с новым произведением, слушатель прежде всего испытывает его эмоциональное воздействие, внимание направлено на восприятие музыки в целом (без уточнения деталей). Слушатель как бы «настраивает» себя на резонанс с эмоциональной сферой звучащей музыки. Естественно, если он имеет опыт или слушает произведение не в первый раз, то эмоциональный контакт, «настройка» сознания происходят мгновенно. В дальнейшем испытанные чувственные и эмоциональные воздействия могут перейти на уровень интеллектуального осознания. На этом уровне слушатель способен отделить рельеф от фона, главное от второстепенного, сознание фиксирует тему как носитель определенного образа и узнает ее даже в измененном, преобразованном виде. Развертывание музыки во времени предстает теперь в виде логически организованного процесса, где нет места случайностям. Внимание слушателя сконцентрировано именно на процессуальной стороне, на развитии и логике происходящих событий.
Слушатель, «ведомый» авторским текстом, проходит тот же или почти тот же путь, которым шел автор, создавая свое произведение.
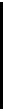

В который раз мы слышим знакомые, многим с детства, первы
такты «Лунной» Бетховена — размеренно-меланхолическое движение, погруженные в некие глубины басы и еще что-то, неизменно волнующее, приводящее в восторг. Эта красота создается за счет очень: простых вещей— триолей, разложенных аккордов на глубоком басу. Звуки эти рисуют в воображении романтический образ, связанный с! композитором не очень отдаленного в историческом измерении времени — Бетховеном.
Знаем ли мы эту сонату? Каков ее смысл? О чем, о ком она? По-1 спешим в Филармонию, а может быть, удобно устроившись в кресле, послушаем ее дома... Представим себе (вспомним) звучание музыки. А может быть, читая эти строки (или перед тем, как читать их), возьмем с полки собственной фонотеки запись сонаты и прослушаем ее.
«Лунная»... Соната quasi una fantasia... Течение музыки в 1 -й части неизменно ровное, сдержанное. Ритм триолей (три восьмых на каждую четвертную долю) рисует образ затаенной стихии, картину слегка колышащегося покрова. Возможно, это пейзаж... Появляется чет-! кая, сначала на повторяющемся звуке, тема — монолог с большим количеством вопросов. Еще один тематический элемент вступает в действие — просящие и убеждающие, более певучие, чем все предыдущие, интонации человеческого голоса. Соната посвящена графине Юлии Гвиччарди, не ответившей на любовь Бетховена. Драматизм ситуации усугубляется тем, что композитор терял слух.
1 -я часть сонаты столь емка, совершенна и в определенной мере законченна, что возникает ощущение — все сказано. И хочется остановиться и вдуматься в услышанное. Но все-таки, что дальше? Дослушаем сонату до конца.
Яркий свет (мажорная бемольная тональность вместо предшествующего минора) переносит нас в иной образный мир. 2-я часть — женский портрет. Беспечная, капризная музыка похожа на менуэт. Создается впечатление, что это интермедия между актами драмы. 3-я часть, финал — адский вихрь чувств, взрыв отчаяния и протеста. Как и в предыдущих частях, образ един, рядоднохарактерныхтем сливается в потоке страстей. Основная тема финала постоянно меняется. Три его раздела свидетельствуют о сонатной форме, всегда подчиненной активному преобразованию тематического материала. Название «Лунная» дал 14-й сонате Бетховена современник поэт Л. Рельштаб. Впоследствии «лунные» образы не раз возникали в музыке: фортепианная пьеса «Лунный свет» Дебюсси, цикл мелодекламаций для женского голоса и инструментального ансамбля А. Шенберга «Лунный Пьеро». Но как поразительно различны они.
Ощущение и осознание автобиографичности сонаты не снижает возможности для слушателя отождествить себя, слить свое «я» с основным образом. В данном случае это можно объяснить гипнотиче-494
ским лиризмом 1-й части, монологичностью обеих крайних частей. Эти качества выделяют «Лунную» среди других широко известных сопат Бетховена — «Патетической», «Авроры», «Аппассионаты». От них ее отличают также импровизационный характер и темы Adagio 1 -й части, «асимметрия» композиции цикла, устремленного к финалу.
Но дело не только в особенностях этой сонаты. Она лишь яркое подтверждение смысловой широты и емкости музыкального образа. Имея ограниченные возможности в изображении внешнего, предметного мира явлений, музыка обладает исключительной силой в выражении человеческой духовности. Музыкальный материал более, чем какой-либо другой материал искусства содержит личностную информацию, легко поддается созданию структур, подобных самым сложным и интимным процессам психики, с переплетением в них сознания И подсознания, мысли и чувства. Поэтому менее других искусств персонифицируя своих героев, музыка предоставляет широкие возможности для самоотождествления слушателя с ее художественными образами.
Романтическая аура «Лунной» оживляет ассоциации с рядом произведений бетховенского окружения. В памяти слушателей могут всплыть эпизоды 40-й симфонии его предшественника Моцарта, песни Шуберта, мечтавшего повторить творческий путь Бетховена, «Неоконченная» симфония Шуберта, своей двухчастностью нарушившая сложившуюся четырехчастность симфонического цикла.
Дополнительный, более глубокий смысл музыки открывается слушателю, когда ему удается «увидеть» (услышать) черты индивидуального стиля автора. В 1 -й части «Лунной» это сосредоточенное самоуглубление осознается через сарказм интонационных оборотов в низком регистре. Финал же сонаты «выводит» к самоутверждающей героике «Аппассионаты», к 3-й симфонии первоначально посвященной Наполеону Бонапарту, что было отменено Бетховеном после того, как Наполеон был объявлен императором и дошедшей до нас под обобщающим названием «Героическая». Слуховая «наблюдательность» открывает нам образные параллели «Лунной» с 5-й симфонией Бетховена (ритмически заостренная тема 1-й части сонаты—мотив судьбы в симфонии).
Одна из вершин воплощенной воли и мысли в музыке XIX в.— «Аппассионата» Бетховена. Авторский стиль в ней выражен с абсолютной полнотой. В сравнении с «Лунной» она поражает масштабами. Мощь аккордов, контрасты регистров фортепиано близки к звучанию оркестра, но сохраняется «личностное достоинство» сольного инструмента. 1-я и 3-я части сонаты облечены в форму сонатного allegro, что типично для классической сонаты. Для понимания развития музыкального образа полезно помнить, что сонатное allegro строится на взаимодействии двух тем, которые называются главной и по-
495
пирующих аккордов, вихрем пассажа, срывающегося с верхнего регистра в нижний.
Преображение главной темы, патетические возгласы побочной темы 3-й части, финальной части сонаты дорисовывают образ бетхо-венского героя. Жанровый, народный колорит коды раскрывает окончательно замысел автора, революционную, героическую идею «Аппассионаты».
Понимание подобной музыки — музыки с симфоническим развитием, независимо от того, написана она для симфонического оркестра, камерного ансамбля или рояля, невозможно не только без эмоциональной включенности, переживания и сопереживания, но и без значительного интеллектуального напряжения. Оно выражается в ряде психологических состояний и операций. Требует сосредоточенного внимания, прослеживания всего хода музыкальных событий и фактов, запоминания музыкальных образов — тем, фраз. Предполагает анализ — нахождение их сходства, связи, изменений. Требует синтеза, обобщений. Ожидания, установки формируют вопросы, а музыка отвечает, вызывая разные реакции — удовольствие, удовлетворение, волнение, протест.
Постижение «Аппассионаты» — еще один этап в общении с последним из могикан классицизма — Бетховеном,— общение с частью собственного духовного «Я». Слушая «Аппассионату», мы невольно осознаем ее в контексте диалогических связей трех музыкальных направлений: классицизма — романтизма — реализма. Мы выделяем в ней классицистские нормативные конструкции сонатного цикла и сонатного allegro, могучую логику мысли ученых и философов-рационалистов. Романтизм сказывается в ней в страстном отстаивании идей, вдохновенном стремлении к идеалу. Реализм — в верности своему времени, правде психологии революционного романтизма, в глубоком понимании законов бытия. В восприятии произведения в целом попеременно преобладают различные стилевые аспекты.
Близкая яркой образностью к вершинным симфониям Бетховена — Третьей, Пятой, Седьмой, Девятой, 3-му, 4-му, 5-му концертам для фортепиано с оркестром, увертюрам «Эгмонт», «Кориолан», «Леонора» № 3,— «Аппассионата» открывает вместе сними Новую музыкальную эру — музыкальный XIX век, Золотой век классической музыки.
бочпой партиями, и состоит из трех разделов — экспозиции, разработки и репризы.
С первых звуков «Аппассионаты» внимание приковано к активно меняющемуся мотиву. Он зарождается в басах и, устремляясь ввысь, сменяется тормозящим звуковым комплексом. Развитие событий стимулирует триольный (три восьмых, вместо четверти) «мотив судьбы». Названный тематический материал, объединяющийся в относительно завершенное построение, образует главную партию сонатного allegro. В дальнейшем ходе музыкальных событий она предстает перед нами как смысловое ядро художественного образа всей сонаты, включая в себя события внешней и внутренней жизни (точнее, того и другого одновременно, что является характерной чертой образа музыкального). Элементы главной партии активно преобразуются в наиболее динамичных фазах 1 -части сонаты. Образ обогащается, дополняется по принципу единства противоположностей в прекрасной, пламенно-гордой, свободной теме побочной партии. Разработка вовлекаете1 иные отношения-противостояния, доходящие до открытого конфликта, отчаянной борьбы (сил? идей?), с перевесом исканий, обозначенных главной партией 1-й части. Реприза — торжество и величие согласия, приведения к гармонии двух противоположностей, синтез. Так, в диалоге с музыкальным образом 1-й части открывается всеобщность, глобальность героической идеи произведения.
Крайне важно услышать две основные темы, из взаимодействия которых выстраивается единый образ всей части. Следить за изменением этих тем, за ходом мыслей автора — процесс чрезвычайно интересный и увлекательный. Но он требует активного внимания.
«Аппассионата» — страстная. Масштаб страстей уже в 1-й части говорит о масштабе идеи, выходящей за рамки интересов отдельной личности, что подтверждается, в частности, отсутствием в сонате биографического — в ней нет, как в «Лунной», посвящения, она не связана с конкретными событиями жизни Бетховена. Восприятие такой музыки идет в диалоге с художником-автором и с его героем, возможно, и с героем собирательным, вырисовывающимся в других его произведениях. Заканчивается первая часть поражением героя в борьбе со стихией, с силами судьбы, с самим собой.
Вторая часть — Andante с вариациями. Смысл ее — собирание сил для дальнейшей борьбы. Какими средствами достигается создание этого образа? Прежде всего ритмическими. От темы, а затем от вариации к вариации движение ускоряется, ускоряется его пульс, растет внутренняя энергия. Последняя остановка — заключительное проведение темы — только усиливает напряжение, вызывает ожидание решающей битвы, которая и обрушивается на слушателя внезапно (поскольку вторая и третья части следуют без перерыва) шкваломдиссо-496
СИМФОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА РОМАНТИЗМА: ШУБЕРТ, АИСТ, БЕРЛИОЗ
Соната в творчестве Бетховена— начало начал его образов, содержания, стиля. Можно сказать, что из ростка сонаты выросло древо его симфоний. Тем же стала песня для Шуберта. Она определила его


Д. Скарлатти, Корелли, Вивальди. В ней отсутствует разработка — наиболее драматический раздел сонатной формы. Вся 2-я часть вырастает из лирического образа, представленного самым общим, крупным планом в 1 -й части. Но смысл в ней иной. В потоке выстроенных музыкальных звучаний, гармоний, мелодических фраз и оркестровых тембров предстают два образа — величавой, равнодушной Природы и одинокого, потерянного в ее беспредельности Человека.
Такие, а может быть, и многие другие, правомерные и вполне обоснованные мысли, вызовет внимательное эмоциональное прочтение этого звучащего текста. Интерпретации «Неоконченной» снова напомнят, что музыкальный образ весьма обобщен и широко вариативен.
Но на вопрос «зачем», прозвучавший в начале симфонии, во вступлении к 1-й части, мы не получаем ответа. Возможно, не знал его и сам Шуберт. Или, имея ответ, не захотел сообщить его слушателю. В такой незаконченности, вероятно, и заключен замысел композитора — предложить слушателю мысленно «достроить» симфонию, раскрыть ее смысл. Это уникальный случай отсутствующего финала (поп finito), требующий глубокого осмысления услышанного.
А название симфонии? Что не закончено в ней? Любопытен факт истории культуры. Многочисленные попытки «дописать» симфонию,. завершить ее по образцу 4-частного классического цикла не привели к успеху: в своих двух частях Шуберт сказал все, что хотел. Новое, романтическое содержание — загадочная красота и величие природы, душевное смятение и страстное стремление к идеалу, Прекрасному — вылилось в новую форму.
Интересны, в связи с этим, дальнейшая трансформация и рождение новых жанров симфонической музыки. Так, подобно шубертов-ской «Неоконченной», свои вопросы и загадки предлагают не укладывающиеся в старые рамки симфонические произведения композиторов-романтиков следующего поколения.
Привлекательна и дает пищу для раздумий об искусстве, о музыке грандиозная фигура Ф. Листа — гражданина мира XIX в. Биография художника — жизнь, любовь, духовный поиск и откровения, философия и религия — запечатлелась в его цыгано-венгерской, итало-французской и австро-немецкой музыке. Среди всех романтиков Лист выделяется многогранностью личности и совершенно понятно, почему современники и потомки одинаково высоко оценили его творчество и вклад в исполнительскую культуру, его всеевропейскую открытость и любовь к отчизне.
Знакомство с биографией любого композитора помогает глубже идостовернее понять его музыку, особенно биография такого компози-тора, как Лист. Венгр по рождению, благословленный в детстве натворчество уже потерявшим слух Бетховеном, отвергнутый, а затем32* 499
индивидуальный стиль. Камерно-инструментальные сочинения ком
позитора — сонаты, вальсы, музыкальные моменты и экспромты — узнаются, благодаря австрийской песенности, с ее многонациональным, преимущественно немецким и славянским, сплавом. Те же черты мы услышим в «Неоконченной» симфонии.
Название произведения — «Неоконченная» — определилось тем, что композитор преступил в нем традиционное со времен Й. Гайдна (XVIII в.) правило строения симфонического цикла. В творчестве первого венского симфониста-классика сложилась 4-частная композиция симфонии, сохранившая свое значение до середины XX в. Такое строение преобладает в симфониях Шостаковича, Прокофьева, Брукнера, Малера, Онеггера. Симфонический цикл близок к сонате. Этим объясняется понятие «сонатно-симфонический цикл». В симфонии так же, как и в сонате, действует принцип развития идеи. Этот принцип охватывает все четыре части цикла. Яркий пример этого — Пятая симфония Бетховена. Если говорить об отличиях цикла сонаты и симфонии, то они не существенны. Симфония рассчитана на исполнение оркестром и, значит, располагает более богатыми возможностями, чем соната, находящаяся в сфере камерной музыки. Поэтому симфонии «по плечу» больший масштаб. Это касается не только длительности произведения, но и широты и глубины образной сферы. В конечном итоге — симфония более сложная форма.
В «Неоконченной» симфонии Шуберта две части. Но не только в этом ее необычность. Особенностью симфонии является и то, что обе части одноплановы — в них преобладает лиризм. Содержание 1-й части составляет развитие трех ярко очерченных тем. Без особого труда мы слышим жанровый контраст главной и побочной партий — песенной и песенно-танцевальной. «Облик» 1-й части в значительной мере определяет элегическая и нежная тема главной партии. В ней дыхание Природы — ароматы, шорохи, голоса. (Если внимательно вслушаться, можно заметить сходство с «лебединой» темой Одетты из балета Чайковского.) Побочная партия, чаруя своим мягким светом, надолго остается в памяти. Важную драматургическую роль выполняет афористическая тема вступления — романтический вопрос: в чем смысл всего, отчего, зачем? Она многократно повторяется, и задача слушателя — услышать, как меняются ее контуры и характер. Слух легко прослеживает привычные «формальные» события сонатной 1-й части: вступление; экспозицию — главную и побочную партии, краткую связующую (несколько аккордов) между ними; преображения тем и кульминации в разработке; тональное сближение тем в
репризе; бескрайнюю печаль коды.
Вторая часть развертывается в старосонатной форме, которая состоит из двух разделов — экспозиции и репризы. Это форма пред-классического периода, форма первых частей в произведениях 498

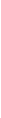

превознесенный в тогдашней культурной столице мира — Париже, путешественник в Италии, вдохнувший ароматы ее искусства, триумфатор-артист и национальный герой в Венгрии, придворный капельмейстер и религиозный мыслитель в веймарский период творчества,
восторженный гость Петербурга и Москвы, советчик и покровитель начинавших свой путь Э. Грига, К. Сен-Санса, И. Альбениса, высокий ценитель русской музыки. Композитор, выработавший, как и другие романтики, собственный индивидуальный стиль, в отличие от классиков, не заботившихся об этом. Художник-романтик, стремившийся связать разные виды искусства, выявляя специфику музыки в ее диалоге с другими искусствами.
Эти и многие другие сведения, которые можно почерпнуть в популярной и специальной литературе о музыке, в аннотациях к концертным программам, помогут понять и оценить то или иное произведение Ф. Листа. Но ценность подобного рода знаний этим не ограничивается. Творческий путь композитора, его литературные сочинения («Письма бакалавра музыки», «Ф. Шопен») позволяют осмыслить причины и стимулы изменений музыкальной образности романтизма, тонкие связи музыкального образа и жанра, формы произведения. Помогут они слушателю представить себе панораму европейской культурной жизни XIX в.
Многие произведения Листа относятся к разряду популярной классической музыки. В стихию фольклора и быта, глубины истории нас погружают венгерские рапсодии, с их чарующим контрастом танцевальное™ и песенности, раздумчивой эпической нотой, щедростью ритмов и тембров. В концертных программах неизменно привлекает внимание фортепианный цикл «Годы странствий», возникший в результате путешествий композитора по Италии и Швейцарии. Красноречивые названия пьес однозначно определяют их сюжет — «Сонет Петрарки № 103», «Сонет Петрарки № 104», «Мыслитель», «Обручение», «Долина Обермана». Благодаря этим названиям, мы вступаем в диалог не только со звучащей музыкой, но и с ее поэтическими, скульптурными, живописными, природными прообразами (произведения Петрарки, Микеланджело, Рафаэля), по мотивам или под впечатлением которых написаны эти пьесы. И как поможет нам в этом увлекательном процессе развитая художественно-образная зрительная память, способность надолго сохранять эстетически яркие зрительные представления. Синтез искусств — одна из существенных черт романтиков, и Лист, как видим, экспериментирует, сближая искусства, испытывая их возможности, диапазон выразительных средств и провоцируя диалог с целью создания единого, общего для всех искусств художественного образа мира, а это проблема, которую решает сегодня искусство в целом. 500
При обилии и разнообразии ярких художественных образов трудно выделить лучшие произведения композитора. Тот, кто слушает классическую музыку, непременно вспомнит и сонату для фортепиано си-минор, и поражающее светлой силой звучание двух фортепианных концертов Листа. Разлив фантазии и творчества (музыка с удивительной силой воплощает живую одухотворенную мысль), восторженное приятие мира определили тот путь праздничной виртуозности, на котором были созданы концерты для фортепиано с оркестром П. Чайковского, С. Рахманинова, С. Прокофьева. Концерты Листа отличает и оркестровый характер звучания фортепиано — его динамическая мощь и тембровое богатство. Отметим для себя, что фортепианные концерты Листа одночастны.
Писал ли Лист симфонии? По авторскому определению их две: «Фауст — симфония в трех характерных картинах» (в трех частях — «Фауст», «Гретхен», «Мефистофель») и «Данте» (вдвухчастях — «Ад», «Чистилище»). Но к жанру симфонии, подобно концертам, по критериям романтизма, можно отнести и его тринадцать одночастных симфонических поэм. Заметим, что поэма как жанр, поэм-ность как стилевое измерение стали характерной чертой романтизма. Поэма занимает главное место в симфоническом творчестве Листа.
В свете романтической эстетики интересна поэма «Прелюды». Сходство с симфониями Листа, с его одночастными концертами-симфониями также позволяет назвать «Прелюды» одночастной симфонией. Особый успех эта эффектная оркестровая пьеса имеет у молодых слушателей, к ней охотно обращаются и в ней находят самовыражение дирижеры-студенты. Причиной этого вполне может быть гордое самоутверждение смелой и сильной личности, мужественный оптимизм в строе всего произведения. Как достоинство может быть оценена слушателем строгая архитектоника сочинения, не противоречащая при этом его яркой и светлой эмоциональности.
Светлое героическое, волевое начало выражено в главной партии поэмы. Другой ее образ — тоже светлая ликующая тема любви. Эти две темы совсем не похожи на «Неоконченную симфонию». Мелодически напоминает о ней тема вступления, заканчивающаяся вопросом. Но смысл ее совершенно другой: из ее интонаций вырастает героическая главная тема, а затем и лирические — связующая и побочная. Структура произведения весьма необычна. На короткой протяженности в поэме сменяется ряд картин. Среди них — ураганные вихри бури, идиллическая пасторальная сцена и, наконец, героический победный марш.
У Листа своя логика созидания художественного образа: не развитие сквозной мысли, как это делает Бетховен, а контрастное чередование картин. Эта контрастность размывает строгие контуры классической сонатной формы и в то же время четко обозначает в ее пределах





классический четырехчастный сонатно-симфонический цикл. Подтве ждение последнему мы найдем в словесной программе «Прелюдов».
Слушая «Прелюды» и испытывая чувство эмоциональной напол
ненности и подъем духовных сил, мы в то же время понимаем, что это легкая классическая музыка. Та самая музыка, которая, по словам М.И. Глинки, должна быть равнодокладна любителям и знатокам. Сам Глинка доказал это большей частью своих произведений. «Прелюды» духовно легко обозримы. Их необычная композиция будоражит фантазию, мысль, требует знаний. Музыка и впечатляет эмоционально, что отнюдь не удивительно в искусстве романтизма, и поражает оригинальным, чрезвычайно интересным ее конструированием и несводимостью ее к словесной программе — жизнь земная есть прелюдия к вечной жизни. Лобовой диалог музыки и программы, характеризуется такой остротой, что возникает вопрос — не является ли их различие сверхзадачей произведения. В этом плане интересна история создания «Прелюдов», мучительный поиск Листом художественного образа своего нового сочинения.
В период работы над «Прелюдами» (она растянулась, с большими перерывами, почти на десять лет) композитор обращался к различным литературным образам. Сначала музыка была задумана как вступление к хорам на стихотворные тексты французского поэта Жозефа Ортрана «Земля, Ветры, Волны, Звезды». Отголоски этих образов можно услышать в поэме Л иста. Результаты работы не удовлетворяли композитора и он перерабатывал написанное. Менялась и литературная программа. Основой ее становится стихотворение Ламартина «Прелюды» — размышление о бренности человеческого бытия, перемежаемое светлыми картинами детства и сельской природы. Окончательный вариант программы написан Листом, но название сохранилось от стихотворения.
Программа произведения — название и словесный текст, предпосланный нотному,— вносит дополнительный смысл в художественный образ, рождающийся в восприятии музыки. Словесный текст может вызвать неоднозначные чувства. Одни его принимают, другие отвергают — так различны эмоциональные тональности: музыка светлого и мужественного гимна человеку ренессансного типа (таким был сам Лист), эпизодов земной полнокровной жизни и религиозно-философский вопрос в начале эпиграфа к симфонической поэме. Диалог этих начал скорее всего развернется в нас уже после концерта. Фигура Листа, ее эстетическая оценка и вызванные ею раздумья открывают путь к общению с родственными по духу художниками: Шопеном и Шуманом.
Мы же, согласно избранному нами сюжету, обратимся к Гектору Берлиозу, точнее, к самому прославленному его сочинению — «Фантастической» симфонии. Атеист и демократ, горячо откликнувшийся 502
на революционные события, сам Берлиоз в жизни был личностью вполне реалистичной, за исключением одного — своей действительно романтической любви к ирландской актрисе Генриетте Смитсон. «Фантастическая» (написана в 1831 г.) пронизана образами, идеями современного Берлиозу общества и искусства — литературы и театра. Подобно «Исповеди сына века» Мюссе, «Эрнани» Гюго, она — манифест французского романтизма, самая романтическая симфония.
Симфония автобиографична, что видно из текста развернутой, сю-жетно детализированной программы. Композитор пишет ее в форме сценария, считая возможной театрализацию музыки. В подзаголовке симфонии значится: «Эпизод из жизни артиста». Название симфонии и ее частей (I. «Мечтания. Страсти; II. «Бал»; III. «Сцена в полях»; IV «Шествие на казнь»; V. «Сон в ночь шабаша») настраивает на погружение в мир музыкального романа. Но впечатление превосходит ожидание. Музыка поражает неясной, не сразу осознаваемой новизной, глубоко отлична от классицистских симфоний и даже — «Неоконченной» симфонии.
Внимание в музыке привлекает сразу ряд моментов. Она своеобразно мелодична. В ее мелодике, как в отдельных частях, так и в произведении в целом, нет строгой конструктивности. Сквозное интонационное движение образуют одна из другой вытекающие, пластически связанные между собой фразы, преобразующие главную и единственную тему симфонии, которая олицетворяет образ возлюбленной. Наподобие оперного лейтмотива, тема меняет свой облик, следуя сюжету. Яркая оригинальность мелодики создается благодаря сходству с живой, декламационно темпераментной французской речью. Неслучайно парижские музыканты использовали (напевали, насвистывали, наигрывали) тему возлюбленной, варьируя ее в различных ситуациях житейского общения. Важную роль в музыке выполняет тембро-во-гармонический фон, нередко оттесняя мелодию на второй план.
Ведущая роль в создании образа принадлежит оркестрово-тем-бровому элементу. Резко расширен состав оркестра, серьезное значение имеет «драматургия» тембров. Каждый инструмент передает особое настроение или образ: английский рожок — меланхолию или экзальтацию, кларнет-пикколо — гротеск, фагот — сумрачность и трагичность.
Неизгладимо запечатлеваются в памяти пять нарочито контрастных частей симфонии. Настроения 1-й части — романтическая экзальтация, смятенность чувств. 2-я — музыка «Бала» великолепна холодноватым светом, праздничностью и грацией (выделяется звучание двухарф — соло). Подтекст этого симфонического фрагмента — Герой (артист) и общество, 3-я часть — тоска одиночества, пастушеская идиллия, раскаты грома, тишина, 4-я часть — гражданская па-


Национальная самобытность любой культуры притягательна и плодотворна для других культур. Очевидно, именно как русская национальная черта музыки Чайковского воспринимается в мире ее открытость другим культурам, своеобразная сплавленность русской интонационной основы и неявных, приглушенных влияний европейского искусства. Ведь в музыке Чайковского культурный слушатель ощутит французский вкус — слияние изысканности и демократичности (горячо любимая мать композитора Александра Андреевна была наполовину француженкой). Симптоматичны в этом плане сюжет и образы «Спящей красавицы», «Орлеанской девы», «Иоланты», и провидческая высочайшая оценка композитором оперы Ж. Визе «Кармен». Страстная мелодика Чайковского напомнит об итальянской опере, о стиле bel canto, а симфоническая музыка проведет параллели с Бетховеном.
Сказанное и многое другое позволяет говорить об особой «коммуникабельности» его музыки. О стремлении быть услышанным, понятым слушателем свидетельствует сам композитор: «Я желал бы всеми силами моей души, чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и опору»,— пишет он своему другу-ученику СИ. Танееву. Целиком поглощенный творчеством, Чайковский придавал особое значение драматургии произведения, делающей понятными замысел и идею. Великий драматургический дар композитора позволяет исследователям говорить о направленности формы его сочинений на слушателя. Большую роль в достижении этого, особенно в симфоническом творчестве, играет внутренняя диалогичность музыки. Однако это свойство присуще не только Чайковскому. Остановимся на этом подробнее.
Внутренний диалог изначально присущ музыке. Постичь его механизм очень важно, ибо без этого акт художественного восприятия содержательной музыки попросту не произойдет. Диалогичность обнаруживается, но только чутким и внимательным слухом, прежде всего в мелодии, в подробном, обстоятельном развертывании музыкальных звуков. Высотное и ритмическое сопряжение звуков рождает диалог мотивов и фраз. Они образуют эмоциональный и осмысленный речевой поток. Такая диалогичность — ее можно называть атомарной или элементарной — составляет самую жизнь, суть музыки. Существенна при этом смысловая окраска мелодии, которую придают лад — в музыке классического периода (от XVII в. до середины XX в.) это мажор и минор, гармония — аккордовая интерпретация мелодии, тембр — окраска звука, зависящая от инструмента (в том числе и голоса), приема или характера звукоизвлечения и регистра (среднего, высокого, низкого) звучания. Свою особенность имеет диалогическое общение в полифонической музыке. Интересна в этом отношении фуга — высшая по технической сложности и совершенству полифоническая
тетика, 5-я часть — разгул бесовских сил, трагедия «утраченных ил
люзий».
Концерт окончен. Зал опустел. И следует раздумье... Навязчив
сюжетная программность: понятно все. Герой — скорей не Берлиоз, но обязательно артист, художник. И это несколько сужает спектр зна
чений, возможность слиться с образом. Бескомпромиссны антитезь:;
трепетное, личное — гражданское, историческое; индивидуальное — национальное, народное. Сочетание этих черт дает неповторимый сплав, который фиксируется в образе симфоний — атмосфере тонкого артистизма, психологического богатства и романтической фантастичности. Художественный образ «Фантастической» снова напоми
нает об особенностях музыкального образа — эфемерности, размы
тости его очертаний и зыбкости контуров, о его идеальной сущности. Л
Оригинальность симфонии отнюдь не исключает, а, напротив, предполагает восприятие в широком контексте музыкальной истории — Бетховена, Шуберта, Вагнера. Увлекательна проблема интеллектуального восприятия музыки (не бездушно-потребительского получения удовольствий!) в творческом ассоциировании, сравнении
произведений и авторских стилей.
РУССКАЯ СИМФОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА. П.И. ЧАЙКОВСКИЙ
Симфоническая музыка России XIX—XX столетий — оригинальная и содержательная страница истории культуры. Достаточно имен без комментариев — Глинка, Чайковский, Прокофьев, Шостакович.
Но есть еще и Бородин, и Скрябин, Калинников и Глазунов. И компо
зиторы наших дней. Среди всех выделяется Чайковский. Его прижиз
ненная слава и беспрецедентно широкая известность музыки на родине и за рубежом, пожалуй, не знает себе равных. Творчество Чайковского в сегодняшнем мире — один из символов культуры России, одна из характеристик русской души. Почему его музыка воспринимается именно так, это можно объяснить рядом причин. Во-первых, конечно, поразительной искренностью (стремлением «от сердца к сердцу».— Б. Асафьев), пленяющей душу задушевностью его музыкальной речи. Тому же способствует и связь языка Чайковского с русским городским романсом, горячо любимым всеми слушателями. Но, любопытная вещь, именно эти стороны музыки Петра Ильича, а также опосредованные связи с крестьянской песенностью вызывали ее неприятие и упреки в банальности со стороны весьма авторитетной в XIX в., и не только в России, творчески сильной и исторически перспективной группы композиторов — «Могучей кучки», хотя для широкого российского слушателя его музыка всегда была родной речью. 504


форма. Все голоса развивают общую мысль ■— тему, передавая ее друг другу, добавляя к ней новые оттенки смысла. В жанре инструментального концерта, который строится на противопоставлении партий солиста и оркестра, диалог имеет открытый, декларативный характер. Не с этим ли качеством связан пафос Первого фортепианного и скрипичного концертов Чайковского или фортепианных концертов Прокофьева?
Иной вид диалога (назовем его конструктивным) — это контраст или конфликт различных по характеру тем-образов, тем-«героев». Классический тип такого диалога сонатное Allegro. Взаимодействие «главных героев» — главной и побочной партий приводит к изменению контекста, а затем к сближению основных тем-образов. В произведениях венских классиков эти две темы соотносятся по принципу производного контраста и представляют неразделимые сферы духовного мира героя. Скорей всего именно такой смысл открывается многим слушателям в темах 40-й симфонии Моцарта, в «Патетической» и «Аппассионате» Бетховена. В сонатной форме западных романтиков, в драматических симфониях Чайковского, Малера, Шостаковича помимо тем, воплощающих грани сложнейшего внутреннего мира человека, непременными являются темы внешних сил — объективной реальности, судьбы, социального зла, с помощью которых выражаются и основной конфликт, и идея произведения. Но в большинстве случаев и эти темы оказываются в конце концов гранями сознания героя, а произведение в целом — картиной внутренне противоречивого сознания. В симфонической музыке русских композиторов XIX — начала XX века, связанной с реалистическим направлением в искусстве, позитивные обобщенные образы природы, родины, народа также связаны с темами внутреннего мира героя. Эти «объективные» темы чаще всего становятся причиной вдохновенного лирического высказывания. Таковы прекрасные мелодии в симфониях Калинникова и Чайковского, в симфониях и фортепианных концертах СВ. Рахманинова. Так, колокольный звон в его Втором фортепианном концерте сменяется исполненной горячей любви взволнованной лирической темой.
Творчество П.И. Чайковского, подобно творчеству его современника и творческого единомышленника Ф.М. Достоевского, раскрывающего сложность и тонкость души человека,— пример интенсивного диалога в искусстве. Выразительность и сила воздействия произведений Чайковского определена правдой чувствования, воплощением современного ему драматического мироощущения, философской проблемой жизни и смерти, недосягаемого идеала и утверждением высшей человечности.
Диалог особенно интенсивен в симфонической музыке композитора. Она представлена симфониями, сюитами, одночастными произве-
дениями. В качестве примера рассмотрим увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта». Этот сюжет Шекспира широко используется в классической музыке различных жанров (понятие классика означает здесь исторический период от середины XVII в. до середины XX в.). Образы трагедии вдохновили Ш. Гуно на создание лирической оперы, Г. Берлиоза —■ гигантской симфонии с хором и солистами, а в XX в. на эту тему Прокофьев создает блистательный шедевр современного балета. Свое произведение создает и П.И. Чайковский. Сюжет и подробный план увертюры-фантазии, вплоть до отдельных деталей («сабельных ударов» в главной партии сонатного allegro) был предложен композитором М.А. Балакиревым.
Драматургической основой произведения Чайковского стал характерный для симфонического творчества композитора принцип отвлеченной программности. Литературные герои трагедии Шекспира заменены в музыке обобщенными образами любви (романтической мечты) и насилия, вражды и страданий. Вместо многих персонажей трагедии — всего четыре образа и пять тем. Образ любви воплощен двумя лирическими темами, первую из них Римский-Корсаков назвал одной из лучших тем всей русской музыки. Тема хорала выражает насилие, гнет среды; «рыдающий» мотив — страдания любящих героев; «сабельные удары» — олицетворяют вражду. Сжатие круга действующих лиц достигнуто благодаря смысловой концентрации и обобщенности музыкальных образов. В результате рождается произведение, в котором конкретные шекспировские черты становятся символами прекрасной гуманистической идеи. Отсутствие характеристических черт образов, их отвлеченность создают для слушателя широту ассоциативного поля, раздвигая рамки духовного соприкосновения с каждым из них.
Диалогичность в «Ромео и Джульетте» раскрывается в многообразных интонационных связях образно-родственных и далеких тем — в «выведении» последующей темы из предыдущей во вступлении, в стонущем мотиве валторны, который контрапунктирует с темой любви, в «арочном» строении мелодики. Диалогичность проявляется в конфликтности тем главной и побочной партий на кульминации драмы в коде-разработке, в контрастности хорала и темы любви в эпилоге (растворении жизненной сущности в небытии). Диалогичность на уровне симфонизма обнаруживается в интонационном развитии первой темы любви, раскрывающейся в тончайших нюансах от зарождения чувства к его торжеству и гибели героев, в богатстве значений и смыслов, которые несет в себе тема хорала, актуализирующая философские представления слушателя.
Диалог, развертывающийся в пределах самого содержания музыкального произведения, подобно сценической драме, втягивает слушателя в драматические отношения образов. И тогда внутренняя диа-
логичность произведения воспринимается, оценивается слушателем как психологический процесс общения с самим собой. В инструментальной непрограммной музыке Чайковского отсутствие конкретного, персонифицированного героя, в сочетании с яркой интонационной общительностью музыкальной речи, позволяет слушателю свободно идентифицировать свой духовный мир с содержанием музыкального образа, перенести в него свое «Я», мысленно в него перевоплотиться. В силу высокой степени абстрактности музыкально-интонационной речи выбор слушателем варианта смысловой интерпретации возможен буквально в каждый момент восприятия произведения, на всякой его ступени. При внимательном, сосредоточенном слушании, последовательном адекватном «прочтении» основных эпизодов, формы-конструкции складывается представление о художественном образе. Это представление не остается неизменным: оно корректируется, «оспаривается» в новых поворотах действия, непрерывно обновляется. Рядом с формирующимся «актуальным» образом в сознании живет опережающий восприятие идеальный образ, окрашенный вымыслом, фантазией, основанный на интуитивном постижении истины.
Интенсивность развития художественного образа, тонкая детали-зированность средств выразительности, свойственные музыке, рассчитаны на высокую сотворческую активность, требуют глубокой сосредоточенности и волевого напряжения, быстроты реакции и частой смены психологических установок. Вопросы-ожидания слушателя подтверждаются или отрицаются развертывающимися музыкальными «событиями», до последнего звука неразрешенная, всегда в движении, динамичная, музыкальная структура возбуждает фантазию.
Инициативность и свобода слушателя, его личностный вкус и позиция проявляются в выборе наиболее близкой ему образной концепции. Отметим, что если в кинофильме или драматическом произведении достраивается образ в основном в конце, в музыке этот процесс имеет тотальный характер.
При специфичной для музыкального искусства внутренней диало-гичности, на своем внешнем уровне, в обращенности к слушателю, музыка, как мы уже знаем, является монологической формой. Непосредственно-эмоциональное воздействие музыки определяет лири-ко-исповедальный тип данного искусства, выражение в нем сокровенного и глубоко интимного, возможность предельного в ней авторского самовыражения. Эмоциональная наполненность музыкальных образов способствует активному общению слушателя с произведением. Наиболее полно оно проявляется в «чистой», свободной от «внему-зыкальных» средств инструментальной музыке.
Воссоздадим для примера модель сотворчества-общения с образами всемирно признанного шедевра — Шестой симфонии Чайковского. Принципиально важно здесь обращение к симфоническому
произведению грандиозному по концепционности и исповедальности, фокусирующему в сочетании этих качеств самую суть общения с музыкой.
Сила личности и обаяния художника, привлекательность интонационного строя широко известных его сочинений, сверх того, некий ореол таинственности вокруг симфонии создают глубокую установку на общение с нею.
Она подкрепляется с первых тактов вступления.
Низкие, как бы блуждающие звуки рисуют расплывчатый, неопределенный образ. Информации недостаточно, мы ждем, что будет. Со сменой темпа, неожиданно, из неясного рисунка возникает тема с определенным ритмом и интонациями. Она многократно варьируется, выражая смятение, предельное напряжение душевных сил — не отягощенные предметной реальностью музыкальные структуры моделируют переживание вообще. Чутко следя за «атомарными» изменениями в тексте, мы втягиваемся в событийный ряд. Бодрые фанфары обостряют внимание — значение их неясно, оно откроется в ретроспективе.
Появление второй темы очень важно. Она контрастна первой — пластична и рельефна, несет покой, соединяет красоту и мудрость. Ее смысл ясен и прост. В сопоставлении с первой, слушатель, не колеблясь, отдает предпочтение второй, пленяется ее красотой. После неустойчивости первой, разрешая ожидания, она вызывает удовлетворение своей стабильностью и позитивностью, что в природе человека. Резкий «удар» в начале разработки, сколько бы раз ни слушал симфонию, заставляет вздрогнуть. Грубое вторжение в тишину говорит о трагедии. Слышатся возгласы протеста, мольба о помощи... Первая тема активизируется, но теперь это энергичный образ, связанный с темными силами, здесь проясняется ее параллельный смысл — с момента зарождения она враждебна герою. В памяти живет образ светлый, он обостряет неприятие бесчинствующей первой темы, которая захватывает жизненное пространство.
И здесь автор вводит хорал, который обнаруживает со всей остротой, что речь идет о глобальных вещах, становится ясно, что речь о жизни и смерти. В репризе контраст двух образов достигает крайнего предела, и мы окончательно убеждаемся, что и интонационно, и структурно несхожие темы обозначили неразрешимый конфликт.
Известно, что прообразом симфонии стал неосуществленный замысел симфонии «Жизнь», содержание которой композитор изложил в подробной программе. О ней напоминает вторая часть; она развертывается перед внутренним взором как относительно спокойная фаза человеческой жизни, хотя и не лишенной некоторой странности. Субъективно-призрачный характер музыки наводит на мысль, что это мир воспоминаний. Небольшой эпизод в средней части возвещает о
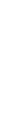
своего рода эффект шагреневой кожи: выстраданные в трудах и битвах успех, победа — еще один шаг, сокращающий жизнь.
Не будем стремиться и к однозначному определению жанра произведения — симфония-драма или исповедь сына века. В ней есть и то, и другое, и даже третье — эпичность, летописность, величие концеп-ционного романа: границы музыкального жанра расширились. Примерно так завершает общение слушатель — с образами симфонии, постигая смысл этой отнюдь не оптимистической трагедии, на высокой философской волне соприкасаясь, возможно, не в первый раз, с простыми и вечными всечеловеческими ценностями, оживающими здесь в прекрасном и мудром образе основной лирической темы.
О первом, по своей сути, образце русского симфонизма «Камаринской» Глинки Чайковский высказал мысль, что в ней, как «дуб в желуде», отразилась вся русская симфоническая музыка. Саму же симфоническую музыку Чайковского можно сравнить, развивая его мысль, с могучим и бескрайним вечнозеленым простором.
КАМЕРНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА
Как иы уже говорили, разная музыка может быть адресована разным группам людей (слушателям). Это непосредственно связано со способом и местом исполнения. Так, например, музыка духовых оркестров рассчитана на исполнение на открытом воздухе для большой массы слушателей, симфоническая музыка для посетителей вместительных филармонических залов, оперные или балетные спектакли для людей, заполнивших театры.
Но есть громадный пласт музыки, не только не требующий большого помещения и оркестра, но и специально ориентированный на исполнение в небольших залах ограниченным числом музыкантов. Такое приближение исполнителей к слушателям не только способствует наиболее полному (детальному) восприятию музыки, но и создает особую атмосферу — атмосферу сопереживания, соучастия, как между исполнителями и слушателями, так и между слушателями.
Музыка, написанная для небольших составов, не требующая для исполнения больших залов, называется камерной. Это может быть солист, дуэт, трио, квартет, квинтет, вплоть до камерного оркестра. Попутно заметим, что точного количественного разграничения между камерным составом и оркестром не существует — граница между ними весьма условна.
Если бы надо было найти символ камерной музыки, то многие, вероятно, назвали бы струнный квартет. И это не случайно. На протяжении всей своей долгой и активной жизни струнный квартет никогда «не покидал сцену», преображаясь стилистически, отражая время и художественную индивидуальность того или иного автора. Это не зна-
пережитой трагедии. Третья часть маршеобразна, монотематична, полна энергии и победоносной силы. Тема развивается от чуть слышимых начальных звуков до утвердительного мажорного апофеоза.
Понятия сострадания, соучастия, перевоплощения и даже самовыражения не применимы к финалу симфонии. Он поражает правдой. Коммуникативная способность музыки здесь состоит в том, что это стенограмма чувства, увы, понятная всем с первых звуков,— реквием, боль невосполнимой утраты. Над плачем реет хранимый памятью образ лирической темы (темы первой части) — источник разыграв
шейся драмы, недостижимый идеал.
На языке предельно доходчивом и близком отнюдь не только российскому слушателю, в симфонии изложена весьма не простая программа, выделяющаяся оригинальностью, глубиной идеи. Воспринят текст, «расслышаны» детали, запали в душу темы, ясен ход событий. Но если слушатель не укрепился в собственной интерпретации целого произведения, то общение не завершилось, не достигло необходимого (адекватного художественной ценности произведения) эффекта. Не это ли произошло на петербургской премьере Шестой симфонии 16 октября 1893г., по поводу которой через два дня великий композитор писал: «С этой симфонией происходит что-то странное! Она не то чтобы не понравилась, но произвела некоторое недоумение». «Недоумение» публики было столь непривычным, ч~о композитор решил переделать финал.
Рассмотрим более подробно третью часть симфонии, поскольку камень преткновения в ней и именно она — интересный объект в! плане изучения механизма общения. Мы уже знаем, что третья часть знаменует собой победу; она логически завершает предшествующие события. Здесь можно поставить точку, что и намеревается сделать слушатель, в соответствии с установкой, сформированной стереотипом содержания симфонического цикла. Но композитор ведет его дальше, давая после паузы надгробные рыдания. Так что же в этом контексте означает третья часть? Ответ не может быть однозначным.
Скерцо-марш (так определяется жанр третьей части симфонии) с его призрачным шелестом, победным, а затем все сметающим маршем может получить и получало в дирижерской интерпретации, а за ней и в слушательской, то значение победоносной судьбы героя (в былые времена, изымаясь из симфонии, скерцо-марш звучало торжественной здравицей в дни официальных празднеств), оттеняющей разящий контраст с реквиемом последней части, тс роль драматического предыкта — последний натиск темных сил перед гибелью героя. Но в музыке важные рычаги общения — конкретность чувства и абстрактность смысла. Поэтому, сочувствуя и соразмышляя, слушатель может найти и третье — самостоятельное — диалектическое — решение, 510


теты Шостаковича по глубине мысли, творческим задачам и их решению сопоставим с симфонией.
В первой части два образа — первый хоральный, напоминающий (весьма условно) генделевские звучания, но более личностного характера. Возникающие диссонансы подчеркивают «затрудненность» высказывания, когда мысль не сформирована, а еще только рождается,— рождается сейчас, в данный момент. И если первый образ складывается из звучания всех четырех инструментов, где каждая линия почти равноценна, то второй (образ), логически связанный с первым, предстает удивительно обновленным. Функции каждой партии здесь четко дифференцированы: мелодическая линия у высокой 1-й скрипки, у виолончели своеобразная и очень выразительная остинатная (повторяющаяся) фигура в нижнем регистре с использованием глиссандо, альту поручены ритм и гармония. Разреженность звукового пространства придает второму образу необыкновенную воздушность и легкость, вызывает ощущение свободы высказывания.
Образ необычайно яркий, притягательный (с ним не хочется расставаться) и в то же время трудно определимый словами. После очень короткой разработки (14 тактов) следует реприза. Здесь материал первого образа меняет свою ритмическую структуру — из трехдольного в экспозиции он становится (в репризе) четырехдольным. Эта, казалось бы, незначительная корректива вносит элемент размеренности, спокойствия, умиротворенности, что и подтверждает последующая кода.
II часть построена в форме вариаций. Тема очень напевна, по своему складу близка к русской народной песне, а бархатистый тембр альта (в начале и конце части) добавляет ей теплоту и задушевность. И хотя тема, варьируясь, проходит у всех инструментов, тембр альта остается в памяти как основной, как голос главного «героя».
Если первые две части были медленными (обе в темпе Modcrato), то III часть (Allegro molto) вносит контрастное обновление. Ее стремительность, напор и полетность в сочетании с приглушенным, шуршащим тембром (все играют с сурдинами) создает у слушателя образ несколько фантастичный, непредсказуемый, но главное, заключающий в себе сгусток энергии. В середине, по контрасту с острой скер-цозностью начала и конца III части, появляется мажорная, полная света и обаяния лирическая тема. Движение сохраняется, но благодаря неизменности фактуры и педализированному (выдержанному) басу возникает ощущение устойчивости, гармоничности. Таким образом, стабильность позитивного начала становится ключом к пониманию всей части.
чит, что струнный квартет занимает какое-то исключительное положение. Мир камерной музыки поистине безграничен: это и фортепиэнное трио, и квартет деревянных духовых, и квинтет медных духовыхинструментов, разного рода составы из смешанных тембров, вплотьдо ансамблей ударных инструментов, не говоря уже о фортепианнойсольной литературе.
XX век с его установкой на кардинальное обновление музыкального языка демонстрирует примеры использования композиторами новых тембров, необычных тембровых сочетаний. Это в полной мере нашло отражение в камерной музыке — появляются ансамбли нетрадиционного состава и не только разнотембровые, но и монотембровые. Например: произведения для 4-х фаготов или 6-ти валторн. Струнный квартет, избранный нами в качестве объекта для более детального и глубокого разговора о камерной музыке, один из многих достойнейших представителей рассматриваемой сферы.
Репертуар для квартета струнных необъятен. Среди авторов, писавших для него, крупнейшие композиторы мира: Д. Шостакович — 15, Л. Бетховен —16, Й. Гайдн —83 квартета! Что же привлекало композиторов к этому составу?
Если посмотреть на его динамические возможности, то известно, что слишком большая громкость четырех струнных инструментов недостижима. С другой стороны, а так ли уж она нужна в небольшом зале? Тем более, что в р или рр квартет с ювелирной точностью передает мельчайшие нюансы музыкальной речи.
Струнный квартет по сути монотембровый состав. Скрипка и альт (тем более виолончель) отличаются прежде всего силой звука, а не тембрально, хотя именно в квартетной музыке опытный слушатель скорее сможет уловить еле заметное тембровое отличие одного струнного инструмента от другого, чем в оркестре. И все-таки это одна краска, один тембр.
Что же привлекает композиторов к такому одноцветному составу? Для ответа на этот вопрос стоит поставить другой вопрос: а может быть, автору в данном случае и не нужна цветовая гамма? В противном случае он обратился бы к другому составу, например, состоящему из деревянных духовых, где каждый инструмент имеет свой индивидуальный тембр. Значит композитор сознательно делает свой выбор в пользу струнного состава, сознательно отказываясь от многоцветия духовых в пользу графичности, филигранной точности и выразительности каждой линии в партитуре квартета.
Обратимся к музыке. 1-й квартет Д. Шостаковича. Это небольшой (16 мин.) четырехчастный цикл, но как и все последующие квар-512




IV, последняя часть цикла, построена на двух темах. Одна бо-
подвижная, другая — лапидарно-«фанфарная». Обе едины в утвеждении светлого, оптимистичного и молодого взгляда на жизнь.
Первый квартет Д. Шостаковича — один из самых коротких, няркая образность, глубина содержания, симфоничность мышленияавтора, превращают это произведение в небольшую симфонию.
Обратимся к другому примеру. Композитор А. Шнитке. Его II квартет по содержанию, структуре, техническому решению являет со«
бой полную противоположность квартету Д. Шостаковича. Музыка квартета трагедийна (квартет посвящен памяти Ларисы Шепитько).
Если квартет Шостаковича излучает мягкий свет с мудрой грустинкой, то квартет А. Шнитке фиксирует предельные эмоциональные состояния — от экстатического паралича, оцепенения до фантасмагорического шквала, обрушивающегося на сознание, когда бессвязные мысли, образы беспорядочно и стремительно проносятся в мозгу человека в момент потрясения, в момент тяжелой утраты. Невозможно описать все стадии и детали этих состояний (нужно проста] слушать музыку), их множество, а логическая последовательность и психологическая точность вне всяких сомнений. Показательна шкала динамических оттенков — от Iff до рррррр! Такой разброс значений динамики означает, что если квартет добьется едва слышимого звучания в рррррр, то Iff будут более чем достаточным контрастом.
Для того чтобы лучше понять специфику звучания камерного кол-" лектива (в данном случае квартета), проведем мысленный эксперимент. Представим себе, что музыка квартета А. Шнитке звучит в исполнении струнного оркестра, при этом не изменена ни одна нота, ни один штрих, сохраняются тембры. Изменения касаются только количества исполнителей — вместо 4-х солистов звучат 4 группы струнных инструментов. Казалось бы, ничего нового? Но это не так. Звучание группы, по сравнению с игрой солиста, теряет черты индивидуальности, становясь более «объективным». Такая трансформация далеко не всегда идет на пользу дела. Рассматриваемая музыка А. Шнитке, ее тончайший психологизм, глубина и искренность может быть верно прочувствована и адекватно исполнена именно в камерном варианте. Поэтому обращение композитора к струпному квартету представляется не только целесообразным, но и единственно верным решением.
Завершая разговор о камерной инструментальной музыке, хочется еще раз напомнить о ее многообразии. Как уже было сказано, она включает в себя ансамбли самого разного состава, но не только ансамбли. Вся сольная литература для самых разных инструментов (особенно богатая для фортепиано) — это тоже сфера камерной музыки. 514
КАМЕРНАЯ ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА
Контакт с музыкой в произведениях, в которых она выступает в союзе с другими искусствами, существенно отличается от ситуации, когда художественный образ воплощен одними только музыкальными средствами. В синтетических художественных формах музыка, находясь в диалоге с другими искусствами, в определенной мере подчиняется их закономерностям. Сценическое действие, слово, жест, изображение вносят более конкретный смысл в музыкальный образ. На этом пути неизбежны потери: соответственно уточнению смысла снижается отвлеченность, а следовательно, и многозначность, специфическая широта и свобода содержания музыкального образа. Самая естественная и распространенная форма музыкального синтеза — вокальная музыка, союз музыки и слова.
Музыка родственна словесным искусствам, так как произошла из того же, что и они, корня — эмоциональной речидревнихлюдей.
Одна из причин развития музыки, считает наука,— ее сигналь-но-коммуникативные свойства. С древних времен с помощью звуков люди выражали чувства радости, тревоги, горя. С течением веков музыка научилась передавать и тончайшие оттенки этих состояний, и ход мыслей человека, стала средством духовного общения. Она вошла в храмы и заняла там подобающее ей место. Практически ни одна религия не обходится без музыки.
В способности быть языком души музыка особенно близка поэзии. Не случайно около половины из всех существующих музыкальных жанров — песня, романс, вокальный ансамбль, опера, кантата, оратория, месса, мюзикл — связаны со словом. Многие шедевры музыки рождены поэзией Гёте, Гейне, Байрона, Пушкина, Тютчева, Блока, Цветаевой, Рильке, Бродского.
Музыку и поэзию роднят многие содержательные и структурные черты. Обе выразительны, эмоциональны, одухотворены и лиричны. И музыка, и поэзия развертываются во времени. В обеих большое значение имеют ритм, метр (акцентность), темп, синтактика, интона-ционность. Музыка как и поэзия по-своему использует эти средства.
Очевидно, что искусства сливаются в одно для того, чтобы обогатить друг друга своими особыми качествами и красками. Музыка воздействует на слово, а слово, в свою очередь, воздействует на музыку. Рассмотрим первый случай. Музыка дает поэзии крылья, вдыхает новую жизнь в литературное произведение. В этом плане особенно интересно сравнить «прочтение» одного и того же произведения или же творчества какого-либо поэта разными композиторами.
Возьмем хрестоматийный пример — музыкальное преломление поэтического образа стихотворения Пушкина «Ночной зефир». Романс Глинки па этот текст прозрачно безмятежен. Вдохновленный прекрасной лирической миниатюрой поэта, композитор, скорее всего,
зз* 515

Теперь рассмотрим второй случай: воздействие слова на музыку. Литературный текст не только вдохновляет композитора или подскл зывает ему различные интересные детали музыки и собственно музыкальные интонации. Степень воздействия слова на музыку различна и связана с творческими установками композитора. Даргомыжский четко выразил свое кредо: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды». Этот принцип особенно ярко реализовался в его песнях «Мельник», «Червяк», «Титулярный советник», в опере «Каменный гость».
Такая позиция близка и Мусоргскому. Достаточно вспомнить выражение в его произведениях характерных интонаций человеческой речи, а вместе с тем и создание необычайно колоритных образов Бориса Годунова и Юродивого, Варлаама, Озорника и Семинариста. С другой стороны, такие композиторы, как Бетховен, Шуберт, Чайковский, Рахманинов, идут от общего содержания, образного строя текста (но все-таки — от текста!).
Показателен яркий пример взаимодействия слов и музыки в романсе Чайковского «Средь шумного бала». Текст А. Толстого стал сюжетной основой пленительного в своей простоте вокального произведения. Именно текст с его скрытой трехдольностью подсказал ритм вальса, а также прозрачность и легкость фактуры и аристократичную, благородную манеру высказывания.
При всем лиризме и камерности романс многопланов. Это и внутренний монолог (взгляд «в себя») лирического героя («тебя я увидел») и портрет героини, кажется, сошедший со страниц Л. Толстого. Но оба образа подчинены главному, третьему — атмосфере уюта домашнего бала, столь близкой самому композитору. Объединяющую образную роль в романсе играет музыка. В ней мы слышим интонации тихой и мягкой интеллигентной речи, непринужденную красоту и пластику движений, голос героини. Доверительная повествовательность слов слилась в романсе с грациозной и нежной мелодией, хотя полного образного совпадения здесь нет.
Удивительно проста, рассчитана на незатрудненное восприятие композиция романса: два повторяющихся куплета («Средь шумного бала» и «Лишь очи печально глядели...») сменяет легкий контраст среднего раздела («Мне стан твой поправился тонкий...»). Затем два повторяющихся куплета «В часы одинокие ночи...» и «И грустно так грустно я засыпаю...» заканчиваются неожиданно (для слушателя и для героя!) кульминацией — признанием: «Люблю ли тебя я — не знаю, но кажется мне, что люблю». Неожиданный, парадоксальный поворот внутреннего действия встретится в будущем нашему читателю и слушателю во многих психологических романсах Чайковского.
В качестве примера взаимного обогащения музыки и поэзии в вокальном произведении рассмотрим внимательно романс Рахманинова
517
сознательно стремился передать цельный образ окрашенного в анареонтические тона стихотворения. Современники, занимавшие схо.ные позиции в русском классическом искусстве, близкие по масшта
дарования поэт и композитор — родственные творческие личности
Одно из подтверждений этого — романс «Я помню чудное мгнове-нье», признанный искусствоведами конгениальным стихотворениюНо такое абсолютное равенство в союзе муз скорее исключение и
правил. Амплитуда колебаний художественных достижений и досто-iинств здесь очень велика. Например, опера того же композитор
«Руслан и Людмила» занимает, безусловно, большее место в искусст
ве, нежели ее блистательный литературный первоисточник. Что ж
касается романса Глинки «Ночной зефир», то культурному слушателю нетрудно увидеть его близость к поэтическому прообразу. Он написан в классическом стиле и обладает совершенными пропорциями
Вот что говорил по этому поводу академик, музыковед и композите»"
Б.А. Асафьев: «Образность ритмо-интонаций воли пленяет слух в ро-мансах "Ночной зефир" и "Уснули голубые"... Ясность мысли и чувст
ва здесь вызывают в восприятии приятное ощущение жизненной све-жести и светлости... Искусство, которое действительно восстанавли-вает душевные силы и "выпрямляет" сознание.., не поучая рассудоч
ностыо и не давя чувственностью». Добавим к этому, что при всейблизости к эстетике Пушкина, есть в этом романсе и совсем особен-ная безмятежность, и что, согласно своей музыкальной природе, о
еще более обобщен и, что особенно важно, материален и «осязаем».Это новый художественный образ.
Для Даргомыжского в стихотворении Пушкина интересна сюжет-ная канва, сценарий. Свой романс «Ночной зефир» он выстраивает наконтрасте трех образов — ночного пейзажа («Ночной зефир струитэфир...»), Ее и Его образов («...вот испанка молодая...» и «Сбросьмантилью, ангел милый...»), внося тем самым в повествование эле-мент театральности. Романтическую тональность романса создаст по-вторяющаяся пейзажная тема, сумрачная и туманно-взволнован-ная — эмоционально наполненный и даже гипертрофированный об-раз. Музыкальная стилистика романса проста, легко улавливаемаслухом и разнообразна — от городской романсности и иесенности киспанскому фольклору. Романс получил широчайшую известность.
Но его образ далек от поэтического образа стихотворения Пушкина.Столь же различно отношение Глинки и Даргомыжского к творчествуА.С. Пушкина в целом: в глинкинской пушкиниане преобладают ли-рика и эпос, в пушкинских образах Даргомыжского главенствует дра-
ма. Достаточно вспомнить уже названные произведения, добавив кним «Русалку» и «Каменного гостя» Даргомыжского, написанные насюжет пушкинских драм.516
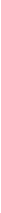
на слова Тютчева «Весенние воды». Представим себе звучание этого широко известного романса без текста. Для этого не нужно уси* лий — романс используется в концертной практике инструменталистов. Исполненный солистом-трубачом, он существенно отличается от оригинала. Музыка без слов теряет смысловую конкретность, но в то же время расширяет круг возможных интерпретаций. Стихотворение Тютчева заключает в себе яркий музыкальный подтекст — кон
кретная описательность зрительного ряда, прямая речь на драматур
гической вершине, недораскрытость стиха оставляют место для муз'
ки. Экспрессия вокальной и динамика фортепианной партий в музык
Рахманинова усиливают торжествующе-призывную интонацию стиха, привносят мужественную окраску и одухотворенность. Мелодическим развитием подготавливается кульминация романса: «Весна
идет! Весна идет!» Высокий регистр голоса и динамика фортепианно
го звучания, участие двух исполнителей — певца и инструментали
ста — выражают патетику, экспрессию, недоступную поэтической
декламации, неподвластную искусству чтеца, как и певческое испол
нительство, «опрокинутому» в зал, с монологическим высказывание
обращенному к слушателю. Контрастность заключительного построения всему предшествующему, достигнутая музыкально-гармоническими средствами, создает специфический для музыки «эффект растворения», картину слияния с миром природы. Посредством интонационного единства произведения достигается рельефность, цельность музыкального образа. Открытая эмоциональность, экспрессия музыкальной речи, внутренняя диалогичность музыкальной структуры романса меняют поэтический образ. В восприятии романса первостепенное значение получает переживание и снижается роль представлений, характерных для восприятия литературного текста.
Романс — основная форма вокальной камерной музыки. Он не
велик по протяженности, но в нем есть интенсивное развитие единого образа. И это позволяет композитору-мастеру воплощать в этой форме исключительно емкие, психологически тонкие и сложные художественные образы. От близкого к нему жанра — песни романс отличает более тесная связь поэтического и музыкального текстов. Для песни характерно куплетное строение — повторение одного и того же музыкального материала с разным текстом.
Но зададимся вопросом: так ли необходимы слова для того, чтобы петь? Кое-кто ответит отрицательно — мы нередко напеваем запомнившийся мотив, не зная слов. Хорошо известен романс-вокализ Рахманинова. A P.M. Глиэр (автор балета «Медный всадник» с широко известным его фрагментом «Гимн великому городу») написал единственный в своем роде концерт для голоса с оркестром. Голос, очень высокий и легкий (колоратурное сопрано) выступает здесь в роли солирующего инструмента, поэтому, естественно, в этом произведении 518
слова отсутствуют. Вокализы — упражнения без слов, разучивают певцы.
И все-таки текст в пении — явление очень естественное, имеющее давние культурные традиции.
Романс, как и песня, помимо самостоятельного, обособленного существования, может быть частью циклического произведения. Камерно-вокальный цикл — произведение, включающее круг образов, подчиненных прямо или косвенно одной главной теме, и в этом смысле являющееся яркой монологической формой лирического, исповедального характера. Таковы вокальные циклы «Кдалекой возлюбленной» Бетховена на слова А. Эйтелеса, «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» Шуберта на слова В. Мюллера, «Любовь поэта» Шумана на слова Г. Гейне. Заметим попутно, что монологическая форма высказывания со всей очевидностью выраженная в романсе и лирической песне, присутствует и в инструментальной музыке. Наглядно проявляется она в миниатюре, содержанием которой служит яркое высказывание лирического героя, связанное то ли с прямым раскрытием его душевного мира, то ли с оценкой внешнего мира, то ли с поэтически-одухотворенным восприятием природы («Фантастические пьесы» Шумана, мазурки и прелюдии Шопена, «Песни без слов» Мендельсона, «поэтические картинки» Грига, «Годы странствий» Листа, пьесы Глинки, Балакирева, «Размышление» Чайковского). Монологичность является характерной чертой лирико-романтиче-ских произведений более крупной формы — симфонических поэм «Прелюды» Листа, «Моя родина» Сметаны, сюит для струнного оркестра Чайковского, поэм для фортепиано Скрябина и даже симфоний (уже знакомых нам «Фантастической» Берлиоза и Шестой — Чайковского). Объединенный тематическими и интонационными связями, вокальный цикл может отражать глубокие идеи, концепции, подобно таким содержательным произведениям инструментальной музыки, как соната, сюита, квартет. Убедиться в этом позволят «Песни на слова Роберта Бернса» Г.В. Свиридова или «Вокальная сюита на стихи Микеланджело» Д.Д. Шостаковича.
СЦЕНИЧЕСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ. ОПЕРА. БАЛЕТ
Опера (от итал. opera — труд, дело). Действительно, опера — трудное дело для рук, ума и сердца очень многих. Опера — музыкальный спектакль. На сцене люди. Они поют, играют роли. Вот дирижер. Звучит оркестр, руководимый им. Здесь и балет, и хор, и декорации, костюмы и грим. На сцене площади, дворцы, залы, галереи и дома, гроза и гром, а могут быть войска и полководцы. И в зале люстра, бархат. Но это видимая часть всего. Еще есть композитор, режиссер, художник, либреттист, долог путь от замысла к спектаклю!

Как и во всем живом, духовном, в искусстве действует закон союза муз и их обособления. Конец XVI века был ознаменован первым. Людям давно известна способность музыки усиливать действие, укреплять слово, говорить невыразимое в словах и жестах. В кружке аристократов, ученых-гуманистов, поборников искусства задуман новый вид искусства — опера. Ее первоначальное название «Drama per musica» с предельной точностью определило цель: драма через музыку. Участники кружка — поэты, музыканты, среди них лютнист Вин-ченцо Галилей — отец великого Г. Галилея.
Далекие предки музыкальной драмы — синкретическое «театральное» действо древних у костра, египетские, индийские и ближневосточные мистерии, античная трагедия (Софокл, Эсхил), в которой хор выражал авторскую мысль, комментировал действие.
Время рождения оперы — исход Возрождения, место — Флоренция, глубинная причина — стремление к возрождению принципов античной трагедии с ее синтезом поэзии, музыки, драмы. В XVII в. опера распространилась за пределами Италии, в XVIII в. утвердился ее общественный престиж. Она стала полем сражения мнений, идей и даже политических интересов. Пожар страстей у широкой публики вызвали гражданственность и патриотичность опер Глюка, Россини, Верди, Сметаны. Мелодия хора «Ты прекрасна, о родина наша» из оперы «Набукко» Верди воспринималась современниками компози
тора как гимн итальянской революции. Премьера оперы в Милане в
1841 г. превратилась в политическую манифестацию. Горячо откликнулись сердца на лирику и человечность опер Чайковского, Визе, Пуччини. С момента рождения опера — один из самых демократичных музыкальных жанров. «Есть нечто неудержимое, влекущее всех композиторов к опере: это то, что только она одна дает вам средство сообщаться с массами публики»,— писал П.И. Чайковский. (Чайковский П.И. Переписка с Н.Ф. фон Мекк. Т. III. М.; Л., 1936. С. 381). Не забудем, что опера возникла тогда,'когда не было современных средств массовой информации. Только представив себе эту ситуацию, можно понять важность рождения оперы для общения людей.
Вопрос вопросов оперы — музыка и слово, музыка и драма. Их отношение друг к другу менялось на протяжении всей истории оперного жанра. КВ. Глюк настаивал, что музыка в опере — «служанка поэзии». А.Н. Серов (отец В. Серова) и Р. Вагнер, напротив, считали, что опера должна быть музыкальной драмой. Блистательно решили эту задачу в XIX в. Ж- Бизе в опере «Кармен», П.И. Чайковский в «Пиковой даме», Дж. Верди в опере «Отелло». Вдохновенная мелодичность и песенность «перекрывают» текст в операх М.И. Глинки, в итальянской опере XIX в. На отважный опыт речитативной оперы, построенной исключительно на омузыкаленной речи, без распевания 520
слогов, свойственного мелодии, песне, решились Даргомыжский в «Каменном госте» и Мусоргский в «Женитьбе».
Действительно, связи литературной основы в целом и отдельного слова с музыкой в опере глубоки и разнообразны. Как правило, идея и сюжет оперного произведения заимствуются из литературы или словесного фольклора — мифа, сказки, былины. Текст литературного первоисточника преобразуется в либретто (от итал. libretto — книжечка) — словесный текст оперы, предназначенный для пения. Профессия либреттиста требует тонкого понимания музыки, особенностей драматургии оперы, способности проникнуть в замысел композитора.
Очень важный момент здесь — переосмысление литературного прообраза, которое в либретто и особенно в музыке идет по линии поэтизации, возвышения образов главных героев и укрупнения художественной идеи произведения. Так, прозаичные, приземленные персонажи новеллы П. Мериме «Кармен» становятся в опере яркими индивидуальными характерами. Красавица Кармен, любимица толпы, привлекает к себе искусством — она поет и танцует. Ее романтический образ символизирует свободу. Ее кредо выражено в хабанере (испанской песне), поддержанной хором: «Любовь свободно мир чарует, законов всех она сильней...» В такой высокой, притом драматической «тональности» выдержаны все основные персонажи оперы. Не меньшие изменения мы видим в «Евгении Онегине». Либретто оперы, составленное композитором с участием К Шиловского, построено в основном на поэтическом тексте А.С. Пушкина. Но как изменилось само содержание романа в стихах! Главная героиня оперы — Татьяна. Все подчинено сиянию ее образа. Музыка Чайковского усиливает характерные черты идеального женского образа в русском искусстве. Достаточно вспомнить сцену письма Татьяны в опере, психологическую глубину и потрясающую душу, правду чувств в этом фрагменте.Примеров подобных переосмыслений в музыкальной литературе множество.
Опера как театральный жанр во многом сходна с драмой. В классическом варианте (XVII в.— 1-я половина XX в.) она состоит из актов (действий). В ней есть экспозиция образов, завязка действия, кульминация, развязка. И в опере, и в драме используются диалог и монолог. Более существенны различия этих двух жанров — пение — главная характеристика оперы. Развитие образов оперных персонажей заключено в вокальных партиях. Впечатляющая естественностью и тембром человеческого голоса вокальная партия — основной материал оперы. Пение сопровождается звучанием симфонического оркестра, выполняющего в опере и самостоятельную функцию. Такова опера эпохи классической музыки.
Симфонический оркестр не только сопровождает, гармонически и темброво обогащает оперное пение. Его значение намного серьезнее. Он может выполнять функции эпиграфа, живописует сцены и пейзажи, в нем заключены музыкальные обобщения и глубокий подтекст.
Ключевое значение в опере имеет увертюра (от фр. ouveture — дебют, открытие, начало). Оперная увертюра — эпиграф произведения, помимо выражения идеи, в ней намечается в последовательности и взаимодействии тем и ход событий в опере и даже предсказывается их исход. Именно так построены увертюры «Кармен», «Руслана и Людмилы». Удивительным образом увертюры эти перекликаются между собой. И та, и другая полны жизнеутверждающей силы, в конце же, как тень, недоброе предзнаменование, проносятся, мелькают «злые» темы: в первом случае — роковой страсти, во втором — Черномора. Впечатляющее трогательной нежностью, чистотой и настроением обреченности вступление к «Травиате» заранее предсказывает судьбу главной героини оперы Верди — Виолетты Валери.
Симфонические антракты (оркестровое вступление к последующим действиям оперы, симфонические фрагменты между ними) по-разному связываются с драматическими событиями. Так антракт к III действию «Кармен», светлая пастораль, прозрачный ноктюрн контрастирует с углубляющимся конфликтом в отношениях главных героев. Яркая солнечная музыка антракта к IV действию достигнет апогея в дальнейших событиях и в то же время составит контраст с трагической бездной финала.
Нередки в оркестре оперы лейтмотивы, лаконичные рельефные темы, сопутствующие герою или ситуации, мысли, напоминающие о них: лейтмотивы неизменные (лейтмотив Весны в «Снегурочке» Рим-ского-Корсакова, Божьего суда в «Лоэнгрине» Вагнера) и преобразующиеся (лейтмотив роковой страсти в «Кармен», трех карт в «Пиковой даме»).
Большие художественные возможности заключены в опереженииоркестром событий, которые происходят на сцене и не обозначенысловом. За примером еще раз обратимся к «Пиковой даме». Первоепоявление на сцене Германа сопровождается в оркестре лирическойтемой, которая позже наполняется конкретным смыслом в ариозо «Яимени ее не знаю», выражающем нежное, а затем пылкое чувство кЛизе. Сначала же эта тема характеризует скрытый внутренний мир,душевное состояние героя. Или случай, когда оркестр обретает гла-венство на кульминации вокального высказывания. В арии-призна-нии Германа «Прости, небесное созданье...» после того, как все словауже сказаны, неизбывность чувства с потрясающей душу правдиво-стью выражают виолончели в высоком регистре, повторяющие, какзаклинание, отчаянную, исполненную любви и муки фразу. А за-34« 523
Рассмотрим основные формы оперной музыки. На первом месте в их ряду — ария, наиболее специфичная и запоминающаяся форма оперного пения, главная портретная характеристика героя, раскрывающая особенные (внешние, но еще более — внутренние) черты образа. Нередко ария заменяется песней, романсом. Вокальные «портреты» различны по структуре.
Классическая ария имеет форму da саро(итал.— с головы, сначала). Это трехчастная форма с контрастной средней частью. Такова ария Ивана Сусанина «Ты взойдешь, моя заря» — драматическая трехчастная форма с декламационной кодой. Возможны случаи построения арии в форме сонатного allegro, например, «богатырская» ария Руслана «Дай, Перун, булатный меч...» Для арии песенного или романсного типа характерно куплетное строение. Пример этого — известные хабанера в опере «Кармен», Романс Антониды с хором в «Иване Сусанине» Глинки.
Ария — монолог-воспоминание, раздумье, размышление наедине с собой, произносимый от собственного «Я», а потому подчеркнуто личностный, лиричный («В храм я вошла смиренно» —Джильда в опере «Риголетто» Верди, «Что день грядущий мне готовит?» — Ленский в «Евгении Онегине», «О дайте, дайте мне свободу!» — Игорь в опере Бородина «Князь Игорь»). В арии, естественно, происходит остановка внешнего действия, что послужило одной из причин дискуссий, вдохновленных сторонниками драматизации оперы. Впечатление еще большей остановки, своеобразный психологический эффект тишины (пустоты) создают ансамбли — дуэты, трио, квартет и т. д. Вот «затишье перед бурей» — дуэт Онегина и Ленского в преддверии поединка «Враги — враги...», когда перед мысленным взором обоих проходят теперь уже невозвратные эпизоды их светлой дружбы. Или квинтет главных персонажей (различных по тембру трех мужских голосов и двух женских), по разным причинам охваченных одним и тем же чувством («Мне страшно...») — сцена в Летнем саду, в котором происходит завязка трагедии, каковой в полной мере является опера Чайковского «Пиковая дама». И как впечатляет эта звучащая тишина!
Хор в опере выражает чувства и мысли сразу многих людей и по-этому вносит в происходящее объективный оттенок, характеризуя Iчаще всего народ в целом или его отдельные группы (хор поселян и хорбояр «Мужайся, княгиня...» в «Князе Игоре» Бородина).
Активное драматическое действие развертывается в оперных речитативах (в том числе и хоровых) — омузыкаленной речи героев. Наиболее естественно звучит речитатив в диалоге, но может и предшествовать арии; он может быть в разной мере мелодизирован и даже переходить в промежуточную с пением форму — ариозо: вокальное высказывание без распева слогов. 522
тем — чудесное перерожденье! Как счастье, достижение, итог, минорная начальная фраза арии звучит в мажоре у tutti (всего) оркестра.
Все сказанное должно убедить нас в том, что все-таки оперу не смотрят, а слушают... Но это классическая опера. А опера XX века, современная? Каковы ее черты?
Преобладающим музыкально-выразительным средством в опере становятся мелодический речитатив и декламация. Вместе с центростремительными силами современного искусства, стремлением к синтетическим формам, в оперу вошли художественные приемы эпического театра и оратории, кино и средневековой мистерии, сложных форм инструментальной музыки. А принцип экономии средств привел к жанру одноактной оперы, к уменьшению состава оркестра.
Но и в речитативной опере XX века традиционные оперные формы не утратили своего значения. Постараемся вспомнить знаменитую арию Кутузова и арию А. Болконского, ариозо Наташи и дуэт Наташи и Сони в «Войне и мире» С. Прокофьева. Или дуэт Чичикова и Коробочки в «Мертвых душах» Р. Щедрина — разговор-торговлю по поводу цены мертвых душ. Спор начинается в спокойных тонах, но страсти разгораются и темп ускоряется. «Спор» переходит в оркестр, он рисует эту сцену еще более убедительно, нежели вокальный дуэт — оркестр захлестывает голоса спорящих, и мы видим лишь их жесты. Вместо лирического отступления Гоголя композитор вводит в оперу лейтмотив «дороги», рисующий необъятные пространства России — «Не белы снеги», «Ты полынь, полынечка-трава». Заменяя симфонические антракты, он создает тем самым совершенно новый драматургический эффект.
Сегодня опере около 400 лет. Возраст солидный. Но и пройдя через столетия, обновившись в разных художественных стилях, в творчестве разных композиторов, она предстает перед слушателем-зрителем удивительно жизнеспособной.
* * *
Балет один из наиболее популярных и эстетически притягательных музыкальных жанров. Многим, должно быть, памятен день или вечер своего первого посещения музыкального театра — сказочно-феерическое зрелище на сцене и роскошь звуков оркестра, сливающиеся в гармонию красоты. Балет как ощущение праздника, счастливая память детства.
Главный компонент балетного спектакля — музыка, которую композитор пишет, руководствуясь общим драматическим планом либретто, и уже на основе музыки балетмейстер сочиняет «хореографическую партитуру». 524
Музыка — душа балета. И все-таки балет необходимо видеть. Его материальная оболочка — пластика. И она эстетически самодостаточна и выразительна. Когда мы смотрим фотографии фрагментов какого-либо балета, даже при остановке движения, мы не можем не заметить красоты, живописности, выразительности схваченного «остановленного» мгновения.
Балет (от лат. ballo —- танпую) — вид сценического искусства. Балетный спектакль синтетичен, он объединяет музыку, хореографию (танец и пантомиму) и изобразительное искусство (декорации, костюмы, световые эффекты). Проблемы синтеза здесь во многом подобны тем, что встречались нам в опере, но компоненты в балете сочетаются иначе.
Балетная музыка (написанная специально для балета опытным в этой сфере композитором) имеет отличия от музыки симфонической — в ней предусмотрены хореографические возможности, учитываются язык танца и пантомимы, требования сцены. Такая музыка вызывает пространственно-двигательные представления. Когда в концертном исполнении мы слушаем оркестровые сюиты из балетов Чайковского, из «Жар-птицы» и «Петрушки» Стравинского, «Золушки» Прокофьева, даже не зная сюжета, мы безошибочно представляем себе ожившие в танцевальной пластике «скульптурные» образы, линии и формы движения, композиции танцевальных фигур. В то же время эти своеобразные инструментальные циклы подчеркивают самостоятельную художественную ценность балетной музыки.
Соединение танцевального движения и музыки удивительно естественно, органично и содержательно. Даже при отсутствии сюжета (программы)такой синтез вызывает эстетическое чувство. Не случайно помимо балетов, связанных с литературным произведением («Щелкунчик» П. Чайковского, «Ромео и Джульетта» Прокофьева, «Анна Каренина» Щедрина) создавались и бессюжетные балеты («Серенада» на музыку струнной серенады Чайковского, «Агон» Стравинского, «Эпизоды» на музыку А. Веберна).
Важно отметить, что взаимоотношения музыки и танца были всегда равноправными и обогащали друг друга. Так форма сюиты обязана своим возникновением танпу (сюита — последовательность из нескольких танцев). Танцевальность и связанные с нею художественно-образные представления, буйство и зажигательная эмоциональность ритма, с одной стороны, и его организующая четкость, с другой, для слушателя. Более того, именно танцевальность придает музыке особое очарование, ту специфическую жизненность и живость, которые делают музыку столь популярным искусством.
Это качество музыки высоко оценивается не только в художественном восприятии, оно широко отразилось и в творчестве многих композиторов. В музыкальном наследии мы находим не только любимые всеми просвещенными слушателями «Песни без слов» Мендель-

сона или «Венгерские рапсодии» Листа, состоящие из чередующихся песен и танцев, но и музыкальные шедевры, в названии которых используется танцевальный жанр, как, например, «Вальс-фантазия», «Арагонская хота» Глинки, вальсы, мазурки, полонезы Шопена, «Болеро» Равеля или национальный танец, например, «Венгерские танцы» Й. Брамса, «Норвежские танцы» Э. Грига. Темпераментные и поэтичные танцевальные картины и сцены занимают значительное оперное пространство. Достаточно вспомнить знойные «Половецкие пляски» из «Князя Игоря», или танцы из «Кармен», или «Польский акт» из «Ивана Сусанина». В камерно-инструментальной, симфонической музыке танцевальные ритмы и структуры весьма выразительны, особенно в финалах сонат и симфоний, нередко передающих праздничную радость, ликованье и рисующих картины народного гулянья, веселья.
Хореографические идеи, рожденные музыкой врядли можно перечислить. Музыкальное развитие интенсивно продвигало технику танца. Хореография, как и музыка, способна создавать обобщенный художественный образ, поэтому рисунок, пластика танца — это не детальная иллюстрация музыки, а создание адекватного ей пластического образа по своим законам, своими средствами выразительности. В слиянии хореографического образа с музыкой последняя выступает в роли его наполнителя, обогатителя. Оркестр аккомпанирует танцу-мелодии, оживляет, одушевляет «скульптурный портрет» — пластический образ, насыщая его изнутри тончайшими трепетными нюансами, красноречивыми подробностями музыки. В то же время пластический образ выступает перед нами как обобщенный образ психологически насыщенной, подробно разработанной музыки.
Уже в древности, в обрядовых, ритуальных действах присутствует танец, поддержанный ритмом ударных инструментов. В этом случае танец выполняет мелодическую функцию. Дальнейшая эволюция музыки и танцевального искусства еще более подтвердила их необыкновенную близость. История развития балета длительна и не проста и напоминает историю оперы, хотя, в отличие от оперы, его проблемы не вызывали общественной полемики. Истоки балета мы находим в танцевальных интермедиях празднеств и зрелищ итальянского Возрождения. В балетном синтезе видны особенности художественных эпох и стилей, общие поиски в искусстве — опере, драме, музыке, изобразительном искусстве. В XVII в. над жанром комедии-балета совместно работали драматург Мольер и композитор Ж-Б. Люлли, выступивший в этом случае в роли балетмейстера и танцора, а позже писавший оперы-балеты. Одно из балетных либретто было написано великим трагиком П. Корнелем. Эпизод одной из его трагедий стал уже в XVIII в. сюжетом первого самостоятельного балета-пантомимы. В создании 526
балетных спектаклей в XIX —XX вв. принимали участие художники К Коровин, А. Бенуа, Н. Рерих, П. Пикассо, А. Матисс.
Свое место в балете музыка завоевывала долго и постепенно: эволюция балетной музыки шла от сборной музыки с ариями и хорами до симфонической партитуры, несущей в себе самостоятельные музыкальные идеи, которые развиваются по законам собственно музыкальной логики.
Новым словом в хореографии стали балегы П.И. Чайковского, создавшего классический балет в современном понимании этого слова. Балеты одна из известнейших страниц его музыки. Кто не знает с ранних лет «Танец маленьких лебедей» и «Неаполитанский танец», элегическую тему-мечту Лебедей и лирическую сцену Адажио из «Лебединого озера», величаво-спокойную «Панораму» из «Спящей красавцы», «Вальс цветов» или «Вальс снежных хлопьев» из «Щелкунчика», да и другие вальсы его балетов. Врядли можно спутать их с иной музыкой. Вальс, стихия балетов Чайковского — романтический танец, легко и естественно нашедший свое место в художественной культуре России XIX в. (В молодости Чайковский не только увлекался балетом как зритель, но и сам прекрасно танцевал.)
К середине XIX в. окончательно сложилась структура многоактного балетного спектакля. В совершенных образцах балета симфоническая музыка в полной гармонии сливается с сюжетным действием, с танцевальной и пантомимической пластикой. Такими высотами отличались постановки «Щелкунчика» и сцен «Лебединого озера» Л. Иванова, «Спящей красавицы», балетов Глазунова «Раймонда» и «Времена года» М. Петипа, балета Равеля «Дафнис и Хлоя» М. Фокиным, «Весны священной» Стравинского М Бсжаром. История богата такими примерами.
Основные балетные формы сходны с формами оперы. Как и последняя, балет открывается увертюрой, правда, меньшей по объему, а потому часто называемой интродукцией, или вступлением. Подобно арии, танец — обобщенно-психологическая (например, Adagio Авроры в «Спящей красавице») или более внешняя (танец феи Драже в «Щелкунчике») характеристика персонажей или выражение их состояния, развитие мысли и чувства (дуэт Одетты и Зигфрида в «Лебедином озере»). В сцене же и пантомиме, как в оперном речитативе и дуэте, сосредоточены драматическое действие, событийная сторона спектакля. Важными художественно-смысловыми моментами являются звучащие в оркестре лейтмотивы и лейттемы. В роли последних в балетах Чайковского выступают самые прекрасные и вдохновенные мелодии (например, тема феи Сирени).
Любители балета хорошо знают термины, обозначающие танцевальные номера: сольные — гран па, па д'аксьон, включающие адажио, вариации, стремительную коду; ансамблевые — па де де, па де
527

ее ткань, логика развития, смена образов, настроений обретают ясность и смысл. Это оптимальный вариант. Естественно, в жизни имеют место и другие уровни понимания музыки. Это связано в первую очередь с тем, каков у человека слушательский опыт, его качество. И, разумеется, с качеством самой воспринимаемой музыки — ее художественно-содержательной стороной.
Для того чтобы научиться понимать музыку, другого пути, кроме ее слушания — нет. Процесс этот длительный и трудоемкий. Но со временем наступает момент, когда человек вдруг замечает красоту сочетания отдельных звуков, обращает внимание на выразительность интонаций, и постепенно перед ним раскрывается характер и смысл целой мелодической линии.
Слушая новую музыку, полезно через какое-то время возвращаться к старым, уже слышанным произведениям, стремясь к их запоминанию. Трудно переоценить роль памяти. Именно музыкальная память — тот кладезь, в котором накапливается и хранится информация о прослушанном, активно включающаяся при знакомстве с новой музыкой в работу и помогающая слушателю путем сравнений, аналогий понять новое произведение. Безусловно, важным подспорьем в этой работе являются книги о музыке, об искусстве, музыкальные справочники и энциклопедии.
Восприятие произведения требует большого внимания, сосредоточенности, максимальной включенности в музыку. Но отмечая отдельные детали, анализируя и прогнозируя ход «событий», прослеживая «сюжет» музыкального произведения (все это важно), не следует подменять анализом само живое художественно-образное восприятие, нельзя выключаться из эмоционального тока музыки, общения, диалога с произведением. И если вы сохраните художественный образ в памяти души, и это поможет вам увидеть мир в свете большой музыки — это значит, что вы на правильном пути.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Какие тенденции преобладают по взаимодействии слова и музыки, музыки и драмы?
Какие из произведений романтической музыки вам ближе, вызывают интерес? Проанализируйте причины ваших предпочтений.
Прослушайте еще раз знакомое вам произведение и расскажите, как формировался ваш образ этого произведения?
Какое значение в музыке имеет понимание законов жанра?
Как воздействует стиль на понимание музыкального произведения?
Какое значение для понимания музыки имеет знание биографии композитора?
Возможна ли ситуация, когда музыка, написанная для квартета, звучит лучше (точнее передает музыкальный образ) в струнном оркестре?
8 Является ли бессюжетный балет бессодержательным?
Есть ли сегодня основания для дискуссии по проблемам оперы?
Что означают понятия «классическая музыка», «современная музыка»?
труа; массовые — кордебалет. В балете используются термины на французском языке, что связано с местом его рождения.
Естественно, что балет XX в. тяготеет к обновлению. Это и импрессионистки размытая структура спектакля, замена «номеров» (адажио, вариаций и т. д.) непрерывным действием, преобладание пантомимы (в постановках М. Фокина), соединение классического танца с ритмопластикой, симфонизация танца в постановках Д. Ба-ланчина.
В XX в. резко увеличился арсенал хореографических средств выразительности (вплоть до включения элементов акробатики). Изменились и взаимоотношения между музыкой и танцем. Помимо партнерства-состязательности введены парадоксальные сочетания лирики и иронии, изменилась и «глубина» психологизма. Большое распространение получила форма одноактного балета (например, «Болт» и «Светлый ручей» Д. Шостаковича, на современную ему тему).
«Ромео и Джульетта» — первый многоактный балет С.С. Прокофьева. Необычна, своеобразна музыка Прокофьева, уже имевшего предшественников в симфоническом решении этой темы — Берлиоза и Чайковского. Современность балета кроме всего прочего проявляется в конкретности и лаконичности (поэтому ценны каждый звук, каждая нота), зримости музыки. В этом ее особая хореографичность и театральность. Обращаясь к исторически отдаленной эпохе, композитор нигде не отходит от характерных особенностей своего индивидуального языка, стилистики современной музыки, не сглаживает их напряженность и остроту. Новизна музыки была так велика, что балет поначалу не приняла даже Г.С. Уланова.
Музыка Прокофьева очень яркая. Запоминаются темы любви, Джульетты, вражды и многое другое. Но самое ценное — это полнота и верность прочтения Шекспира: Ромео и Джульетта гибнут, но оставляют нам ослепительный свет любви.
Судьба балетного жанра очень счастливая. Его эволюция естественна и богата. Балетные спектакли всегда привлекали и привлекают публику. И, может быть, секрет этого заключается в том, что у людей подспудно существует неосознанное желание не только слышать, но и видеть музыку.
* * *
Итак, завершая разговор о музыке, мы можем сделать некоторые выводы, которые, возможно, будут полезны молодому, пытливому и заинтересованному слушателю.
Ответим сначала на самый трудный вопрос — что значит понять музыкальное произведение? Теоретически, выраженный в словах, ответ прост.
Понимание произведения заключается в том, что слушатель адекватно воспринимает эмоциональный строй музыки, в результате чего 528



