
- •Глава IV
- •1. Скульптура как вид изобразительного искусства
- •2. Скульптурные материалы и техники
- •3. Круглая скульптура и рельеф
- •4. Разновидности скульптуры
- •5. Жанры скульптуры
- •6. Выразительные средства скульптуры
- •7. Вместо заключения
- •Глава V
- •1. Графика как вид изобразительного искусства
- •2. Особенности восприятия произведения уникальной графики
- •3. Место уникальной графики в изобразительном искусстве
- •4. Материалы и выразительные средства уникальной графики
- •5. Художественные техники, обладающие признаками графики и живописи
- •Глава VI
- •1. О рациональном анализе и эмоциональном восприятии
- •2. Книжная графика
- •3. Эстамп
- •4. Плакат
- •Глава VII
- •1. Общие сведения об архитектуре. Основные понятия и термины
- •2. Польза. Функция. Виды архитектуры и типы зданий
- •3. Прочность. Строительные материалы и конструкции. Тектоника. Ордерная система
- •4. Красота. Архитектурный образ. Образно-композиционные средства. Стиль в архитектуре
- •5. Анализ архитектурной композиции
- •I курс
- •Глава VIII
- •1. История. Понятия. Термины
- •2. Образ
- •3. Форма и функции
- •4. Материал и технология
- •5. Конструкция и тектоника
- •6. Декор. Цвет. Орнамент
- •7. Стиль. Мода. Вкус
- •8. Принципы анализа и критерии оценки
- •Глава IX
- •Глава X
- •1. О природе музыкального искусства
- •8 Re_ con_ci -li - a - vit pec _ ca -to _ res. 4. Die no _ bis Ma-dux VI-tae mor_tu _ us re-gnat VI _ vus. 6. An_ge _ li _ cos
- •8 Ri _ a, quid VI _ di _ sti in VI _ a? 5. Se _ pul _ crum
- •8 Chri_ sti VI _ ven tis, et glo _ ri _ am VI _ di re_
- •2. Исполнительская интерпретация музыкального произведения
- •3. Произведение — слушатель: диалоги
- •Глава XI
- •6. Работа с письменными источниками.
дуального «я» (творца - исполнителя - слушателя) перед величи-ем вечности Создателя.
обряда. Особый лаконизм и внешняя эмоцинальная невыразител
ность малообъемных по своему звукоряду песен древнего славянского
календаря отражали реальную зависимость музыки от всех остальных элементов художественного целого, ее информативно-смысловую не-самостоятельность. Каждая из интонаций такой песни должна вос-| приниматься нами сегодня скорее как символ связи с общей эстетической системой обрядового действа.
Специфически трактовало эмоционально-звуковую природу му-!! зыкальной интонации искусство раннего Средневековья, находя для нее особую роль в том звуковом мире, где общение со слушателем определялось активным участием канонического вербального начала — слова. Примечательно, что музыка русского и западноевропейского обихода имеет много общих черт и закономерностей, прежде всего — теснейшую зависимость от смысловой символики текста. Философская углубленность и наджизненная отрешенность Вечного Слова выдвигали перед музыкальным искусством (творчеством) в его общении со слушателем особую задачу: не разбудить, а приглушить, отодвинуть на второй план чувственно-содержательную сторону музыки, направляя процесс ее восприятия преимущественно в интеллектуальное русло самопознания.
Музыка средневековой церковной службы (как восточной, так и западной христианской традиций) воспринимается сегодня как текст, передающий информацию о наименее экспрессивных состояниях — отрешенности, интеллектуального созерцания величественного Вечного начала и бесконечно малого пространства собственного «я».
Показательна в этом отношении и принципиальная анонимность церковных музыкальных произведений этого периода, а также общая ориентация процессов художественного творчества на символическую позицию единого автора Ветхого и Нового Завета.
Эстетикой церковного музыкального творчества предопределено игнорирование интонаций, содержащих уменьшенные и увеличенные интервалы, обладающих повышенно-экспрессивной передачей чувственной природы звука. «Diabolus in musika» — определяла смысл этих интонаций схоластика.
Возможно, вследствие именно этих обстоятельств музыкальное искусство Средних веков отмечено особой стилевой цельностью: мелодическую линию знаменных песнопений и григорианских хоралов характеризует специфическая неэмоциональная выровненность интонирования как «впевания тона в тон» (Б.В. Асафьев), чувственным моментом восприятия является восторг конечного смирения индиви-456
Лад 1 (дорийский)а [Соло]
[Хор]
l.Vi_cti_mae pa_scha_li lau_des * inumojent Chn_sti_ a_m
8 2 A-gnus red_ e _ mit o_ ves ChrLstus _ in _ no .cent Pa _ tri S.M^et vi_ta du_el-lo con-fli-xe-re nu_ran_do.
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
t Pa |
tr |
|
I
j>m
i
i i j
Щ
^
8 Re_ con_ci -li - a - vit pec _ ca -to _ res. 4. Die no _ bis Ma-dux VI-tae mor_tu _ us re-gnat VI _ vus. 6. An_ge _ li _ cos
j
i .Hi
i
i
j, Ij+UlJlJl.
8 Ri _ a, quid VI _ di _ sti in VI _ a? 5. Se _ pul _ crum
tes _ tes, su _ da _ ri _ um, et ves _ tes, 7. Sur _ re _ xit
jb
j'
nj
i
j
I j
>
j,^m
8 Chri_ sti VI _ ven tis, et glo _ ri _ am VI _ di re_
Chri_stus spes me a: prae_ce_det su _ os in Ga_
Чрезвычайно символичным является постепенный переход от раннего средневекового одноголосного мелодического письма, или монодии, к новому типу мелодического мышления — полифонии, принципиально новому единству многих самостоятельных мелодических линий (голосов).
Одним из условий существования и развития музыкального творчества в эстетической системе такого типа является ориентация на активную в сотворческом общении аудиторию: как правило, паства участвовала в исполнении фрагментов музыкального сопровождения службы. Таким образом, и созидающее, и сотворческое сознание в
457
вого многоголосия, а с другой — их интонационная острота нивелируется и «гаснет» в плотной полифонической массе звучащей материи.
эпоху раннего христианства были вовлечены в процесс музыкального интонирования как философской интеллектуальной медитации, безусловно, далекой от чувственной природы собственно музыкального искусства и человеческой личности и направленной скорее на их подавление, подчинение.
Однако дальнейшее развитие всех областей искусства определил переход от средневековой канонической общности под эгидой Вечного слова к становлению каждой из них, к формированию систем их собственных средств выразительности. Тип музыкальной культуры, установившийся в Европе в середине XVII века, по мнению Л.А. Мазеля, оставался в значительной мере стабильным вплоть до конца XIX — начала XX века (МазельЛ.А. О природе и средствах музыки. С. 68). Круг его непременных составляющих — музыкальный театр, домашняя сфера музицирования, профессиональное творчество письменной традиции. Эволюционируя в стилевых и жанровых проявлениях, эта социокультурная система сформировала новый историко-художест-венный феномен — авторское музыкальное произведение. На заре этого периода происходило «рождение вскоре завоевавшей весь мир итальянской новой музыкальной практики, душой которой была мелодия» (Б.В. Асафьев).
Новый тип музыкального мышления, где мелодическая линия становится основной, доминирующей, получил определение «гомофонии». Мелодико-интонационный словарь того времени свидетельствовал о непрерывном обогащении средств мелодической выразительности. Это динамично развивающееся музыкальное искусство Нового времени вполне уместно сравнивать с мощным излучением и концентрацией идей, озаряющих его последующее историческое движение. Существовавший до этого момента свод музыкально-теоретических канонов и правил отходил в прошлое. Дальнейший исторический отрезок пути был связан с поисками и открытием новых возможностей обогащения интонационного словаря, с преодолением границ тонально-мелодического мышления.
Целесообразно отметить некоторые из знаменательных вех этого пути. Так, глубоко символичен и удивителен сам период перехода от эстетики Средневековья к Возрождению, и позже — к барокко.
Изменялась прежде всего система музыкального мышления, музыкальный стиль. Сочетание (не противоборство!) разнонаправленных тенденций давало удивительный художественно-образный эффект. Эмоционально выразительные обороты в вокальных линиях светских мадригалов Италии оказывались словно бы приглушенными в неожиданном сочетании с отживающей свой век эмоционально невыразительной средневековой модально-ладовой основой. Создавалось впечатление, что, с одной стороны, чувственные элементы мелоса словно бы не находят подтверждения и поддержки в структуре хоро-458
|
uo-vro aun||jLfl J J |
que ши14-r |
.ii — |
| |||
|
Щ г |
1 |
i: |
|
f frr r |
—e | |
Continuo
|
|
5 |
j—N h J ~h J |
1—Ji tr |
—j— г г, 4H |
|
|
|
i Л- J' J |
f J,J'T Jlpi—M —0 | |
|
|
|
I i r 1 г |
Hi |
4 1—1 |

7 6
7 6
110 11 11#10 14
|
-ro, No |
n po-trb |
dir -vi pria ch'io |
mo - ra, |
"lo |
mo - ro, io |
|
W roil j a |
1 |
r J r—t4 J— |
-r r |
|
|
|
h^ir-f—Ц |
|
' ч Г F* — |
'•г С |
1 I Г 1 1 | |
Рельефны, буквально «видимы» на фоне аккомпанирующего фона выразительнейшие и напряженнейшие интонационные перели-
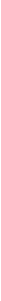


вы мелодики «Страстей по Матфею» И.С. Баха. Однако как в № 1
(шествие на Голгофу), так и в знаменитой арии альта «Смилуйся» № 47, предельная экспрессия и чувственная вибрация мелодики в сочетании со скорбным ритмическим образом «шага» (мерное движение в басах) в баховской музыкальной ткани словно воссоздают вечный ход-движение самого Времени, объективного извечного начала, сдерживающего остроту стрессовых всплесков эмоций. Предельно обостренный интонационный процесс в арии № 47, раскрывающийся в напряженном диалоге солирующего инструмента и голоса, воспринимается не в красках непосредственного эмоционального сопереживания, но как интеллектуально осознанное и примиренное с Высшим
разумом чувство возвышенного христианского сострадания.

© ARIA. Coro I.
значенной автором программы или литературно-художественных (или каких-либо других) ориентиров.
Среди наиболее ярких примеров следует выделить Шестую симфонию Чайковского (обобщенно эмоциональную программу этого сочинения — заголовок «Патетическая», как известно, предложил брат композитора — Модест Чайковский уже вскоре после премьеры, композитор не возражал) и, в частности, ее финал. Ощущение эмоциональной подавленности, характеризующее атмосферу развития музыкальных образов, предопределено всем сложным комплексом средств музыкальной выразительности и, особенно, интонационно-ритмическими, ладово-гармоническими и штриховыми красками. При этом отдельные тоны единой, реально слышимой при восприятии мелодической линии как бы «разделены» между двумя группами исполнителей — партиями первых и вторых скрипок. Таким образом, фактически «слышимого» феномена мелодии у Чайковского в партитуре нет!
Чайковский словно бы не стремился сдержать всплески отчаяния, легко «прочитывающиеся» в мелодическом языке IV части:
в мелодической линии акцентирована трагическая символика неумолимого (фатального) нисходящего движения интонаций;
как наиболее запоминающиеся интонационные и ритмические элементы нисходящей темы выделены секундные «вздохи»;
процесс интонирования (изложения) темы намеренно не доводится композитором до своих естественных «суммирующих», обобщающих мелодических фраз, что создает эффект бессвязной речи, напряженных пауз с нервным биением ритмического пульса;
наконец, решающим в создании основного музыкального образа финала становится использование предельно экспрессивного приема инструментовки, когда струнная группа оркестра намеренно используется композитором с максимальным напряжением и интона-
461
Однако весь дальнейший ход истории убеждает в постепенном выявлении и раскрытии в первую очередь эмоционально содержательных элементов музыкального языка. Наиболее показательна чувственная природа звуковых образов в творчестве П.И. Чайковского. Именно эмоциональная выразительность мелодики Чайковского предопределила особую «зримость», содержательную конкретность музыкальных образов даже в тех случаях, когда сочинение не имело обо-460


риалом. Поиски «развития как непрерывного высказывания» (термин Б.В. Асафьева) привели Глинку к новому для отечественной композиторской школы пониманию законов мелоса и музыкального формообразования. Наиболее ярким примером этого явилось длительное интонационное становление темы финального хора «Славься» на пространстве масштабной оперной формы, что, с одной стороны, объединило, по замыслу Глинки, музыкально-сценическую структуру этого произведения и воплотило в музыке идею духовной мощи русского народа, а с другой — ознаменовало для отечественной композиторской школы начало симфонизма.
Потенциал длительного мелодического развертывания на протяжении крупной музыкальной формы, способность тематизма формировать в процессе интонирования промежуточные образы, обобщающие содержательные ракурсы музыкально-драматической идеи — таковы сформулированные Глинкой новые требования к российскому интонационному словарю (термин Б.В. Асафьева) своей эпохи. Так осуществился переход российского музыкального искусства к формам и методам европейской инструментально-симфонической школы, характеризующейся в этот период симфоническими открытиями — творчеством Бетховена, Шуберта. В основу развития музыкально-сценической формы Глинкой положены интеллектуально-художественные критерии симфонизма, раскрывающие драматургический конфликт русского и иноземного (польского) собирательных образов на уровне мотивно-интонационных обобщений (процессов).
Русские номера и сцены (хоровая интродукция, сольные и ансамблевые сцены с участием Сусанина, Собинина, Антониды и Вани), как уже отмечалось, концентрируют на протяжении всего спектакля наиболее характерные интонации финального хора «Славься» (в полном виде этот мелодический образ появляется в предсмертной арии Сусанина в IV акте).
ционно-технической усложненностью исполнения. Как уже отмечалось, слышимая единая линия мелодического голоса в действительности разделена между двумя группами исполнителей, что и создает осо
бую «рыдающую» окраску звучания при ее исполнении скрипками (см. графический анализ примера). Так, особыми средствами оркестра выстраивается специфически музыкальный художественный образ, недостижимый в других искусствах. Та же тема в других художественно-образных системах находит воплощение в иных образах.
Интонационная природа музыкального искусства и специфический процессуальный характер его общения со слушателями обусловили теснейшую взаимосвязь образно-мелодического материала и закономерностей формообразования. Являясь совокупностью всех средств и приемов художественной выразительности от мельчайших интонационных элементов до факторов музыкальной драматургии, музыкальное произведение отражает весь объем и богатство методов и принципов «множественности и концентрированности» воздействия на слушателя (МазельЛ.А. О природе и средствах музыки. С. 66).
Не стремясь к охвату всех аспектов этого сложного комплекса явлений, выделим лишь один из них — представление о музыкальной форме как об интонационном освоении пространства музыкального произведения, содержательном факторе музыкального образа. В сущности, феномен мелодического дара у композитора, по справедливому наблюдению Б.В. Асафьева, окончательно реализуется лишь в овладении вниманием слушательской аудитории. Поэтому логика построения музыкальной формы — это прежде всего умение автора созидать художественный образ, поддерживать общение со слушателем.
Периоды обновления музыкального языка сменялись порой ситуациями переоценки достигнутого ранее, иначе говоря, «интонационными кризисами» (термин В.В. Асафьева). Весьма показателен в этом плане историко-стилевой разрыв, отделивший творчество М.И. Глинки от его современников — Алябьева, Варламова, Гурилева, Верстовского и других т— и ознаменовавший наступление новой художественной эпохи в отечественном музыкальном искусстве.
Внешним событием, символизировавшим, по словам В.Ф. Одоевского наступление «новой зари» в русской музыке первой половины XIX века, стала премьера оперы Глинки «Жизнь за царя» в 1836 году. Уже А.Н. Серовым в 1850-е годы смысл этой исторической грани, отделившей предшествующие десятилетия от классического этапа, был отчетливо определен как переход к иному, чем прежде, уровню интеллектуально-творческой работы прежде всего с мелодическим мате-462
Allegro maestoso J =90
Ы i j n ji
г
С—Г
Г Г J
ГЗ
J
J
marcato sempre pp(медный оркестр на сцене)
Постоянно контрастное сопоставление в опере подчеркнуто вокального по своим краскам и средствам воплощения русского собирательного образа с преимущественно инструментальным, выдержан-




юльность» не только как красота и эмоциональная проникновенность мелоса Чайковского, но как один из фундаментальных законов формообразования, запечатлевших наблюдения композитора над психологической природой музыкальных впечатлений. Чрезвычайно сим-воличен и прост лирический психологизм программы его Четвертой симфонии. «Если ты в самом себе не находишь мотивов для радости, смотри на других людей. Ступай в народ. Смотри, как он умеет веселиться, отдаваясь безраздельно радостным чувствам»,— писал композитор.
Единый мотивно-интонационный комплекс связывает все пространство формы и мелодического развития в симфоническом цикле из четырех частей. В его основе — принцип монотематизма, т. е. построение произведения на основе преобразований одной мелодической мысли — образа. Первоначальный мелодический облик этой монотемы — фатально звучащие интонации фанфарного характера с жесткой ритмической поступью, неизменно и неумолимо возвращающиеся к своему начальному возгласу (медные инструменты). Однако эти же мелодические обороты в рамках главной партии первой части (в особенности в сочетании с иными — вальсовыми ритмическими фигурами) обретают смысл эмоциональных красок совершенно противоположного плана, раскрывающих порывы отчаяния, смятения, растерянности (чему в значительной мере способствует и иная инструментовка тематизма — струнная группа инструментов).
ным в полонезных ритмах и мелодических оборотах, образом захват
чиков-поляков.

Так, Глинка впервые в отечественной музыке добился адекватног соотношения национального мелодико-интонационного тематизма
принципов симфонического развития и драматургии. Примечательно и весьма значимо для понимания истории русской культуры то, чта впервые симфонизм как метод профессионального музыкального
мышления стал реальностью для отечественной музыки первой половины XIX века в сложнейшем вокально-сценическом жанре — опере.
На различных исторических этапах музыкальная форма как искусство «доведения музыки до сознания слушателей» (Б.В. Асафьев) отражала не только своеобразие авторского метода того или иного ком
позитора, но и определенную связь творчества с социально-художест-1 венными запросами своего времени и уровнем развития массового;
музыкального сознания. Так, своеобразие жанрового выбора, сделанного Глинкой в 1836 году в пользу оперы, с одной стороны, свидетельствовало о преимущественной вокально-хоровой и музыкально-сценической ориентации российской музыкальной культуры данного периода, с другой стороны, раскрывало актиьную роль социокультурного5 фактора, повлиявшего на сферу его жанровых поисков и решений. Достаточно напомнить, что начало творческого пути Глинки в 1830—1840 годы свидетельствовало о музыкально-театральных пристрастиях композитора: 1835—1836 годы — опера «Жизнь за царя», музыка к драме «Молдаванская цыганка, или Золото и кинжал», 1840 — музыка к трагедии «Князь Холмский», 1842 — опера «Руслан и Людмила» и другие (сравним с 1840—1850 годами, когда были написаны его основные инструментально-симфонические произведения).
Позже, во второй половине XIX века, глинкинские принципы отечественного симфонизма получили развитие в иной жанровой области П.И. Чайковским, секрет жизнеспособности музыки которого определяет «заложенная в ней общительность» (Б.В. Асафьев). «Общи-464
![]()
Comi 2 Fagotti
Moderate con anima (J = in movimento di valse)

Напряженный диалог этих двух музыкальных образов — внутренне интонационно родственных — определяет программный смысл и логику развития первой части, отражается в контрастных сопостав-

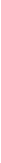
лениях и определенных мелодических реминисценциях этих тематических элементов во второй и третьей частях цикла. Ощутима и психологическая перемена, происходящая с интонационно-тематической идеей в финале симфонии: неумолимый фатум и смятение чувств преодолены, все интонационные элементы в заключительных мелодических образах симфонии объединяются в победном звучании.
Было бы неверным утверждать, что интонационные процессы в формообразовании всегда были устремлены лишь к достижению высот симфонизма. В практике различных национальных композиторских школ известны и альтернативные идеи. К примеру, одним из древнейших законов логики музыкального формообразования было погружение в основной и единственный звучащий образ, музыкальная медитация. Процесс интонирования такого рода можно сравнить с любованием, погружением в некий мономир. Корни этой культуры уходят в глубокую древность, ассоциируются с народной музыкой стран Индокитая, связаны с буддизмом. Однако знаменательны и отдельные находки в сфере музыкальной драматургии так называемой статики и в профессиональном музыкальном искусстве стран Западной Европы. Так, замечательны и проникновенны страницы «Agnus Dei» из Реквиема Дж. Верди, где главной идеей музыкальной драматургии является пятикратное повторение основного материала части, при каждом следующем появлении обретающего лишь новые утонченные детали, украшающие его в фоническом и ладовом отношении.
Обладая беспредельной свободой творческого мышления, композитор и слушатель, вовлеченные в процессе восприятия произведений музыкального искусства в особый диалог-общение, в равной мере зависимы и от третьей, промежуточной инстанции — исполнителя. 11уть в бесконечно волнующий мир музыкальных образов и идей начинается с исполнительской интерпретации, звукового воспроизведения музыкального сочинения исполнителем, ансамблем, оркестром и т.д. Музыка предназначена прежде всего для исполнения, в этом одна из ее сущностных черт.
«Значительная доля сотворчества лежит на исполнителе музыкального произведения и затем на слушателе. Как и наука с философией, музыка требует значительной доли активности слушателя, хотя и меньшей, нежели они»,— замечал П. Флоренский. (Анализ пространственности в художественно-изобразительных сочинениях. С. 319.) Говоря иначе, традиционный диалог художника с публикой, актуальный в отношении поэзии, живописи, архитектуры, неприем-лемдля музыки безучастия исполнителя. Однако художественный интерпретатор, неизбежно возникающий в процессе реализации музыкальных замыслов на их пути от автора к слушателю, не является неким искусственно привнесенным фактором в общехудожественной логике восприятия произведения искусства. Исполнитель призван «оживить» в непосредственной энергетике исполнения абстрактный нотный текст. Однако конечной целью исполнения музыкального произведения (интерпретации), сотворческого участия в осуществ
лении замыслов автора является активное воздействие на художественное сознание слушателя, вовлечение его в круг волнующих тем и идей как третьей сотворческой инстанции в сложном механизме функционирования музыкального искусства в окружающем мире, его культурной среде. Их различает лишь разная степень активности и профессионализма.
Между тем, обладая уникальной художественно-образной свободой и богатством эмоциональных красок в творчестве и процессах сотворческого восприятия исполнителями и слушателями, музыкальное искусство не может существовать и развиваться вне атмосферы интеллектуального размышления и сопереживания, ибо это — неотъемлемая часть жизни музыкальной культуры в целом.
Безусловно, научный анализ не способен (и не должен) заменитьпроцессы исполнения и восприятия, но он обладает реальной силой,способной углубить и обогатить их. В книге «Об искусстве фортепи-анной игры» самобытный и яркий художник Генрих Нейгауз, стремясьпримирить антагонистов, акцентировал рационально-логические ка-тегории, необходимые в профессиональной работе пианиста-интер-претатора как музыканта, чье сотворческое начало вдохновлено поис-ком «дедуктивного реального, обоснованного в самой материи музыкиподтверждения и посильного объяснения <...> столь несомненного изо« 467
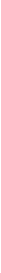




М.
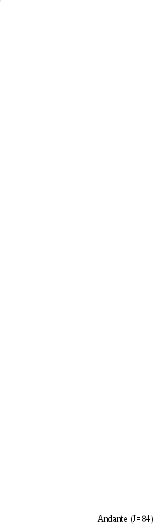
как категория содержательная. Именно эти смысловые аспекты индивидуального музыкального сознания и композиторского метода, адресованные прежде всего исполнителю как воспроизводящей и реализующей творческую волю автора субстанции, способны стать отправной точкой и в общем слушательском процессе сотворчества.
Так, с помощью исполнительских ремарок композитор А.Н. Скрябин стремится раскрыть перед исполнителем образное начало своих сочинений и облегчить постижение его глубоко индивидуальных творческих замыслов. Наряду с общепринятыми исполнительскими обозначениями в произведениях среднего и позднего периодов творчества употребляются ремарки на французском языке. Скрябин — единственный из русских композиторов развивает терминологические традиции французских авторов, а также Ф. Листа. Чем же вызвано обращение композитора именно к французским терминам?
Употребление ремарок на французском языке следует прежде всего объяснить появлением в произведениях Скрябина (начиная, примерно с ор. 50) необычных, неизведанных ранее музыкальным искусством эмоций и ощущений: с музыкой Скрябина среднего и позднего периодов творчества трудно связать какие-либо отчетливые, осязаемые и традиционные образы из видимого мира. «Космичность» его замыслов, «неповторимая попытка соединить титаническое и крупное» (Дельсон) — все это требовало поисков новых разнообразных авторских указаний, утонченных, глубоко образных словесных ремарок, способов дать исполнителю реальное представление об образной природе скрябинской мысли. Ими и явились французские термины, с системой которых мы впервые сталкиваемся в пятой сонате. В этих текстах и указаниях наиболее гибко запечатлелись его новаторские поиски в сфере метроритма, темпа и динамики.
С другой стороны, обращение композитора к ремаркам на французском языке было вызвано широким распространением французского языка в ту эпоху, а также влиянием поэтического творчества французских романтиков и символистов. Отсюда — колоритные, образные указания (например, трепещущий от страсти, «sombre» — мрачный, «avec exaltation* — томный) и неуловимость едва ощутимых «толчков-сигналов», намекающих на нечто утонченное, невыразимое. «Музыка существует для невыразимого»,— считал Клод Дебюсси.
Для Скрябина в этот период становится очень характерным стремление осознать в поэзии, в слове свои музыкальные переживания и с помощью поэтических ассоциаций возбудить художественную фантазию исполнителя. Необычный исполнительский стиль Скрябина, его пианистический гений, безусловно, предъявлял к исполнителям совершенно новые требования. Однако, как бы ни были образны и точны исполнительские ремарки, они все же не могли раскрыть всего объема художественных намерений композитора и его музыкаль-
сильного эстетического переживания. Это не может не подействовать на исполнение; когда углубляешься в свое ощущение прекрасного и пытаешься понять, откуда оно возникло, что было его причиной, тогда только постигаешь бесконечные закономерности искусства и испытываешь новую радость от того, что разум по-своему освещает то, что непосредственно переживаешь в чувстве» (Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1958. С. 199).
В сущности, исполнительское прочтение авторского музыкального текста произведения, этот процесс одухотворения музыкальной материи является наиболее яркой формой сотворческого восприятия, где в идеале объединились интеллектуальное проникновение в композиторский замысел и эмоционально-художественное переживание, дающие вторую жизнь музыкальным идеям и образам.
Именно такое понимание реального соотношения триады «композитор — исполнитель — слушатель» неизбежно приводит к единственно верному выводу о подлинной ценности специального аналитического рассмотрения вопросов о категориальной структуре музыкального искусства, о специфике его языка и о роли различных формообразующих и стилевых факторов, играющих столь важную роль в максимальном вовлечении слушательского сознания в атмосферу сотворчества.
Вдумчивое проникновение в существо звучащей материи как эмоционально-интонационного высказывания, не только его осознание и понимание, но и наполнение сочувствием и сопереживанием — таковы очертания и задачи целостного анализа, предшествующего непосредственному прослушиванию произведения. Это должно особым образом приблизить слушателя к сфере импульсивных токов и «излучений» звучащего материала, задержать его в околомузыкальной среде переживаний и размышлений. Такая режиссерская подготовительная работа аналитического плана неизбежно будет способствовать не только большей углубленности интеллектуальных и эмоциональных впечатлений, но и предопределит формирование особо обостренной реакции музыкального сознания, наконец, раскроет новые возможности непосредственного восприятия в будущем.
Безусловно, наиболее показательны и уникальны те аспекты специального анализа, которые непосредственно связаны с процессом создания музыкального произведения и посвящены проникновению в существо авторского метода работы композитора. Путь творческого сознания, устремленного к цели «навсегда уйти в искусство» как особый, параллельный реальному, мир идей и образов,— всегда путь художественных открытий, отмечающих индивидуальный процесс познания. Однако значение художественного открытия, как справедливо заметил Л.А. Мазель, реально раскрывается в музыкальном искусстве лишь «как одно из необходимых условий художественного воздействия» [Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки. М., 1978. С. 138), т. е. 468



мой эмоционально-интонационной природы музыкального искусства. Усложнение музыкального языка и мышления, в свою очередь, влияет па процесс исполнительского и слушательского сотворчества. Так, произведение КХ. Штокхаузена «Zyklus», написанное для ансамбля ударных инструментов, демонстрирует почти полное отсутствие мелодической оформленности основного тематического образа. Следствием этого является прежде всего заметное сужение той слушательской аудитории, которая способна довольствоваться сегодня музыкальными впечатлениями со столь ощутимыми «изъятиями» эмоционально-выразительного плана. В значительной мере условным становится и сам процесс исполнительского и слушательского проникновения (сотворчества) в мир композиторской мысли, столь далекой от традиций.
И в то же время активно развивающийся и сегодня процесс общения слушателей и исполнителей с богатейшим наследием музыкальной классики свидетельствует о непреходящей эстетической ценности открытий в сфере истории музыки, равно как и о бесконечном многообразии и художественной глубине процессов сотворчества в музыкальном искусстве нашего времени и будущего.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Что такое мелодия?
Какова природа средств музыкальной выразительности?
Какие типы мелодического мышления вам известны?
Что такое программность в музыкальном произведении?
Как связан процесс формообразования в музыке с понятиями «интонация» и «мелодия»?
Какие примеры использования симфонического метода в творчестве композиторов вам известны?
Какова форма (модель)функционирования музыкального искусства в обществе?
Какие формы сотворческого восприятия музыкального искусства вам известны?
Что такое художественный образ в музыке?
10 Что вам известно о процессе исполнительской интерпретации замыслов композитора (например, Скрябина)?
Как связаны между собой понятия «интонация» и «тема» в музыкальном искусстве?
Что вам известно об интервальной основе мелодии?
ЗАДАНИЯ
Попытайтесь охарактеризовать эмоционально-смысловое содержание непрограммного музыкального произведения (прелюдии Скрябина, Шопена, Рахманинова) и подберите к нему поэтическую программу.
Постарайтесь подобрать примеры мелодических музыкальных образов, соответствующих следующим эмоционально-психологическим состояниям: грусть и элегическое просветление; гневный протест, неистовый всплеск чувств. (Дополните сами —
продолжите ряд условных психологических заданий.)
но-психологических концепций. В нотах оказался зафиксированным как бы первый вариант образа, исполнитель же своей энергией со-
творческого восприятия и фантазии был призван раскрыть подтекст произведения, как бы завершить работу автора над образом и довести ее до «логического конца». Глубокий анализ нотного текста и исполнительских ремарокдолжен помочь исполнителю найти ключ к познанию творческих принципов интерпретации и особенностей исполнительского стиля.
Однако, что же представляют собой исполнительские указания, например, в поэме Скрябина «К пламени»?
Авторские ремарки в поэме направляют исполнителя прежде всего на образно-эмоциональное прочтение текста. Первая ремарка — «sombre», что означает «мрачный», «пасмурный», «темный» (обе эти поэмы словно вырастают из таинственной глубины низкого регистра). Таков, по мысли Скрябина, дух, погруженный в бездну мрака и томимый своей скрытой и непознанной силой.
Совершенно новые ощущения стремится внушить исполнителю Скрябин в разработке: настроение все повышающегося возбуждения, растущего томления, трепет радостного обновления, напряженное влечение ввысь — таковы импульсы авторских ремарок «avec une emotion naissante» (зарождающимся волнением), «de plus en plus anime» (все больше воодушевляясь), «avec une joie de plus en plus tumultueuse» (с радостью все более и более бурной). Каждая из этих ремарок позволяет с предельной точностью проследить путь от томления и мечты к активному творческому состоянию, «к высвобождению духа и полету его навстречу экстазу» (Глебов И. (Б.В. Асафьев). Скрябин. Пг., 1921. С. 36).
В пульсирующем ликовании репризы находит выход предыдущее нагнетание, накопление потенциальной энергии. Все охвачено волнующим настроением дерзновенного подъема. Новые красочные ремарки в репризе призваны подчеркнуть, по замыслу Скрябина, яркий, эмоциональный и волевой сдвиг: «eclatant» (светящийся, блестящий), «Lumineux» (сверкающий, яркий). Как порыв духа к слиянию с космосом, как открытый вызов косному миру звучат фанфары («сотте une fanfare»). В коде отсутствуют авторские словесные ремарки, несмотря на то, что в ней находится итоговая психологическая кульминация. Очевидно, это можно объяснить тем, что стремление к точности исполнительских указаний сочетается иногда со стремлением к их обобщенности, что идет от художественной эстетики символизма. Так, в данном случае французские слова «eclatant» и « Lumineux» следует, бесспорно, понимать как обобщенные образные ремарки как для репризы, так и для коды.
Для музыкальной практики XX столетия становится характерным отход от традиционной системности средств музыкальной выразительности и использование приемов и методов, порой далеких от са-470


