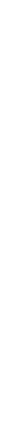- •Глава IV
- •1. Скульптура как вид изобразительного искусства
- •2. Скульптурные материалы и техники
- •3. Круглая скульптура и рельеф
- •4. Разновидности скульптуры
- •5. Жанры скульптуры
- •6. Выразительные средства скульптуры
- •7. Вместо заключения
- •Глава V
- •1. Графика как вид изобразительного искусства
- •2. Особенности восприятия произведения уникальной графики
- •3. Место уникальной графики в изобразительном искусстве
- •4. Материалы и выразительные средства уникальной графики
- •5. Художественные техники, обладающие признаками графики и живописи
- •Глава VI
- •1. О рациональном анализе и эмоциональном восприятии
- •2. Книжная графика
- •3. Эстамп
- •4. Плакат
- •Глава VII
- •1. Общие сведения об архитектуре. Основные понятия и термины
- •2. Польза. Функция. Виды архитектуры и типы зданий
- •3. Прочность. Строительные материалы и конструкции. Тектоника. Ордерная система
- •4. Красота. Архитектурный образ. Образно-композиционные средства. Стиль в архитектуре
- •5. Анализ архитектурной композиции
- •I курс
- •Глава VIII
- •1. История. Понятия. Термины
- •2. Образ
- •3. Форма и функции
- •4. Материал и технология
- •5. Конструкция и тектоника
- •6. Декор. Цвет. Орнамент
- •7. Стиль. Мода. Вкус
- •8. Принципы анализа и критерии оценки
- •Глава IX
- •Глава X
- •1. О природе музыкального искусства
- •8 Re_ con_ci -li - a - vit pec _ ca -to _ res. 4. Die no _ bis Ma-dux VI-tae mor_tu _ us re-gnat VI _ vus. 6. An_ge _ li _ cos
- •8 Ri _ a, quid VI _ di _ sti in VI _ a? 5. Se _ pul _ crum
- •8 Chri_ sti VI _ ven tis, et glo _ ri _ am VI _ di re_
- •2. Исполнительская интерпретация музыкального произведения
- •3. Произведение — слушатель: диалоги
- •Глава XI
- •6. Работа с письменными источниками.
им. А.И. Герцена) М.С. Карасик (род. в 1953 г.). Такое увлечение рукодельным производством книги во времена стремительного развития новых технологий в области полиграфии можно объяснить несколькими причинами. Это и своеобразный протест против массовой унификации изданий во всем мире, чему в значительной мере способствует повсеместное нетворческое использование одних и тех же компьютерных программ макетирования книги. Это и стремление художников к самовыражению, когда у них попросту нет издательской работы, интересных заказов. Это, наконец, и их стремление быть независимыми от вкусов или, точнее, безвкусицы большинства современных книготорговцев, а также от условий современного книжного производства. И тем не менее надо признать, что сочетание книги и уникальности в основе своей абсурдно. Книга развивалась как средство все более широкой информации, доступной (в частности, и по своей цене) представителям всех слоев общества. Но возможно, в этом своем значении
книга почти исчерпала себя, и ей на смену приходят другие средства
информации, сочетающие в себе наглядность (образность в первона
чальном значении этого слова) и современные технологии — элек
тронные, лазерные и какие-нибудь, пока нам еще неведомые. Но если
главным в книге становится искусство, ее эстетические качества, то
значит, все участники ее создания, а особенно художники, должны выдерживать достойный уровень, не скатываться до ширпотреба. А это
становится все более трудным из-за повсеместного снижения эстети
ческих требований. Мы видим возможность разрешения этой пробле
мы только в развитии эстетического вкуса, что опять-таки невозможно без участия школьных учителей изобразительного искусства.
3. Эстамп
Эстампом (от фр. estamp — оттиск, отпечаток) называют вид графики, который предполагает тиражирование подлинного авторского произведения, печатную форму для которого создает сам художник. Обычно тираж (от фр. tirage — здесь: печатание, копирование) — это большее или меньшее, в зависимости от желания автора или заказчика, а также возможностей конкретной технологии, количество полноценных копий произведения. Тираж эстампа имеет существенную особенность — это не копии, а тиражирование подлинников. Все
листы тиража эстампа являются подлинными авторскими экземпля
рами произведения. Эстампом называется и каждый полученный в печати экземпляр, т. е. оттиск. Подлинность и соответствие замыслу ху
дожника должны быть удостоверены его подписью на каждом оттис
ке — именно подписью, как на документе, а не просто указанием фа
милии. Эта необходимость обусловлена тем, что, во-первых, с одной и той же печатной формы могут быть получены оттиски, разные по цве-
338
ту, насыщенности, контрастности и т. д., а во-вторых, не все авторы
печатают свои произведения сами — порой, особенно при больших тиражах, они поручают эту немаловажную часть работы специалисту-печатнику.
Приступая к анализу какого-либо эстампа, надо знать, что, кроме этой подписи, названия и даты создания произведения, нередко можно встретить на оттисках особые знаки. Во-первых, это так называемая сигнат/ра, т. е. цифры в виде дроби, например, 7/20 (ее полагается ставить сразу после названия произведения). Знаменатель называет величину тиража, т. е. общее количество полученных оттисков (в нашем пэимере всего отпечатано 20,экземпляров). Числитель показывает, каким по порядку был получен при печати данный оттиск (в нашем примере — седьмой оттиск из двадцати). Реже встречаются обозначения так называемого «состояния», что бывает, если после печатания некоторого количества оттисков художник решил что-то изменить в композиции, внести в саму печатную форму поправки, порой весьма существенные. Так, например, поступал П. Пикассо в технике литографии, постепенно — через ряд «состояний» — превратив проективно-реалистическое изображение быка в предельно условную схему. Но заметим, что в литографии такие переделки особого технического труда не составляют, гораздо труднее внести существенные изменения в металлическую печатную форму, начисто убрав одни
штрихи и добавив другие. И тем не менее даже такой темпераментный художник, как Рембрандт, умел терпеливо выскребать и выглаживать свои медные офортные доски, меняя общую тональность композиции, убирая изображения одних персонажей и вводя другие. Так, состояния его офорта «Распятый Христос между двумя разбойниками» (1653— 1660) отличаются даже поворотом лошади, казалось бы, второстепенного персонажа, не говоря уж об общем настроении, ставшем более трагическим.
Итак, если художник внес поправки в свою работу и получил новый тираж, в этом случае сигнатура может выглядеть, например, так: 7/20/2. Она показывает, что перед нами седьмой оттиск из второго тиража объемом в 20 экземпляров.
Кроме сигнатуры, на старинных оттисках бывают еще некоторые сокращенные обозначения: ер.a (epreuve d'artiste) — оттиск сделан автором; pinx — писал красками (встречается на репродукционных эстампах и указывает на имя автора живописного оригинала); sculp, или grav.— вырезал (указывает на имя гравера, что часто использовалось, когда эстамп выполнялся по специальному рисунку другого художника или когда он являлся репродукцией живописи); fee.— делал; inv.— автор (эти обозначения обычно использовались для указания имени автора рисунка, по которому гравер выполнял репродукци
онный эстамп) и т. д.
22* 339
4) трафаретная печать — шелкография (сериграфия). Рассмотрим основные виды эстампа немного подробнее. Высокая печать. Как показывает само название, при высокой печати рабочая поверхность доски, с которой краска переходит на бумагу, возвышается над непечатающимся фоном. С точки зрения техники гравер из первоначально плоской доски (давшей бы при печати сплошной равномерный тон) убирает «ненужные» пробельные элементы. Но с точки зрения искусства высокой гравюры работа здесь принципиально отличается от механического «убирания лишнего». Гравер на дереве или линолеуме рисует светом, который он ощущает как своего рода активное животворящее начало. Подобно тому, как в космосе лучи света выхватывают из первозданной тьмы часть предметного мира, так штрихи гравера делают для нас видимым то, что сначала художник видел своим внутренним взором. Обычно художни
ки рисуют именно тенями, поскольку всем нам кажется, что тени игра
ют активную роль. В действительности же тени не активны, а пассивны — они остаются там, куда не попал свет. Для работы гравера существенным является именно то, что он рисует светом.
Среди графических печатных техник высокая гравюра является старейшей. Ее предшественницей была техника набойки — печать орнаментов и изображений с выпуклых форм на ткань, что делалось еще в самом начале нашей эры в Египте и Риме. Настоящая гравюра, т. е. печать с рельефных форм на бумагу, появилась примерно в это же время в Китае, а в 868 году там вышла в свет старейшая датированная гравюра «Алмазная сутра». В Европе гравюра стала использоваться, начиная с рубежа XIV—XV веков. Как мы видим, принцип высокой печати был известен задолго до того, как общественная потребность в простом и быстром тиражировании разнообразной продукции: от книг и икон до игральных карт — вызвала появление того, что мы называем гравюрой.
Сначала для высокой гравюры на дереве использовались только доски, разрезанные вдоль волокна, определившие название «продольная ксилография» (от греч. ксилон — дерево и графо — пишу, черчу, рисую). Она возникла в среде столяров и плотников, и по средневековым цеховым законам разделения труда художники не имели права сами резать на дереве, а лишь выполняли на нем предварительный рисунок. Граверы же обрезали со всех сторон нанесенные художником штрихи, убирая те части поверхности доски, которые не должны были пропечатываться. Такой метод имеет специальное название — обрезная гравюра. Первоначально она служила в основном средством репродуцирования и часто носила оттенок вторичности.
Однако в тех случаях, когда художник, хотя сам и не гравировал, но хорошо понимал особенности языка гравюры, появлялись подлинные шедевры искусства, как, например, листы из «Апокалипсиса»
341
Еще pa.-3 подчеркнем, что, в отличие от репродукции, для эстампа в современном понимании печатную форму создает сам художник, который, если 011 считает себя настоящим мастером эстампа, должен знать, чувегвовать- учитывать и стараться использовать художественные и технг-ческие особенности конкретного вида авторской печатной техники.
Анализ произведения, выполненного в тиражной технике, не может быть пс)ЛНОЦе1ШЫМ>если не учитываются ее особенности. Ксожа-лению, и в учебной литературе, и в искусствоведческих книгах, и в музейном деле мы слишком часто видим пренебрежение к тому, как и чем выпол!1Яется произведение искусства. Особенно же остро эта проблема с:тоит в отношении эстампа.
Если пеРеФРазиРовать слова В.М. Конашевича о том, что «художник с каранАашом в РУке мыслит иначе, чем тот же художник, взявший в руки кисТь>> {Молок Ю. Владимир Михайлович Конашевич. Л., 1969. С. 9—" ■ О)-то можно сказать так: «Художник, работающий в одном виде 3cfaMIia> мыслит иначе, чем тот же художник, обратившийся к другому ег° ВИЛУ- Конечно, это не значит, что при смене того или иного материал3 нли техники у художника полностью меняется мировоззрение — В'овсе нет- Напомним, сколь твердым в своих убеждениях был В.М. К<°нашевич- Н° в отношении образного мышления в материале разни Па может быть довольно существенной. Разные материалы и техн|ИКИ могут соответствовать — или не соответствовать — разИым творческим темпераментам, разным замыслам, разным изначал|ЬМЬ1М авторским пластическим идеям; и напротив, эти материалы мо Т1 сами активно влиять на замысел, диктовать его, способствовать его рождению.
Выдающ.иися художник и педагог Н.А. Тырса, стремясь подчеркнуть значсни|е материала, ссылался именно на эстамп: «Образ реализуется в матс2Риале- В зависимости от того, каким материалом художник работает"- какой техникой работает, в каких материалах будут реализоваться &го представления,— в зависимости от этого слагается образ. Когда1 все эти элементы организованы так, что они взаимно воздействуют- мы получаем художественное произведение. Если бы мы все вместе рассматривали литографский оттиск во всех стадиях этого процес:са> это легче было бы выяснить» (Художники детской книги о себ£ и своем деле. М., 1987. С. 260). Существу/ет четыре основных вида эстампа:
высокая гравюра — продольная и торцовая ксилография, гравюра на лино_леУМе(ЛИ110ГРавюРа)и различных пластиках, а также ав-тоцинкограф1ия;
глубок^ гравюра — офорт, акватинта, резерваж, резцовая гравюра на гметалле, сухая игла, меццотинто и т. д.;
плоска33 печать — литография, альграфия, офсет;
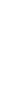
ки. При этом каждое ихдействие, которое преследовало, казалось бы, сугубо технические цели, носило почти ритуальный характер и было наполнено глубоким духовным значением. Только в результате такого сотворчества могли быть созданы шедевры японской гравюры, заметно повлиявшие на все мировое искусство XX века.
Поначалу и азиатская, и европейская гравюра была черно-белой,а если же возникало стремление сделать оттиск цветным, то его рас-крашивали (или, как говорят специалисты, «иллюминировали») либоот руки, либо с помощью трафаретов. Но первый — ручной — спо-соб был непродуктивным, а второй не давал добиться большой точно-сти. Коренное изменение в искусстве эстампа принесло изобретениемногодосочной печати, при которой для каждого цвета создается от-дельная печатная форма. Начало этому было положено в 1515 г., ко-гда итальянец Угода Карпи разработал способ, получивший название«кьяро — скуро», что в переводе с итальянского означает «свето-тень». Этот способ основан на том, что изображение возникает налисте бумаги тогда, когда на него сделаны оттиски последовательно с
нескольких печатных форм красками разных цветов. Создание гравю-ры становилось более трудным и длительным, но это компенсирова-лось выигрышем во времени при печати по сравнению с ручной рас-краской.
Необходимо заметить, что «кьяро — скуро» еще не был по-настоящему цветной гравюрой, что можно понять даже из самого названия этого способа. Здесь использовалось несколько близких по цвету и различающихся по тону красок, с помощью которых лишь в какой-то степени передавался общий колорит, но без всей сложности и богатства цветового строя оригинала. Хотя обычно гравюры «кьяро — скуро» создавали для репродуцирования живописи, колористический диапазон сводился к минимуму. По-настоящему цветной эстамп стал развиваться позднее, после открытий, сделанных И. Ньютоном в области физики света, что стало научной основой для опытов по использованию лишь трех основных цветов: желтого, красного и синего — для передачи всех возможных оттенков. Но эти опыты в Европе были связаны прежде всего с другим принципом получения оттисков — с глубокой печатью, а позднее их стали широко использовать в цветной плоской печати. В той же области, о которой мы сейчас ведем речь, т. е. в области высокой гравюры, особая заслуга в развитии цветной печати, в подъеме ее на высочайший уровень искусства, а не только техники, принадлежит мастерам японской гравюры. Сам принцип цветной многодосочной печати японцы переняли из Европы, а затем в свою очередь их произведения оказали влияние как на западноевропейских живописцев и граверов, так и па русских художников, среди которых особенно выделяются А.П. Остроумова-Лебедева и В.Д. Фалилеев.
Альбрехта фюрера. Этот мастер, будучи членом цеха ювелиров, виртуозно гравировал на металле и учитывал возможности языка и техники гравюры,поэтому делал такой подготовительный рисунок, который соответствозал именно обрезной гравюре, а кроме того, умел требовать от гравера-ремесленника максимального соответствия гравюры замыслу художника, для чего была необходима наиболее полная реализация возможностей, заключенных в материале. В результате такого сотрудни<-ества создавались произведения, в которых язык именно обрезной гравюры на дереве в наибольшей степени соответствовал общему настроению композиции, зримому воплощению ее темы.
Пояснил* это на примере знаменитых «Четырех всадников» из названного наии цикла «Апокалипсис». В этом произведении, созданном в драматичное для родины Дюрера время Реформации и Крестьянской войны, переплелись черты трех стилей: готики, ренессанса и даже барокко. Готическая экзальтированность и моделировка отдельных деталей (прежде всего, складок одежды) сочетаются с ренессанс-ным вниманием к анатомической трактовке тел и барочной стремительностью движения. Но при всей опасности впасть в эклектичность художнику и граверу удается достичь ощущения полного стилистического соответствия, чему активно способствует некоторая грубоватость штриха, создающая необходимую долю условности. При трагичности сюжета, основанного на страшных пророчествах, при сочетании
изображения современных автору персонажей с обилием символики,
более тщательная моделировка объемов и деталей, чего Дюрер дости
гал в своих гравюрах на меди с поистине ювелирной тонкостью и изя
ществом, здесь могла бы вызвать ощущение дисгармонии и ужаса,
выходящих за эстетические рамки искусства.
Отметим еще одно качество этой гравюры, свидетельствующее о знании и внимании Дюрера к особенностям восприятия эстампа. Это движение, общий порыв слева направо вдоль изобразительной плоскости, т. е. направление, в котором европейцы привыкли читать тексты и которое, как показывают данные физиологии и психологии восприятия, яв/яется основным при взгляде на изобразительную плоскость (в противоположном направлении «движение» оказывается бо
лее затрудненным). Если бы Дюрер был только рисовальщиком и
работал по методу, которого позднее придерживался замечательный
иллюстратор Г. Дорэ, т. е. рисовал прямо на поверхности досок для
торцовой ксилографии, а затем отдавал их граверам-ремесленникам,
он врядли учгл бы столь ощутимую именно для граверов разницу в на
правлении, и его «Всадники», вероятно, стали бы двигаться в другую
сторону.
Авторами старинных японских гравюр считаются художники, например, Утамаро, Хокусаи, Хиросигэ или Тойокуни, но они только создавали рисунок, а дальше работу продолжали граверы и печатни-
342
Заметим, что в нашем представлении основным выразительным средством классической японской гравюры является изящная, тонкая и точная линия, а цвет служит легкой подкраской. Но в действительности японские печатники использовали активные и насыщенные по цвету краски, которые, как правило, со временем утратили свою силу — выцвели. Если же оттиски хранились в соответствующих им условиях, как в коллекции Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, и не подвергались длительному воздействию яркого света, то они поражают сложностью интриги между графически четкой линией и яркой живописной декоративностью. В этом отношении композиции В.Д. Фалилеева, который имел возможность видеть японские гравюры вскоре после знакомства европейцев с этим искусством, когда оттиски работ знаменитых японских художников еще не поблекли, оказываются довольно близкими к ним не только по сюжетам, но и по активности цвета.
Но вернемся к черно-белой гравюре в том техническом ее варианте, которым пользовались еще во времена А. Дюрера. При использовании деревянной доски, распиленной вдоль волокна, граверу приходится преодолевать сопротивление материала разной силы: вдоль резать легче, поперек — труднее. Кроме того, продольная гравюра значительно ограничена, во-первых, в степени детализации (сложно награвировать мелкую деталь), а во-вторых, в величине тиража из-за мягкости используемых пород дерева, чаще всего липы.
Этих недостатков лишен другой вид высокой гравюры — торцовая ксилография, которая была изобретена во второй половине XVIII века англичанином Томасом Бьюиком. Он стал гравировать на дереве поперечного распила, т. е. на торце досок из особо твердых пород, например, кавказского или турецкого самшита. Поскольку самшит по своей твердости приближается к металлу, торцовой ксилографии доступны и ювелирная тонкость, и большие тиражи, не уступающие тем, которые получаются с металлических печатных форм. Кроме того, деревянная печатная форма, в отличие от тонкой металлической или толстой каменной, легко включалась в единый набор с печатными формами букв — литерами. Печать текста и иллюстраций в этом случае выполнялась одновременно, что имело большое значение при значительно возросших в XIX веке тиражах книг, газет и прочей печатной продукции. Поэтому наряду с такими шедеврами графики, как иллюстрации Г. Доре (1832— 1883) к «Дон Кихоту» М. Сервантеса (которые носили полурепродукционный характер, так как Доре выполнял только рисунки, затем воспроизводившиеся граверами-ремесленниками), эта техника часто использовалась в исключительно репродукционных целях. Нередко граверам удавалось создавать виртуозные в техническом отношении копии живописных произведений, создававшие даже иллюзию рельефного мазка. Но чем искуснее становились 344
такие репродукции, тем меньше в них оставалось дыхания творчества. Такие гравюры стали называть тоновой ксилографией, что превратилось в синоним ремесленничества.
Лишь в самом конце XIX века, когда в полиграфии на смену старым ручным способам репродуцирования пришли и получили широкое распространение фотомеханические способы, а также произошло знакомство с высокохудожественной японской гравюрой, мастера живописи и графики стали возрождать авторскую гравюру на дереве. Французские постимпрессионисты и немецкие экспрессионисты, а также близкие им по духу художники других стран подчеркивали свой отказ от технической виртуозности ксилографов-ремесленников и стремились выявить специфические черты гравюры на дереве. Иногда, как это делал Эвард Мунк, они использовали фактуру грубой доски в качестве важного выразительного средства языка ксилографии.
В России на рубеже XIX—XX веков с ремесленным отношением к гравюре первым стал бороться В.В. Матэ. И в своей практической работе, и в полемических выступлениях он утверждал, что даже репродукционная гравюра может служить подлинно творческой интерпретацией оригинала. Но главная заслуга Матэ в том, что он сумел привить любовь к эстампу многим своим ученикам, среди которых была А.П. Остроумова-Лебедева. Именно она стала не только первой крупной фигурой в нашей отечественной цветной ксилографии, но и, пожалуй, самым известным в XX веке певцом благородной красоты Петербурга. Хотя в некоторых своих гравюрах она использует имитацию росчерка, тем не менее ее скупые и сдержанные городские пейзажи никоим образом нельзя упрекнуть в репродукционности и отсутствии естественности употребления материала. Интересно также, что ее гравюры, в которых нет изображений человеческих фигур, не вызывают впечатления безжизненного города — настолько динамичны и одухотворенны ее композиции.
В Москве борьбу с ремесленничеством, имитацией чужих техник, авторепродуцированием возглавил выдающийся художник, теоретик и педагог В.А. Фаворский, на мнение и авторитет которого мы уже не раз ссылались. Как мы знаем, он подчеркивал самоценность языка гравюры, справедливо считая, что все этапы ее создания, включая гравирование, суть творчество.
Характерным примером подобного отношения к искусству гравюры в западноевропейском искусстве первой половины XX века служат острые ксилографии К- Кольвиц. В них гражданственность темы соединялась с возможностью их распространения среди широких зрительских кругов и с подчеркнутой специфичностью гравюры на продольном дереве. Эти же качества мы видим в циклах станковых листов и иллюстраций другого крупнейшего западноевропейского мастера гравюры на продольном дереве, работавшего в середине XX века —
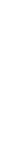
чит эстамп по самым разным признакам, фасеты представляют неизъяснимую эстетическую прелесть, как и некоторые другие специфические черты гравюры глубокой печати: разница фактуры и плотности одного и того же листа бумаги на полях (обычно более рыхлой) и в пределах изобразительной плоскости, ограниченной фасетами (как правило, более гладкой, чем на полях), а также чуть заметная, но все же очень ценимая знатоками рельефность краски, возвышающейся над бумагой.
Глубокая гравюра — второй по возрасту вид эстампа. Она появилась в Европе немного позже ксилографии — в середине XV века. Ее происхождение из среды ювелиров объясняет быстрое достижение высокого технического и художественного уровня. Например, всего лишь спустя полвека после изобретения этого вида эстампа создавал свои шедевры резцом на металле великий Альбрехт Дюрер.
Чтобы понять художественную специфику глубокой печати и основные тенденции ее развития, следует иметь в виду, что резцовая гравюра на металле для реализации ее потенциальных возможностей — изящества, тонкости и особой светоносности — требует от гравера высочайшего технического мастерства, которое достигается длительной выучкой и базируется на определенных психических и физических качествах художника, прежде всего, твердости руки и характера. Творческим натурам со страстным и бурным темпераментом эта техника не подходит — она слишком сдерживает их эмоциональные порывы. Эта проблема была решена благодаря изобретению в самом начале XVI века химического способа создания углубленной печатной формы. Некоторая утрата тонкости и четкости штриха компенсировалась преодолением «темповых» ограничений, давая художнику возможность работать спонтанно.
При этом способе художник легко рисует тонкой иглой по специальному кислотоупорному лаку, защищающему поверхность будущей печатной формы, а углубление в металле «выедает» кислота. Таким образом достигается свобода и непринужденность в нанесении линий, как, например, в перовом рисунке тушью, так что нет необходимости преодолевать мощное сопротивление металла.
Мы считаем нужным обратить внимание читателей на то, что рассматриваемый нами способ химической обработки металлической доски, появившийся в Германии, в русском искусствоведении получил французское название «офорт», что в переводе означает «азотная кислота». Иногда термином «офорт» обозначают все способы глубокой печати, что, конечно же, неверно. Его следует употреблять только в связи с теми процессами, в которых используется азотная кислота или аналогичные ей по воздействию на металл химические вещества, и не называть им такие способы, как «сухая игла», резцовая гравюра, или меццотинто, которые выполняются чисто механическими приемами
Ф. Мазерееля. Подобно ренессансным мастерам гравюры, он вновь обратился к особому жанру — своеобразному графическому рассказу, содержание которого последовательно раскрывается от листа к листу, и эти листы составляют обширные сюиты, объединенные темой и сюжетом.
В начале XX века в поисках замены дерева как материала для высокой гравюры художники стали использовать линолеум, который хотя и не позволяет добиться тонкой моделировки деталей и не дает больших тиражей, зато представляет собой материал более однородный и легкий в гравировании, что способствует особой декоративности и эмоциональности черно-белых и цветных композиций. Примером блестящего использования этих качеств такого, казалось бы, грубого материала служат работы мексиканских граверов, среди которых самым известным является Л. Мендес. Его произведения, наполненные социальным пафосом и латиноамериканским темпераментом, оказали влияние даже на художников Японии — страны с богатейшими традициями в искусстве гравюры.
Среди мастеров современного искусства линогравюры в Петербурге одно из самых заметных мест занимают А.А. Ушин и О.А. Почтенный, которые умеют, не скрывая особенностей материала, вместе с тем не выпячивать его специфику, а работают на нем естественно, достигая ощущения свободного рисования резцом гравера.
ГЛУБОКАЯ ПЕЧАТЬ
Рельефность печатной формы — пространственная разница между рисунком и фоном — является необходимым условием не только для высокой, но и для глубокой печати. При работе этим способом печатаются углубленные (прорезанные механическими или протравленные химическими способами) штрихи и точки. Перед печатью их сначала заполняют («забивают», как говорят профессионалы) краской, а затем поверхность печатной формы вытирается от краски. Краска остается в углублениях, а при печати под большим давлением переходит на специально подготовленную рыхлую бумагу.
Края металлической печатной формы, вдавливаясь в эстампную бумагу, создают характерные рельефные края композиции — фасеты. Они служат первым, хотя и не абсолютным, признаком того, что перед нами оттиск офорта или гравюры, а не репродукция. Заметим, что с некоторых пор нередко нечестные или неграмотные продавцы сувенирно-художественной продукции пытаются выдавать за авторский эстамп и особенно за офорт ксерокопии рисунков (такое случалось даже в киосках, разместившихся в здании Государственного Эрмитажа), так что внимание к наличию фасетов, кроме прочего, может уберечь от подобных подделок. Для знатока же, который легко отли-346
вавшая от художника размеренности и напряжения, не способствовала передаче трепета и движения, но она же, вызывая ощущение значительности и неслучайности, приводила к общему впечатлению торжественности и покоя. Этот художник, всю жизнь стремившийся к ясности и простоте, сумел к концу своей жизни создать такие произведения, в которых самые незамысловатые предметы, показанные безо всяких композиционных ухищрений, приобретали значительность откровения — откровения, состоящего в том, что надо уметь любить самые обыденные проявления жизни. Тенденцию именно к такому восприятию мира мы можем обнаружить в его значительно более ранних гравюрах, о которых мы и ведем речь, например, в выполненном в 1939 году пейзаже «На Карповке». В вертикально расположенном формате, близком к «золотому сечению», доминируют строго горизонтальные линии — как обозначающие контуры зданий, так и создающие некоторую плотность тональных пятен, определяющих небо, воду и землю. Равномерный до монотонности ритм окон и статуар-ность фигур могут показаться излишне статичными, но именно благодаря этому возникает впечатление устойчивости и торжественности одного из, казалось бы, самых непрезентабельных уголков Ленинграда-Петербурга. Иными словами, с помощью выразительных средств резцовой гравюры на металле Д.И. Митрохину удается добиться монументальности без изображения монументов.
Г.С. Верейский многократно изображал перекресток Большого проспекта и 8-й линии на Васильевском острове, который он видел из окна своей квартиры. Использовать один и тот же скромный сюжет можно лишь в том случае, когда художника интересует изменчивость и тонкость состояния городской атмосферы — атмосферы в обоих значениях этого слова: и как движения воздуха той или иной степени прозрачности, и как городской суеты. Убедительность показа конкретного — моментального, сиюминутного — состояния, атмосферы дает возможность почувствовать и следующий — уже иной — миг, и тем самым преодолеть одномоментность изображения. Движение приобретает не только пространственное, но и временное значение. Благодаря возможности ведения работы «на одном дыхании» и разнообразию тональностей, офорт позволяет добиваться интереснейшей интриги между штрихом (в котором фиксируется эмоциональное движение руки художника, что, по П.А. Флоренскому, является первоосновой графики) и передаваемой с его помощью импрессионистической, вибрирующей атмосферой. Напомним, что передача именно свето-воз-душной среды, которая обволакивает погруженные в нее предметы, обычно бывает характерной для живописи.
В офорте «Иней», который Г.С. Верейский создал в том же 1939 году, когда была выполнена приведенная нами гравюра Д.И. Митрохина «На Карповке», этот мастер офорта использовал, кроме импрес-
без употребления активных химических соединений. Наша категоричность по поводу употребления терминов «офорт» или «резцовая гравюра» обусловлена тем, что механические и химические способы создания формы для глубокой печати, несмотря на единый принцип печати, существенно отличаются в творческо-психологическом отношении.
Эту творческо-психологическую и эстетическую разницу между резцовой гравюрой и офортом легко понять, сравнивая творческие методы художников, принадлежащих к одной и той же эпохе, например, П.П. Рубенса и Рембрандта или — из наших соотечественников XX века — Д-И. Митрохина и Г.С. Верейского. Можно догадаться, что П. Рубенсу больше по душе была четкая и ясная, хотя нередко и суховатая, гравюра резцом. И действительно Рубенс, который был не только блестящим живописцем, но и, выражаясь современным языком, главой большой художественной фирмы, организовал настоящее граверное производство, где в основном репродуцировалась живопись мэтра или его лучших учеников. В противоположность Рубенсу трудно представить себе драматичную фигуру Рембрандта с резцом в руке, методично и размеренно проводящего тончайшие штрихи. Его темпераменту соответствовала возможность стремительной работы в офорте, контрасты света и бархатных темных тонов, пусть даже и без того изящества, тонкости линий, какие возможны только при работе резцом по медной доске.
А теперь сравним работы Д.И. Митрохина и Г.С. Верейского, которые были не только современниками и длительное время жили в одном городе, но даже оба в 1920-х годах входили в совсем небольшой коллектив преподавателей графического факультета бывшей Академии художеств. Кроме того, хотя у каждого из них было свое творческое амплуа, принесшее довольно широкую известность (Д.И. Митрохину — как мастеру книги, а Г.С. Верейскому — как литографу-портретисту), оба они были также тонкими пейзажистами, обращавшимися, подобно К. Коро, к самым, казалось бы, незатейливым пейзажным мотивам — без памятников архитектуры или храмов, часо служащих пейзажистам композиционной доминантой. Оба эти художника нередко изображали такие уголки на Васильевском острове или на Петроградской стороне, мимо которых все остальные художники проходили, не видя в них поводов для приложения творческих сил.
Для резцовых гравюр Д.И. Митрохина, выполненных в 20—30-х годах, характерно бережное отношение к белой бумаге, на которой четко и звонко выделяются в основном прямые параллельные штрихи. Каждый штрих, начинаясь с тончайшего следа штихеля, становится в той или иной степени более активным в своей средней части. Эта пластическая кульминация прямого штриха придает ему особую пространственную упругость, силу. Техника резцовой гравюры, требо-348
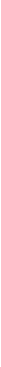
ческое отношение к этой довольно трудоемкой технике оказывается часто даже для по-настоящему талантливых художников непозволительной роскошью.
Резцовой гравюрой на металле в течение всего XX века в нашей стране занимались лишь немногие мастера, среди которых наиболее почетное место, вероятно, принадлежит упоминавшемуся нами Д.И. Митрохину. Продолжателями его традиции можно назвать К.Г. Претро, В.Ф. Алексеева и О.В. Пен. Хотя в ремесленном отношении этих художников, как и Митрохина, нельзя назвать виртуозами, их работы отличаются изысканностью композиционного построения, в частности, тональных отношений.
Кроме хотя бы самых общих сведений об истории печатной графики, исследователю эстампа необходимо иметь ясное представление о технологической картине того, что может быть объединено понятием «глубокая гравюра».
Итак, прежде всего, глубокая гравюра бывает двух видов, которые выделяются в зависимости от того, какими способами изготавливается форма. Способы эти — химические, называемые иногда также «кислотными» (офорт) и механические («бескислотные»).
Основные химические способы:
офорт (травленый штрих);
акватинта;
лавис;
резерваж, или срывной лак;
мягкий лак.
Основные механические способы:
резцовая гравюра на металле;
сухая игла;
меццотинто;
пунктирная манера.
Задержим наше внимание на художественно-выразительных особенностях перечисленных техник. Начнем с «кислотных».
Офорт, называемый «травленым штрихом»,— «самый офорт-ный офорт», для которого характерна в основном серебристость тональных отношений, как в работах Ж- Калло, А. Цорна или Г.С. Верейского, но возможно и достижение насыщенных бархатно-черных тональностей, как это делал Рембрандт.
С помощью акватинты создаются более или менее широкие и разнообразные по насыщенности пятна с обычно четко очерченными границами и характерной точечной фактурой. Это достигается напылением на металл порошка канифоли, асфальтита или других кислотоупорных лаков перед травлением азотной кислотой. Затем под воздействием кислоты промежутки между приплавленными частицами, допустим, канифоли превращаются в точечные или червеобразные углубления разной величины, что зависит от продолжительности травления и что дает разную силу тона. Обычно акватинта использу-
сионистически-вибрирующей штриховки, битумный лак в качестве особого рисовального материала, перекрывая им до травления свободно нанесенные штрихи, что дает такую естественную и гармоничную белизну живых мазков, какая недостижима, например, гуашевыми белилами, поскольку они сохраняют родство белого, которое ни в какой части композиции не отрывается от изобразительной плоскости.
Для того чтобы читатель имел некоторую базу для анализа тех или иных эстампов, созданных русскими художниками с помощью глубокой печати, приведем краткие исторические сведения, касающиеся этой области.
В России глубокая гравюра стала широко использоваться только со времени реформ Петра I. Среди русских граверов XVIII века выделяются А.Ф. Зубов (1682/83— 1751), М.И. Махаев (1718— 1770) и Е.П. Чемесов (1737— 1765). В XVIII и XIX веках этот вид эстампа в нашей стране в основном использовался в репродукционных целях. Хотя к нему обращались многие талантливые авторы собственных композиций, например Ф.П. Толстой, поэты В.А. Жуковский и Т.Г. Шевченко, Л.М. Жемчужников, И.И. Шишкин, глубокая гравюра отнюдь не занимала главное место в их творчестве.
На рубеже XIX—XX веков интерес к художественно-выразительным возможностям техник, связанных с глубокой печатью, значительно возрос, чему в значительной мере способствовала педагогическая деятельность В.В. Матэ, а также воздействие западноевропейского искусства, в частности, творчество шведского живописца и офортиста А. Цорна. Под их влиянием к офорту обратился такой мастер живописи и рисунка, как В.А. Серов, создавший, среди прочего, цикл композиций на темы басен И.А. Крылова. С той поры в нашей отечественной графике гораздо чаще мы встречаем офорт, нежели резцовую гравюру. Не только мастером различных графических техник, но и учителем многих известных офортистов в России и Франции была Е.С. Кругликова. Разнообразные мотивы от патетических пейзажей грандиозных строек до изысканных иллюстраций к любовной лирике умел мастерски воплотить в офорте И.И. Нивинский.
В искусстве офорта второй половины XX века можно заметить две тенденции. Одна связана с поиском новых технических возможностей, нетрадиционных материалов, способов совмещения техники глубокой печати с другими видами эстампа и уникальной графики, чем увлекались прибалтийские художники, оказавшие влияние на некоторых художников из Москвы. С другой стороны, используя даже традиционный технический арсенал, можно найти свой, легко узнаваемый художественный язык, как это удалось сделать также московскому художнику Г.Ф. Захарову.
К сожалению, ныне — в самом начале XXI века — офорт в России все больше приобретает оттенок сувенирности, а подлинно твор-350
ской печати несложно понять, если обратиться к литографии, с которой начинался этот вид полиграфии.
Рисуя на камне-известняке специальными карандашами и тушью, основным компонентом которых является обычное туалетное мыло, литограф превращает поверхность камня под рисунком в такую среду, которая отталкивает воду. При печати перед каждым накатыванием краски камень смачивается водой, которая не ложится на рисунок, а затем жирная печатная краска не ложится на воду (сухая поверхность камня закаталась бы краской целиком).
Плоская печать значительно моложе обоих видов гравюры. Она была изобретена в Мюнхене в 1796—1799 годах Алоизом Зенефель-дером — гениальным изобретателем с драматичной судьбой, принципиально изменившим направление развития полиграфии. Хотя слово «литография» указывает на использование камня (от греч. литое — камень), суть изобретения в другом — Зенефельдер первым догадался, что можно печатать с плоской формы, если одни части будут смачиваться водой, а другие — ее отталкивать. Заметим, что сам Зенефельдер проводил успешные опыты по использованию в качестве печатной формы не только камня, но и других материалов: различных металлов, картона и т. д. Поэтому он и называл свой способ «химической печатью», что, конечно же, правильнее, чем появившийся позднее термин «литография».
В истории литографии прослеживаются две основные тенденции. Одна доминировала в первый период (со времени изобретения до 60-х годов XIX в), когда литография была в основном способом тиражирования произведений: к работе на камне художники чаще всего относились как к обычному рисованию на бумаге, не учитывая и потому мало используя специфические художественно-выразительные возможности. Свидетельством этому служит, среди прочего, тот факт, что Российская императорская академия художеств не считала литографию искусством, о чем было объявлено в особом решении. Привлекала же эта техника художников и издателей в то время способностью давать большее число равноценных оттисков при облегчении процесса печати и увеличении ее скорости, по сравнению с резцовой гравюрой на металле и офортом. Кроме того, в отличие от гравюры, литография не требует многолетней специальной ремесленной выучки, тренировки руки. Главное же достоинство этого вида эстампа для художников того времени, обладавших могучим творческим темпераментом, таких как первый французский романтик Т. Жерико или его русский собрат А.О. Орловский, страстный публицист О. Домье или ироничный П. Гаварни, заключалась не в каких-то особенных эффектах, а в том, что она не сковывала их творческий процесс, не вынуждала преодолевать «сопротивление материала».
ется в сочетании с травленым штрихом, как в офортах Ф. Гойи, но возможно употребление «чистой» акватинты без травленого штриха, редкими примерами чего служат некоторые работы Е.С. Кругликовой.
Лавис технологически является подвидом акватинты, в котором крепкая азотная кислота наносится на печатную доску кистью, благодаря чему достигается акварельность пятен и мягкость их переходов. Заметим, что эта техника крайне капризна и вредна для здоровья, поэтому, вероятно, и встречается так редко.
Резерваж (или срывной лак) обычно является также подвидом акватинты, носящим характер свободного рисунка кистью, но возможно создание и штрихового рисунка пером без акватинты, что, однако, не является технологически оправданным использованием материала и техники.
Мягкий лак — способ, художественно-выразительный язык которого близок к карандашному рисунку по зернистой поверхности хорошей тряпичной бумаги или литографского камня. Отличить от литографии мягкий лак можно по фасетам — углубленным в бумаге следам от краев печатной формы.
А теперь перейдем к специфике языка «бескислотных» техник глубокой гравюры.
Характерным отличием резцовой гравюры на металле от офорта (травленого штриха) является четкость линий и чрезвычайная тонкость их краев (в офорте линия заканчивается всегда точкой, она как бы обрублена).
Сухая игла — малотиражная техника (обычно не более 10 экземпляров), для которой характерна размытость линий и соответственно живописность пятен и тональных отношений в целом. Краска задерживается на печатной форме не только в процарапанных углублениях, но и на выступающих над поверхностью заусенцах — «бар-бах», дающих специфичную мягкость штрихов, а также позволяющих добиться глубоких бархатно-черных тонов.
Меццотинто — трудоемкая техника, при которой сначала механически зернится поверхность металлической доски, что дает совершенно черный отпечаток; затем в необходимых местах доски зернистость убирается (срезается или выглаживается), благодаря чему возникает светлое изображение на черном фоне. Это единственная печатная техника, в которой тональные отношения возникают не только за счет разной величины и частоты точек, но и за счет градаций толщины красочного слоя.
ПЛОСКАЯ ПЕЧАТЬ
В этом виде печати в результате особой обработки, основанной на действии законов физической химии, на плоской поверхности печатной формы возникают две среды: одна — принимающая, а другая — отталкивающая краску. Рельефность здесь не нужна. Принцип пло-352
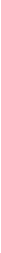
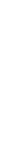
ном отношении к натуре. Казалось бы, симметричное расположение кувшинов одной высоты и вятской игрушки между ними должно привести к статичности. Но активные диагональные штрихи фона и свободно и одновременно точно нанесенные мазки, которыми лепятся предметы, сохраняют ощущение трепета живой руки художника даже в перевернутом зеркальном направлении (ведь перед нами оттиск, художник же, работая на камне, наносил кистью штрихи в другом направлении). Ни один контур не остается жестко обозначенным на всем своем протяжении листа — контрастные и четкие участки чередуются с мягко списанными, таким образом соблюдается принцип акцента и паузы в трактовке объемов и их контуров. Такое разнообразие касаний способствует созданию общей среды, что усиливается присутствием трепетных рефлексов — в каждом цветовом пятне при доминировании одного цвета присутствуют другие цвета, что позволяет избежать ощущения раскраски и достигнуть единства колорита с использованием яркой и разнообразной палитры. Такая свобода и точность тем более поражает, что художник работал в этом случае не в таких непосредственных материалах, как масло или акварель, в которых результат сразу виден, а в исключительно сложной технике цветной литографии вразмывку с нескольких камней, когда для каждого цвета создается отдельная печатная форма. Но зато в результате создавалось замечательное живописное произведение, которое, будучи тиражным, становилось доступным в подлиннике, а не в репродукции. А если учесть, что этот «Букет» датирован 1939 годом, когда власти жестко навязывали принципы так называемого «социалистического реализма», в действительности не имевшего в своей основе почти ничего общего с действительным реализмом, то создание такого произведения можно считать художническим подвигом.
Надо заметить, что отношение к литографии и к другим видам эстампа как к способам тиражирования изображений и текстов никогда не исчезало; основой для этого являются, с одной стороны, отсутствие глубокого профессионализма художников, а с другой — неподготовленность зрителей, неразвитость эстетического вкуса.
Для второго периода истории литографии, который начался, когда в большой полиграфии стали доминировать фотомеханические процессы, характерно значительное расширение диапазона используемых технических и художественных приемов, а в конечном счете понимание литографии как особого искусства, тиражность в котором является отнюдь не единственным и даже не главным преимуществом для художников. Литографии Д. Уистлера, А. Фантен-Латура или К. Коль-виц сделаны так, что их невозможно без потерь повторить в какой-либо другой технике как печатной, так и уникальной.
Особенно ярко такое в высшей степени творческо-профессио-нальное отношение к литографии проявилось в работах ленинградских художников 20—30-х годов XX века. Так, Н.А. Тырса, Н.Ф. Лапшин, В.В. Лебедев, В.М. Конашевич, А.Л. Каплан, Ю.А. Васнецов, К-И. Рудаков, А.С. Ведерников и другие совмещали в себе высокую духовность, стремление донести ее до широкого зрителя с блестящим профессионализмом, включающим основательное знание особенностей технологии литографии, умение выполнять все операции, связанные с созданием эстампа.
Возможности литографии в цветной печати настолько велики, что позволяют говорить об особой литографской живописи. Тонкость и прозрачность слоя печатных красок, а также разнообразие фактур дают возможность использовать различные комбинации цветов и их смесей. Примером мастерского использования таких возможностей служат литографии всех названных художников, живших и работавших в городе на Неве, но особое место в череде их имен принадлежит Н.А. Тырсе.
Сам он создал немного станковых литографий, однако оказал громадное влияние на своих коллег. Силе этого влияния способствовал его авторитет художника-живописца, литографа-книжника, мастера рисунка мягкими и жидкими материалами, а также его авторитет педагога и общественного деятеля. Когда он разработал новый способ создания литографий, дающий возможность получения акварелыю тонких цветовых переходов, и с помощью этого способа создал несколько «Букетов», он буквально «заразил» любовью к литографии немало живописцев.
Вероятно, самым известным из этих «Букетов» является тот, где изображены два кувшина и вятская игрушка. Здесь мы можем увидеть все те принципы, на которых построены живописные произведения этого художника, написанные маслом или акварелью: темпераментность (или стремительный темп), подчеркнутая декоративность, отсутствие литературного сюжета, очевидность приема при вниматель-
354
ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
В шелкографии, т. е. усовершенствованной трафаретной печати (еще ее называют сериографией), краска проходит через шелковое или капроновое сито на бумагу, если этому не препятствует в пробельных местах калька или пленка, полученная из специальных эмульсий. Чаще всего в этой технике употребляются кроющие краски, не позволяющие использовать принцип перекрывания прозрачными красками. Это вынуждает художников либо ограничивать цветовую палитру, либо увеличивать количество печатных форм для создания цветного эстампа.
Шелкография является самой молодой среди всех видов эстампа. Хотя принцип трафаретной печати был известен очень давно, она не имела признания как художественно ценное средство. Среди художников эта техника стала распространяться сравнительно недавно, и найти классические образцы ее использования пока трудно. В качестве примера обращения к ней художников с международной известно-
23* 355