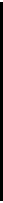- •Глава IV
- •1. Скульптура как вид изобразительного искусства
- •2. Скульптурные материалы и техники
- •3. Круглая скульптура и рельеф
- •4. Разновидности скульптуры
- •5. Жанры скульптуры
- •6. Выразительные средства скульптуры
- •7. Вместо заключения
- •Глава V
- •1. Графика как вид изобразительного искусства
- •2. Особенности восприятия произведения уникальной графики
- •3. Место уникальной графики в изобразительном искусстве
- •4. Материалы и выразительные средства уникальной графики
- •5. Художественные техники, обладающие признаками графики и живописи
- •Глава VI
- •1. О рациональном анализе и эмоциональном восприятии
- •2. Книжная графика
- •3. Эстамп
- •4. Плакат
- •Глава VII
- •1. Общие сведения об архитектуре. Основные понятия и термины
- •2. Польза. Функция. Виды архитектуры и типы зданий
- •3. Прочность. Строительные материалы и конструкции. Тектоника. Ордерная система
- •4. Красота. Архитектурный образ. Образно-композиционные средства. Стиль в архитектуре
- •5. Анализ архитектурной композиции
- •I курс
- •Глава VIII
- •1. История. Понятия. Термины
- •2. Образ
- •3. Форма и функции
- •4. Материал и технология
- •5. Конструкция и тектоника
- •6. Декор. Цвет. Орнамент
- •7. Стиль. Мода. Вкус
- •8. Принципы анализа и критерии оценки
- •Глава IX
- •Глава X
- •1. О природе музыкального искусства
- •8 Re_ con_ci -li - a - vit pec _ ca -to _ res. 4. Die no _ bis Ma-dux VI-tae mor_tu _ us re-gnat VI _ vus. 6. An_ge _ li _ cos
- •8 Ri _ a, quid VI _ di _ sti in VI _ a? 5. Se _ pul _ crum
- •8 Chri_ sti VI _ ven tis, et glo _ ri _ am VI _ di re_
- •2. Исполнительская интерпретация музыкального произведения
- •3. Произведение — слушатель: диалоги
- •Глава XI
- •6. Работа с письменными источниками.
узнать об эпохе создания, уровне культуры и технологии. Работая над новым изданием, редакторы и художник стремятся с помощью организации ритмического строя макета книги и ее оформления вызвать у читателя-зрителя определенное настроение, подготовить его к восприятию текста, иллюстрациями усилить эту эмоциональную атмосферу, дополнить и развить духовное содержание. Именно этой стороной книжного дела особенно интересуемся мы: художники книги, искусствоведы, педагоги, связанные с изобразительным искусством. Адекватность пластического выражения идейному содержанию, а также, что немаловажно, комфортность пользования книгой, максимальная внятность содержания, излагаемого в тексте, в элементах
оформления и иллюстрациях, являются целью искусства книги.
Этой цели гармонии всех элементов книги блестяще достигали средневековые западные и восточные мастера рукописной книги, совмещая читаемость и красоту шрифта с изяществом миниатюр, виньеток, переплета и других элементов ее сложного организма. Так, классические персидские миниатюры, широко известные грациозностью и ювелирностью трактовки образов, а также лучезарной нарядностью всей композиции, приобретают еще большую значимость, когда видишь их в самой книге. Этому способствует их положение рядом с буквами, которые превратились в стройный орнамент. Цветные поля со сложной цветовой и фактурной разработкой придают тексту и миниатюре единый колорит. Книжный блок производит впечатление сокровища, заключенного в изящный, но отнюдь не громоздкий переплет, который отвечает как высоким эстетическим, так и функциональным требованиям.
Этим высоким требованиям соответствовали и ранние печатные книги, например, выпущенные легендарным изобретателем наборного книгопечатания Иоганном Гутенбергом (ок. 1394/1406—1468), знаменитым итальянским издателем эпохи Ренессанса Альдом Ману-цием (ок. 1450—1515), русским первопечатником Иваном Федоровым (ок. 1510—1583).
Интересно, что один из самых авторитетных теоретиков и практиков в области искусства книги Ян Чихольд, который начинал с ниспровержения традиций в искусстве книги, а затем пришел к выводу, что самыми красивыми изданиями были именно средневековые манускрипты и инкунабулы (первопечатные книги, вышедшие в свет до 1500 г.), и именно благодаря Я. Чихольду нам стали известны некоторые профессиональные секреты средневековых мастеров книги.
Остается добавить, что в области книги для детей таких же выдающихся результатов добились наши соотечественники, создавшие в 20—30-х годах XX века лучшую в мире школу искусства детской книги. Рассмотрим по порядку разделы книжной графики.
мости, рассудочности, сохранять ощущение непринужденного рисова ния, трепет человеческой руки.
Часто на вопрос начинающих офортистов, сколько времени надтравить в азотной кислоте цинковую печатную форму, приходится от-вечать вопросом: «А каким карандашом надо рисовать — твердымили мягким?» Подобно тому, как выбор карандаша — индивидуаль-ное дело художник, зависящее от его вкуса, привычки, конкретногозамысла, материальных возможностей, так и определение крепост
кислоты и длительности травления может быть сделано только автором. Но для этого у него должен быть достаточный опыт, превратившийся из опыта ремесленника в художественно-образное мышлениематериале.
И еще несколько слов о значении технологии в искусстве графики, о профессиональном мастерстве, а значит, о «художестве» в его первоначальном смысле.
Тонкости технологии эстампа необходимо знать художнику. Зрителю доскональное знание в этой области недоступно, да и ни к чему. Однако понимание основных технологических принципов помогает понять замысел художника и особенности его творческого мышления, приблизиться к пониманию того, как художник работает (понять это до конца, вероятно, порой не сможет и сам художник). Знание зрителем технологических принципов заставляет его испытывать чувство уважения к работе художника — и к процессу, и к результату. Поэтому и оказывается столь необходимым обрисовать в этой главе основные принципы графики, постоянно балансируя между технологией и особенностями творческого мышления, темперамента художника.
2. Книжная графика
Сегодня книга, теснимая новыми системами хранения и передачи информации, по-прежнему занимает важнейшее место в ряду искусств. Поэтому воспитание вкуса в области искусства книги должно начинаться в раннем детстве, и исключительно важная роль в решении этой задачи принадлежит учителю изобразительного искусства. Содержание книг изучают на занятиях по многим общим и специальным дисциплинам в школах и вузах. А вот учителю изобразительного искусства надлежит воспитать в своих учениках уважение к книге как к художественному произведению, в котором воплотился труд многих людей: автора текста, художника, издательских работников (литературного, художественного и технического редакторов, корректора и пр.), работников типографии или офсетной фабрики (наборщиков, мастеров цветоделения, печатников, переплетчиков и т. д.).
При внимательном отношении к облику старинной книги можно, даже не владея языком, на котором написан текст, по ее виду многое 326
что определенный стиль, т. е. характер рисунка букв (или, как говорят профессионалы, гарнитуры) связан всегда с конкретной эпохой и нелепо, допустим, готическим шрифтом набирать текст научного исследования по коллоидной химии. Каждый раз встает вопрос, какой эпохе должен соответствовать рисунок шрифта: эпохе автора, эпохе читателя или эпохе действующих в литературном произведении героев. Выбор шрифта связан как с экономикой, так и с эстетикой книги. Рисунок и размер букв влияют на то, сколько текста поместится на той или иной площади бумаги. В книге для детей или в роскошном подарочном издании желателен шрифт покрупнее, тогда как в энциклопедическом словаре может оказаться целесообразным использование максимально мелкого, разумеется, из читаемых шрифтов. Все эти вопросы учитывает настоящий художник книги, вдумчиво работающий над макетом. Но это далеко не все. Определяя место для текста и рисунков, такой художник помнит, что его работа развивается не только в пространстве, но и во времени. Создавая макет, он регулирует движение по книге, то замедляя его, то ускоряя, то даже способствуя возврату. Совершенно разное ощущение движения вызывают такие комбинации в книжном развороте: соседство текстовой страницы рядом с полосной иллюстрацией; две полуполосных иллюстрации над или под текстом, занимающим также примерно половинки страниц; диагональное расположение иллюстраций и текста и т. д.
Рассматривая книгу, обратите внимание на композицию предшествующих и дальнейших разворотов: нет ли однообразия или, напротив, слишком большой разницы их пластического решения, соседства нескольких разворотов с иллюстрациями, а затем череды чисто текстовых (как говорят книжники, «слепых») страниц и разворотов. С таким «макетом» мы встречаемся чаще всего, когда обращаемся к отечественной графике конца 40—50-х годов XX в., когда мастера целостного решения книги — В.А. Фаворский, В.М. Конашевич и другие — испытывали гонения, а процветал станковизм. Иллюстрации к книге выполнялись, как серия станковых листов для выставки (именно так обычно поступал Д.А. Шмаринов), а затем в сильно уменьшенном виде вклеивались между тетрадями, составляющими книжный блок. К сожалению, ныне мы вновь стали регулярно встречаться с таким же, казалось бы, отжившим способом украшения и одновременно разрушения целостного организма книги.
Давайте рассмотрим один из замечательных образцов искусства книги. Мастер цветной ксилографии ГД. Епифанов придавал исключительно большое значение ритмической организации книги. Оформленная и проиллюстрированная им «Пиковая дама» А.С. Пушкина стала, по мнению известного исследователя Е.Б. Адамова, образцом решения подобной задачи (Адамов Е. Ритмическая структура книги. М., 1974. С. 75—86). Сам ГД. Епифанов рассказывал, что ему стои-
329
МАКЕТ
Большинство художников-графиков считает занятие макетированием если и нужным, то довольно скучным делом, к тому же якобы не требующим профессиональной подготовки. А между тем именно макет является основой, фундаментом, без которого невозможно построить красивое и удобное «здание» книги. Изысканной и художественной книга может быть и без иллюстраций. Об этом весьма категорично говорили не только русский писатель и литературовед Ю.Н. Тынянов или зарубежные мастера книжного дизайна Я. Чи-хольд, П. Реннер, Ф. Бауэр или Э. Рудер, но и такой блестящий мастер рисунка и живописи, а также тонкий критик, как А.Н. Бенуа (1870—1960). Он одним из первых среди теоретиков и практиков книжной графики стал утверждать, что начинать работу над книгой надо с подбора формата, фактуры и цвета бумаги, а также шрифта. Даже АД. Гончаров (1903—1979), вошедший в историю графики именно как иллюстратор-ксилограф, считал главным в книжной графике макет.
Итак, что же входит в понятие «макет»? Кто и как над ним работает?
В первую очередь издательство и художник решают, каковы будут характер и объем издания (техническая или художественная книга, скромная или роскошная), а это невозможно без определения формата книги, рисунка и емкости шрифта. Здесь нет мелочей. Даже качество бумаги несет эстетическую нагрузку. В издательствах, известных высокой культурой выпускаемых ими книг, например, в «Авроре», иногда используют два типа бумаги (мелованную и матовую) водной книге, чтобы даже через осязание передать композицию, структурное членение, допустим, на текстовую и иллюстративную части альбома. Кроме того, разная бумага отвечает разным полиграфическим задачам.
С двумя сторонами книжного дела — производственной и эстетической — связан и формат книги. Остросюжетный ли это роман, от чтения которого невозможно оторваться ни дома, ни в транспорте и который соответственно нуждается в таком формате, чтобы книгу было легко удержать в одной руке или положить в карман (отсюда и появившееся в разных языках название подобных изданий — карманная книга), или это роскошный альбом, предназначенный для рассматривания в более комфортных условиях — от этого, как мы видим, зависит размер и пропорции страницы и разворота книги. Но эти же параметры зависят и от формата исходного листа бумаги, на котором сначала печатаются текст и картинки и который затем складывается — фальцуется — соответствующее количество раз и, соединен
ный с другими такими же листами, переплетается или брошюруется.
Многообразны возможности и проблемы, связанные с выбором шрифта для намечаемого издания. Здесь можно выделить три основных критерия: читаемость, стиль и емкость (убористость). Очевидно, 328
ло немалых трудов в условиях плановой экономики добиться выделения такого количества бумаги, которое в несколько раз превышаложесткие нормы, существовавшие в то время. Художнику же это былонеобходимо, чтобы постепенно настроить читателя (или точнее, сна-чала «зрителя» книги) на восприятие пушкинского текста.
Подобно тому, как ощущению торжественности пребывания в парадном зале способствует путь через анфиладу залов поменьше или подъем по парадной лестнице, так в пластическом решении Г.Д. Епифанова череда светлых, почти незаполненных текстовыми или изобразительными элементами разворотов подготавливает читателя к встрече с произведением А.С. Пушкина. А далее текст «купается» в обилии белого, что оттеняет некоторую мрачность фабулы и придает ощущение значительности небольшому литературному произведению. Ощущению скорее классичности, а не романтики соответствует ясность, экономность пластического языка и некоторая сухость кси-лографских иллюстраций.
ОФОРМЛЕНИЕ КНИГИ
■
Как говорил своим ученикам Г.Д. Епифанов, нарисовать пейзаж, сидя на пеньке — дело нехитрое. А вот имея в своем распоряжении только имя автора, название книги, а также стиль шрифта, цвет и фактуру фона, умудриться вызвать настроение, которое бы соответствовало духу и смыслу литературного произведения — это задача, посильная лишь избранным. Возможно, такое мнение может показаться излишне категоричным. Но эти слова большого мастера книги выражают меру требовательности к себе, коллегам и ученикам.
Очень показательна в этом отношении обложка Г.Д. Епифанова к «Пиковой даме» А.С. Пушкина. Казалось бы, предельно просто решенная — крупные черные буквы на белом фоне обычной матовой бумаги — эта обложка выверена настолько, что до сих пор производит впечатление скорее благородной роскоши, чем аскетизма, основанного на ограниченности средств. Особенно сильное впечатление эта работа произвела при своем выходе в свет, поскольку составляла разительный контраст с обычными в то время усложненными, тонально нагруженными переплетами. В наше время обложек на белом фоне
слишком много по причине скудости средств. Ощущению значительности, погружению в пушкинскую или даже в екатерининскую эпоху способствуют крупный размер хорошо пропечатанных букв и их рисунок — так называемая елизаветинская гарнитура. Этот шрифт отно
сится к классу «новая антиква», который сформировался и активно использовался во второй половине XVIII—XIX веках и для которого
характерны контрастность очень тонких горизонталей и толстых вер
тикалей, а вследствие этого общая декоративность. 330
Благодаря тонко, со вкусом подобранным шрифтовым и орнаментальным элементам можно и добиться ощущения ценности книги как изысканного предмета, и создать определенную эмоциональную атмосферу, способствующую более глубокому пониманию ее текста. Примером блистательного мастерства подобного рода могут служить работы московского графика Е.А. Ганнушкина, в чьем оформлении вышло немало произведений классической литературы в 1970—1980-х годах в издательстве «Прогресс». В его работах деликатная стилизация орнамента и шрифта, создающая атмосферу определенной эпохи, с которой связано литературное произведение, сочетается с трепетом руки современного художника.
Задержим внимание еще на одном элементе — корешке переплета. Именно корешок мы видим, когда книга стоит на полке, именно по нему мы ее отыскиваем, именно он должен быть главным «фасадом» ее «здания». Тем не менее художники и издатели обычно относятся к корешку с явным пренебрежением. Для большинства художников работа над этим элементом представляется скучным повтором, поскольку имя автора и название указаны на крышке переплета или на первой странице мягкой обложки, где их легче соединить с рисунком или орнаментом. Для художника, невнимательного к удобству читателя, на корешке для таких композиций мало места. В результате мы очень часто видим одинаковые корешки, по которым трудно узнать хорошо знакомую книгу даже у себя дома. К сожалению, ныне вошли в моду плоские твердые корешки целыюбумажных переплетов. Если классический полукруглый корешок при раскрытии книги, сгибаясь, равномерно принимает на себя возникающую при этом нагрузку, то у плоского корешка такая нагрузка ложится на место, где он соединяется со сторонками (крышками) переплета. Такой переплет очень быстро
рвется.
Достижение гармонии конструкции и эстетики является исходным пунктом для анализа книги как комплексного произведения искусства.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Иллюстрация — важнейший элемент книги, хотя оценки ее значимости бывают совершенно разными. В то время как одни художники, например, К-И. Рудаков или Е.А. Кибрик, отдавали предпочтение работе именно над иллюстрациями, другие участники создания книг, среди которых мы также находим немало талантливых художников, отрицали необходимость этого элемента книжного искусства. Среди писателей и литературоведов также нет единства мнений на этот счет.
Все ясно, когда речь идет о технической или учебной литературе, где иллюстрации играют служебную роль. А вот как найти критерии соответствия литературы и изобразительного искусства, как опреде-
331


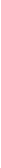

М.В. Добужинским облик книги «Белые ночи» Ф.М. Достоевского. Это издание стало несомненным шедевром книжной графики, в котором все элементы способствуют достижению цели — создают эмоциональную атмосферу, адекватную настроению повести Ф.М. Достоевского. Свидетельством гармонии труда писателя и художника стало появление вполне устоявшегося понятия «Петербург Достоевского — Добужинского».
Кроме достижения духовного соответствия литературы и графики, перед создателями книги стоит не менее острая проблема пластической гармонии издания, цельности его разворотов, естественности положения в них иллюстрации. Вновь используем в качестве примера иллюстрации Е.А. Кибрика, но при этом сравним их с аналогичными по портретным задачам иллюстрациями Д.А. Шмаринова к роману Л.Н. Толстого «Война и мир». Мы видим, что в «портретах» Пьера Безухова или Наташи Ростовой Д.А. Шмаринов также достиг неповторимости, жизненности образов, созданных силой его воображения и таланта рисовальщика. Но эти композиции являются станковыми листами, графическими картинами, выполненными для выставок, а затем репродуцированными в книге, они не создают гармоничного сочетания с «серебром» набора текста и «воздухом белой бумаги». Оставаясь репродукциями, они не выдерживают единства плоскости книжной страницы и всего разворота. Такое впечатление возникает из-за общего серого тона работ, выполненных углем и акварелью, т. е. материалами, уничтожающими «воздух белой бумаги», которым дышат книжные литографии Е.А. Кибрика.
Заметим, что в свое время Д.И. Митрохин требовал «изгнать литографию» из книги, а в дальнейшем такого же мнения придерживался его ученик Г.Д. Епифанов. Подобно им, В.А. Фаворский также считал, что рисунок на камне не способствует достижению пластического единства книжного разворота. Но книжные литографии Е.А. Кибрика доказывают как раз обратное. Точечная фактура, сознательно и активно используемая художником, позволяла передать мягкость форм и их погруженность в атмосферу, в пространство, но пространство не иллюзорное, как в работах Д.А. Шмаринова, а дышащее «воздухом белой бумаги». Общая тональность иллюстраций Е.А. Кибрика к произведениям Р. Роллана, Ш. де Костера, Н.В. Гоголя сродни тональности текстовой полосы. Кроме того, как в текст через абзацные отступы и неполные концевые строки втекает белое из обрамляющих полосу полей, так и в этих иллюстрациях взаимопроникновение белого в иллюстрациях и вокруг них является мощным средством достижения гармоничного положения иллюстрации в книге.
Мы уже говорили о том, что иллюстрации активно влияют на ритмический строй книги. Действительно, кроме того, что они несут смысловую и декоративную нагрузку, вместе с элементами оформления
333
лить меру искренности, а значит субъективности взгляда художник
на произведение совсем другого автора, на героев, придуманных не ху
дожником? Не искажают ли иллюстрации замысел писателя? Эта проблема волновала таких выдающихся художников, педагогов и теоретиков, какА.Н. Бенуа, М.В. Добужинский, Н.А. Тырса, Н.В. Кузьмин, В.А. Фаворский, В.М. Конашевич.
Наиболее простой способ решения — иллюстрировать сюжет, его кульминационные моменты — эти художники справедливо считали ненужным повторением того, что уже сделано писателем. Задача иллюстратора — помочь читателю постичь истинный смысл литературного произведения, развить, сделать более ярким и запоминающимся идейный мир этого произведения.
Одним из способов достойного решения этой проблемы является зримое воплощение образов литературных героев, создание особого рода портретов. Так подходили к искусству книги КИ. Рудаков, ДА. Шмаринов, А.И. Самохвалов. Встречается этот принцип иллюстрирования и в творческом наследии В.А. Фаворского, В.М. Конашеви-ча, В.В. Лебедева, А.Ф. Пахомова. Даже зверюшки Е.И. Чарушина могут быть отнесены к этому же типу «портретных» иллюстраций.
Еще один яркий пример такого подхода — галерея Кибриковских портретов литературных героев: Тиля Уленшпигеля и Ламме Гудзака, Кола Брюньона и Ласочки, Тараса Бульбы и его сыновей. Эти образы, в которых соединились типичность характера с индивидуальностью их трактовки, поражают своей жизненной убедительностью. Этой убедительности художник добивался, подходя к ее достижению с двух сторон. Во-первых, он с исключительным вниманием и бережностью относился к тексту, стремясь максимально проникнуть в замысел писателя. А во-вторых, он старался найти живой прототип для литературного и своего героя. Порой эти поиски правды образа в жизни и в иллюстрациях становились столь мучительными, что доводили художника до истощения, до болезни, зато в результате возникали такие шедевры, как Ласочка. Е.А. Кибрик сделал более тридцати вариантов этой иллюстрации, добиваясь в трактовке образа тончайших психологических оттенков. Когда же, так и не сумев выбрать один из двух последних вариантов, он обратился за помощью к самому Р. Роллану, писатель поступил так: вариант, где Ласочка представляется более озорной, он предложил поместить в книге, а другой, где женский образ выглядит более нежным и трогательным, он повесил у себя в кабинете возле рабочего стола.
Иной принцип иллюстрирования мы видим в книжных работах М.В. Добужинского. Его обложки, титульные развороты, заставки, виньетки, иллюстрации, занимающие целую страницу или ее часть, никогда не вступают в противоречие с сюжетом текста, но и не являются их повторением. В качестве примера приведем созданный 332
натурализма — художник избегает, активно используя фон бумаги. Этот же фон бумаги объединяет в целостную композицию текст, набранный буквами разного размера и начертания, с разной емкостью и длиной строк. Пятна текста, имеющие разную тональную насыщенность, занимают то половину страницы по горизонтали, то по вертикали, то обрамляют рисунок, то сами оказываются в окружении изобразительных элементов.
А теперь сравним подход В.В. Лебедева и Н.А. Тырсы с тем, который демонстрировали их предшественники или художники, работавшие позднее. Для своего рода «чистоты эксперимента» мы выбрали издания, рисунки в которых выполнены на высоком художественном уровне, но авторы которых не придали большого значения ритмическому строю и связанному с ним удобству чтения.
Обратимся сначала к истокам отечественной книжной графики для детей. Характерным образцом первых шагов на пути ее становления служит работа замечательного деятеля русской культуры ЕД. Поленовой, художника и пропагандиста искусства. В серии «Из истории детской книги», которая в 1970—1980-х годах позволила нам вновь увидеть многие шедевры отечественной литературы и графики для детей, в том числе и рассмотренные нами работы В.В. Лебедева и Н.А. Тырсы, была переиздана русская народная сказка «Сын-ко-Филипко», пересказанная и проиллюстрированная ЕД. Поленовой в 1888 году. В книжных композициях автора мы видим не только руку большого мастера декоративно-прикладного искусства, создавшего целое направление в этой области, замечаем не только внимательное отношение к традициям русского народного искусства и к деревенскому быту (при этом без излишней этнографической протокольное™), но и предвосхищение эстетики книжной и станковой графики первой половины XX века — от «Мира искусства» до рисунков
П.В. Митурича: свободный и уверенный рисунок кистью с легкой,
сдержанной подкраской. И тем не менее, несмотря на очевидные художественные достоинства рисунков, мы должны отметить, что каждый разворот делится пополам на текстовую и иллюстративную страницы, а это создает слишком равномерное, монотонное членение книги. Чтение даже одной страницы текста оказывается слишком длительным для детей, которым адресована книга — здесьне хватает пауз.
Напротив, избыток больших пауз мы находим в работе известного современного художника АД. Рейпольского — сказке Ш. Перро «Синяя Борода», выпущенной почти столетие спустя после книги ЕД. Поленовой (в 1985 году) в московском издательстве «Изобразительное искусство». Иллюстрации в этом издании демонстрируют связь с лучшими традициями отечественной и мировой графики. Особенно заметно сходство с книжными литографиями 1930-х годов. Свободное и довольно точное рисование, в котором наряду с активной
335
они служат средством ускорения, замедления или остановки движения в книге. Мы имеем в виду не столько фактическую скорость чтения, сколько ощущение его динамики, в том числе преодоление монотонности и утомительности этого процесса, что особо важно в книге для самых маленьких читателей — для детей. На выполнение этой функции существенно влияет форма пятна иллюстрации — величина и пропорции того места, которое занимает иллюстрация, а также ее общая тональная насыщенность и особенности ее связей с полями. Не меньшее значение имеет последовательность иллюстраций, их разнообразие или одинаковость по размерам и занимаемым местам в развороте. Эта же ритмообразующая функция иллюстраций зависит и от их содержания, способности привлечь и задержать внимание читателя-зрителя. Асдругой стороны, организация ритма «работает» на иллюстрации, на восприятие ихдостоинств, такчто все эти элементы находятся в диалектической взаимозависимости.
Наглядным примером того, как эффективно иллюстрации могут влиять на ритм издания и как ритмическая структура подводит к иллюстрациям, а в конечном счете, как возникает образ книги, служат работы петербургских (ленинградских) мастеров книги для детей.
Так, в «Снежной книге» В.В. Бианки и Н.А. Тырсы, вышедшей в 1926 году в «ЛенГИЗе», которым руководили С.Я. Маршак и В.В. Лебедев, несколько строк текста внизу каждой страницы как бы ' сопровождают иллюстрации, занимающие основную часть разворота. Ребенок, читающий эту трагическую историю о гибели зайца в когтях
филина, не успевает уставать от еще трудного для него процесса чте
ния — необходимые для передышки паузы возникают при перелис
тывании страниц. А характер рисунков — свободных, в основном
светлых, наполненных дыханием бумаги, имеющей теплый отте
нок,— благодаря своей условности позволяет при всей трагичности
не вызывать чувство ужаса. Такая книга, будучи динамичной и увлека
тельной, имеет целью не развлечение, а психологическую подготовку
маленького человека к будущим испытаниям, способствует «закалке»
его души, не делая его при этом равнодушным.
Еще более сложную ритмическую организацию мы видим в книге «Вчера и сегодня», созданной самими руководителями Детского отдела ГИЗа — С.Я. Маршаком и В.В. Лебедевым (которая, правда, вышла в частном издательстве «Радуга» в 1925 году). Это издание было одним из первых не только в нашей стране, но и в мире в том жанре литературы для детей, который можно назвать «познавательная книга». Сравнение керосиновой лампы или свечки с электрическим освещением приобрело здесь — в стихах и картинках — интригующую форму. Наглядности и запоминаемости изображенных предметов способствует почти осязаемая предметность рисунков, которые вместе с тем невозможно упрекнуть в натурализме. Этой опасности — опасности 334



мывавших свои книги и образы, например, всем нам знакомого африканского злодея Бармалея.
Итак, расцвет детской книги в 20—30-х годах XX в. объясняется не только тем, что она стала «внутренней эмиграцией» для многих талантливых писателей и художников того времени, но и тем, что они были соратниками, искренно верившими в социальную значимость их труда, посвященного детям.
Общепризнанной является выдающаяся роль В.В. Лебедева в становлении советской детской книги, которую мы с полным правом может назвать лучшей в мире. Будучи одним из руководителей государственного издательства, впервые в мире начавшего в таком грандиозном масштабе выпускать разнообразную литературу для детей, он непосредственно влиял на становление ее художественного уровня. Привлекая молодых талантливых художников (таких, как А.Ф. Пахо-мов, В.И. Курдов, Е.И. Чарушин, Ю.А. Васнецов), он сам служил им примером, создавая книги, которые, не боясь высокопарности, можно назвать шедеврами книжного искусства. Это и книжка-картинка без текста «Охота», и книжки со стихами С.Я- Маршака «Цирк», «Как рубанок сделал рубанок» и многие другие. Главные принципы, которые отстаивал В.В. Лебедев, заключались в том, что художник должен, во-первых, испытывать активный интерес к самым разным жизненным явлениям, а не замыкаться в проблемах искусства («У художника должен быть свой "роман с жизнью"»,— говорил он), во-вторых, будучи внимательным к собственному интересу к жизни и внушая этот интерес детям, все время помнить об особенностях детского восприятия, для чего художнику необходимо постоянно вспоминать себя в детстве. Несмотря на свою жесткость редактора, В.В. Лебедев помог младшим коллегам, ставшим его учениками, осознать себя и найти свою творческую индивидуальность.
Другой замечательной личностью был В.М. Конашевич. Он также не только создал целую «библиотеку» книг для детей (среди которых всем нам памятная «Муха-Цокотуха» К.И. Чуковского), не только воспитал немало настоящих мастеров иллюстрирования и особенно оформления, среди которых упоминавшийся Г.Д. Епифанов и ВД. Двораковский, но и оставил нам ценнейшие практические советы по созданию книг для детей.
Завершая беглое рассмотрение основных принципов создания художественного облика книги, а значит, и критериев его анализа, задержим внимание читателя на одном, казалось бы, частном явлении.
Во многих странах в последнее время модным увлечением стала уникальная или малотиражная книга. В технике автолитографии не только проиллюстрировал, но и написал текст целого ряда классических произведений мировой литературы известный петербургский художник, выпускник «худграфа» (института — университета
22-4438 337
подцветкой сохраняется белая бумага, использование точечной фактуры и белого штриха вызывают ассоциации с работами Н.А. Тырсы и К.И. Рудакова (прежде всего стеми их иллюстрациями, которые были выполнены для взрослых читателей). Здесь даже есть попытка найти убедительные образы героев, в чем, как мы знаем, особенно преуспел Е.А. Кибрик. Но если мы обратимся к анализу этой работы А.Д. Ре-польского с точки зрения целостности и ритмического строя книги, то должны констатировать очевидные недостатки. Так, нельзя назвать удачным соседство в одном развороте полосной иллюстрации навылет (без полей) с текстом, обрамленным очень широкими полями, украшенными тонким орнаментом. Увлечение разворотными иллюстрациями — иллюстрациями без полей и без текста, этакими картинами, вставленными в книгу, вообще неоправдано. Такие иллюстрации прерывают плавность движения в книге, останавливая его слишком энергично и надолго. Ребенок прочитывает начало предложения, а перевернув страницу, не может дочитать его продолжение. Вместо этого он начинает, по замыслу художника и редактора, рассматривать очень большую картинку, которую к тому же он не в силах удержать в руках, а на коленях или даже на столе значительная часть иллюстрации претерпевает перспективные искажения из-за того, что либо страницы изгибаются, либо их верх и низ находятся на слишком разном расстоянии от глаз маленького читателя. Преодолев эти сложности и рассмотрев все-таки интересный рисунок, ребенок переворачивает страницу и видит конец предложения, начало которого он давно забыл.
К сожалению, с некоторых пор разворотные иллюстрации стали модным увлечением, что свидетельствует о возврате станковизма в книжную графику.
Очевидно, что особенно значительная роль принадлежит художнику в создании детской книги — всей книги, всех ее элементов. Работа настоящего художника-книжника является не только и не столько сопровождением или дополнением работы писателя. Она значительно развивает тему книги. Главное же в том, что в хорошей детской книге труд писателя и труд художника составляют единое целое.
Шедевры искусства для детей возникали по-разному: то идея книги сначала возникала у писателя, а затем ее подхватывал художник, то, наоборот, инициатива принадлежала художнику, который первым увидел внутренним взором образ героя и даже придумал фабулу, сюжет книги, а писатель довел словесную часть до уровня подлинной литературы. Важно, что успех приходил тогда, когда мастера были единомышленниками, соратниками, такими, как С.Я- Маршак и В.В. Лебедев, К.И. Чуковский и В.М. Конашевич, Б.С. Житков и Н.Ф. Лапшин, В.В. Бианки и В.И. Курдов и другие блестящие мастера книги для детей. Первым же таким «тандемом» писателя и художника было сотрудничество К.И. Чуковского и М.В. Добужинского, вместе приду-336