
- •Основы коллизионного права а.В. Асосков
- •Часть I. Основные подходы к решению коллизионной проблемы и
- •Глава 1. Понятие принципов и нормообразующих факторов
- •1.1. Дискуссия о природе и причинах применения
- •1.2. Понятие и классификация принципов и
- •Глава 2. Классификация подходов к решению коллизионной проблемы
- •2.1. Общая характеристика материально-правового подхода и
- •2.2. Общая характеристика разнонаправленного подхода
- •2.3. Общая характеристика однонаправленного подхода
- •Глава 3. Разнонаправленный подход и свойственные ему нормообразующие факторы
- •3.1. Основные характеристики разнонаправленного подхода
- •3.1.1. Основные элементы учения Савиньи
- •3.1.2. Развитие разнонаправленного подхода
- •3.1.3. Поддержка и критика разнонаправленного подхода
- •3.2. Нормообразующие факторы,
- •3.2.1. Основы теории Кегеля: понятие коллизионно-правовой
- •3.2.2. Классификация коллизионных нормообразующих факторов
- •3.2.3. Взаимодействие различных групп
- •3.2.4. Критика теории нормообразующих факторов г. Кегеля
- •3.2.5. Альтернативные теории о нормообразующих факторах,
- •Глава 4. Однонаправленный подход и свойственные ему нормообразующие факторы
- •4.1. Теория статутов как первый исторический пример
- •4.1.1. Зарождение конфликтного подхода:
- •4.1.2. Основные характеристики и разновидности
- •4.1.3. Критика теории статутов
- •4.2. Разновидности однонаправленного подхода
- •4.2.1. Разновидности однонаправленного подхода,
- •4.2.2. Разновидности однонаправленного подхода, делающие
- •4.3. Невозможность признания современных односторонних
- •4.3.1. Различия между однонаправленным подходом и
- •4.3.2. Классификация современных односторонних
- •4.3.3. Различия между однонаправленным подходом и
- •4.4. Проявления однонаправленного подхода
- •4.4.1. Развитие американского коллизионного права
- •4.4.2. Основные характеристики
- •4.4.3. Анализ техники применения теории Бр. Карри
- •4.4.4. Теория lex fori а. Эренцвейга
- •Часть II. Тенденции развития современного
- •Коллизионного права, их влияние на подходы к решению
- •Коллизионной проблемы и систему подлежащих учету
- •Нормообразующих факторов
- •Глава 5. Сверхимперативные нормы как проявление однонаправленного подхода в современном международном частном праве
- •5.1. Понятие сверхимперативной нормы
- •5.2. Сверхимперативные нормы - разнонаправленный или
- •5.3. Теории об условиях применения различных групп
- •5.3.1. Теория строго территориального характера
- •5.3.2. Теория специальной связи
- •5.3.3. Теория применения сверхимперативных норм
- •5.3.4. Теория учета сверхимперативных норм
- •5.3.5. Теория специальных двусторонних коллизионных норм
- •5.4. Возможность отнесения к разряду сверхимперативных норм
- •Глава 6. Тенденция материализации коллизионного права. Учет материально-правовых нормообразующих факторов в ходе формирования коллизионных норм
- •6.1. Тенденция материализации коллизионного права
- •6.2. Условия, при наличии которых возможен учет
- •6.3. Механизмы учета материальных нормообразующих факторов
- •6.4. Множественность коллизионных привязок
- •6.4.1. Альтернативные коллизионные нормы
- •6.4.2. Субсидиарные коллизионные нормы
- •6.4.3. Кумулятивные коллизионные нормы
- •6.4.4. Дистрибутивные коллизионные нормы
- •6.4.5. Комбинированные привязки
- •6.4.6. Наложение коллизионных норм
- •6.5. Критика тенденции материализации
- •6.6. Совместимость учета материальных
- •6.7. Опыт построения систем, основанных на сочетании
- •6.7.1. Система в. Венглера
- •6.7.2. Система п. Нойхауза
- •6.7.3. Система э. Читхэма и в. Риза
- •6.7.4. Система р. Лефлара
- •6.7.5. Система Второго Свода конфликтного права сша
- •6.7.6. Сравнение европейских и американских систем
- •6.8. Выводы относительно наиболее оптимальной системы
- •Глава 7. Наиболее тесная связь как проявление современной тенденции гибкого коллизионного регулирования
- •7.1. Предпосылки для возникновения тенденции
- •7.2. Функции критерия наиболее тесной связи
- •7.2.1. Наиболее тесная связь как коллизионный принцип
- •7.2.2. Наиболее тесная связь как генеральная или
- •7.2.3. Наиболее тесная связь как корректирующая оговорка
- •7.3. Гибкое коллизионное регулирование как смещение
- •7.4. Подходы к раскрытию
- •7.4.1. Коллизионный (территориальный) подход
- •7.4.2. Субъективный подход
- •7.4.3. Материально-правовой подход
3.2.5. Альтернативные теории о нормообразующих факторах,
свойственных разнонаправленному подходу
С учетом указанной критики теории Г. Кегеля, которая положила начало дискуссии по поводу системы нормообразующих факторов, свойственных разнонаправленному подходу, отдельные ученые попытались предложить собственные альтернативные теории. Следует выделить следующие основные черты наиболее заметных теорий.
А. Людериц, поставив на первое место принцип автономии воли сторон, затем выделяет три группы интересов участников отношений в сфере коллизионного права:
- интерес в применении знакомого права, т.е. того права, о котором лицо лучше всего информировано (Ermittlungsinteresse);
- интерес в применении "близкого" права, т.е. того права, в чьей сфере действия лицо находится (Anpassungsinteresse);
- интерес в продолжительном
применении одного права
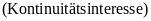 <156>.
<156>.
--------------------------------
<156> См.: im Parteiinteresse. S. 31 - 54. Краткое изложение идей Людерица см. также в мюнхенском комментарии к Вводному закону к ГГУ ( Kommentar zum Gesetzbuch. Band 10 zum Gesetzbuche (Art. 1-46) Internationales Privatrecht. S. 65).
Достаточно сложную систему принципов международного частного права выстраивает в своей работе Я. Долингер (J. Dolinger) <157>. Он делит все принципы на следующие три группы:
--------------------------------
<157> См.: Dolinger J. Evolution of Principles for Resolving Conflicts in the Field of Contracts and Torts // Recueil des Cours / Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Vol. 283. 2000. P. 239 - 271.
- принципы, имеющие негативную природу (principles of negative nature). К числу таких принципов автор относит применение отсылки или отказ от нее, запрет обхода закона, осуществление квалификации по lex fori или lex causae, принцип защиты приобретенных прав, а также принцип, в соответствии с которым решается предварительный вопрос;
- принципы, имеющие позитивную природу (principles of positive nature), среди которых автор помещает автономию воли сторон, применение привязки lex rei sitae для недвижимости, применение принципа lex favoritatis, а также принцип справедливости (principle of equity);
- руководящие принципы (guiding or policy principles), в разряд которых попадают принцип эффективности (principle of effectivity), который в основных чертах совпадает с охарактеризованным выше принципом исполнимости из группы "интересов правопорядка" Г. Кегеля, принцип гармонии (principle of harmony), который является идентичным с принципом внутреннего единообразия решений Г. Кегеля, а также принцип единообразия (principle of uniformity), в основном повторяющий принцип международного единообразия Г. Кегеля.
О. Кан-Фройнд предлагает ориентироваться всего на три общих правила:
- правило простоты (rule of simplicity);
- реализм (realism). В сферу действия данного правила автор включает склонность судов к применению собственного права (homeward trend), а также правило эффективности (rule of effectiveness), которое в основных чертах совпадает с охарактеризованным выше принципом исполнимости из группы "интересов правопорядка" Г. Кегеля;
- гибкость (flexibility) <158>.
--------------------------------
<158> Kahn-Freund O. Op. cit. P. 320 - 324.
О.Н. Садиков выделяет пять "обстоятельств правового характера, которые влияют на содержание и сферу применения отдельных коллизионных привязок независимо от особенностей отдельных правовых систем" <159>:
--------------------------------
<159> Международное частное право: современные проблемы: В 2 кн. М., 1993. Кн. 1. С. 154 - 155.
- привязка коллизионной нормы не может быть произвольной и в решающей степени зависит от содержания ее объема. В качестве одного из проявлений данного правила автор рассматривает все более широкое использование коллизионной формулы, которая отсылает к праву страны, с которой данное отношение имеет наиболее тесную связь;
- использование определенных видов коллизионных привязок только к определенным группам отношений, за рамками которых применение таких привязок может вести к нецелесообразным и неэффективным приемам правового регулирования;
- установление для отношений акцессорного характера, как правило, той же коллизионной привязки, что и для главного (основного) отношения;
- отсутствие чрезмерной дифференциации объема коллизионной нормы, ведущей к расщеплению применимого права;
- отсутствие широкого применения коллизионной привязки к праву суда.
Следует констатировать, что охарактеризованные выше альтернативные теории не получили широкого признания и практического распространения. Очевидно, причины этого необходимо искать в том, что данные теории либо имеют еще более абстрактный и далекий от реальной правотворческой и правоприменительной деятельности характер (как, например, правила О. Кан-Фройнда), либо, наоборот, представляют собой набор разнопорядковых и в значительной мере случайно подобранных коллизионных правил, многие из которых никак не могут претендовать на статус нормообразующих факторов универсального характера.
Случайный характер подбора соответствующих правил особенно ярко виден на примере теории Я. Долингера, который в самом начале своей работы рассуждает о том, что залог успеха исследователя, анализирующего принципы коллизионного права, заключается в четком размежевании принципов и обычных (рядовых) коллизионных норм <160>. С этой точки зрения остается абсолютно непонятным, почему автор относит к числу коллизионных принципов привязку к месту нахождения вещи для отношений по поводу недвижимых вещей, однако категорически отказывается признавать такой же статус за привязками к гражданству физического лица или месту совершения сделки. Равным образом сложно понять, как автор предлагает учитывать в специальных коллизионных нормах юридико-технические способы решения таких проблем, как отсылка, квалификация и предварительный вопрос. Возникает вопрос о том, почему автор, следуя данной логике, не включил в число коллизионных "принципов" все институты общей части международного частного права, включая проблемы адаптации, мобильного конфликта, установления содержания иностранного права.
--------------------------------
<160> См.: Dolinger J. Op. cit. P. 214 - 226.
Наконец, главным недостатком описанных теорий является то, что предлагаемые в них нормообразующие факторы не образуют сбалансированной системы, которая могла бы претендовать на универсальное применение для различных специальных институтов коллизионного права.
В связи с этим нельзя считать случайным то, что теория Кегеля продолжает оставаться доминирующей в немецкоязычной коллизионной доктрине <161>.
--------------------------------
<161> См. признание правильности основных постулатов теории Г. Кегеля, в частности, в след. работах: Vischer Fr. General Course on Private International Law. P. 93; Kommentar zum Gesetzbuch. S. 60; Junker A. Internationales Privatrecht. , 1998. S. 80 - 86; Baum H. A.a.O. S. 230.
Вместе с тем значительный интерес представляют собой такие теории, которые, не отвергая постулат Г. Кегеля о существовании особой "коллизионной справедливости" и специфических нормообразующих коллизионных факторов, не считают возможным полностью игнорировать "материально-правовую справедливость" и связанные с ней нормообразующие материально-правовые факторы. К числу таких теорий следует отнести теорию В. Венглера из его ранних работ, теорию П. Нойхауза, а также теории ряда американских авторов <162>.
--------------------------------
<162> Причины, породившие интерес коллизионной доктрины к нормообразующим факторам материально-правового характера, а также содержание соответствующих теорий будут подробно рассмотрены в главе 6 настоящей работы, посвященной современной тенденции материализации коллизионного права.
Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Использование разнонаправленного подхода предполагает выделение особой группы нормообразующих коллизионных факторов. При построении системы таких нормообразующих факторов наибольшее распространение получила теория немецкого коллизиониста Г. Кегеля, развитая впоследствии его учеником Кл. Шуригом.
Данная теория выделяет три вида нормообразующих коллизионных факторов, связанных с интересами различных групп лиц в сфере коллизионного регулирования:
- в основе первой разновидности находятся интересы отдельных субъектов (индивидуальные коллизионные интересы). Данным интересам в наибольшей степени соответствует применение персональных формул прикрепления (права гражданства или места жительства физического лица, места учреждения юридического лица или фактического нахождения его основного органа);
- вторая разновидность учитывает так называемые интересы оборота, т.е. интересы всех третьих лиц, которые потенциально могут стать участниками частноправовых отношений на территории того или иного государства. Эти интересы направлены на применение коллизионных привязок, которые относятся к территориальным формулам прикрепления (например, место нахождения вещи) или формулам прикрепления, основанным на использовании места совершения юридических актов (например, место совершения сделки или место причинения вреда);
- третью разновидность составляют различные факторы, связанные с эффективным функционированием правопорядка и преимущественно представляющие собой конкретизацию принципов общеправового характера (международное и внутреннее единообразие решений, правовая определенность и предвидимость результата, склонность к применению собственного материального права, исполнимость выносимых решений).
Как и в отношении исходной для разнонаправленного подхода теории Савиньи, наиболее серьезная критика теории нормообразующих факторов Г. Кегеля основана на невозможности игнорирования нормообразующих факторов, связанных с материально-правовыми нормами и материальным результатом спора.
