
- •40 Недель из жизни женщины
- •1. Первые месяцы жизни
- •2. Его уже не называют эмбрионом
- •3. Если разобрать его на части и...
- •5. Чудеса превращений
- •2. Диагнозы до рождения
- •3. По законам менделя
- •4. С кем мы в кровном родстве?
- •5. Макаки резус и желтые младенцы
- •6. Генетика человека
- •7. «Родила царица в ночь...»
- •1. В дом входит подруга
- •3. На меня наступает женщина
- •4. На рынке
- •7. Драка
- •8. Смерть директора
- •9. У подъезда
- •1. Рыбка в туалете
- •40 Недель из жизни женщины
7. «Родила царица в ночь...»
В 1886 году английский невропатолог Л. Даун впервые описал врожденную болезнь, поражающую, в среднем, одного из 600 новорожденных. Больные дети - вялые, с толстым, неповоротливым языком, расплющенным носом, узкими щелочками глаз. Часто у них врожденные пороки сердца и всегда слабоумие. Значительная часть из них - контингент психиатрических лечебниц.
По имени врача, описавшего болезнь, ее до сих пор называют синдромом Дауна. Долго болезнь Дауна считали результатом повреждения плода во время внутриутробного развития. Это оказалось неверным - истинную причину болезни открыл французский ученый Жером Лежен. Он посмотрел под микроскопом множество клеток, взятых у больных детей, и обнаружил, что в них не 46, а 47 хромосом.
Это может быть потому, что в организме женщины при образовании яйцеклетки во время мейоза расхождения какой-либо пары хромосом не произошло. И тогда в яйцеклетку попадут две одинаковые хромосомы. В данном случае -
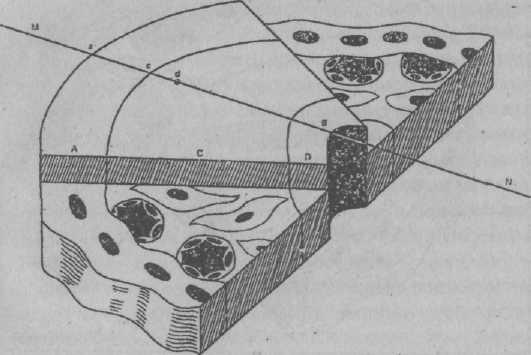
Схема плацентарного барьера в конце 40-й недели внутриутробного развития. Кровеносные сосуды значительно приближены к материнской крови, так как плацентарный барьер истончен. Отсутствует слой В, а все сосуды лежат в зоне, максимально приближенной к поверхности ворсинок.
хромосомы 21-й пары. После оплодотворения их будет уже не две, а три, так как добавится 21-я хромосома отца. Поэтому нарушение еще называют трисомией 21 или нерасхождением по 21-й хромосоме. С возрастом матери повышается риск рождения «дауна»: заметили, что у женщин от 19 лет до 21 года на 2500 детей рождается один «даун», а у женщин 45 лет - один на 40 детей. Естественным было предположить, что сдвиги в механизме мейоза зависят от гормональных изменений, наступающих с возрастом в организме женщины. Но сейчас известны другие причины. Могут быть нарушены первые этапы дробления зиготы, и тогда одна 21-я хромосома присоединяется к другой (к 15-й или 22-й). Это явление называют транслокацией хромосом. В первом случае (то есть когда в яйцеклетке лишняя 21-я хромосома) болезнь Дауна не наследуется, хотя мать может иметь несколько «даунов». Во втором случае аномалия будет передаваться из поколения в поколение, дети «даунов» окажутся их точной копией, но не все, как это выяснил анализ
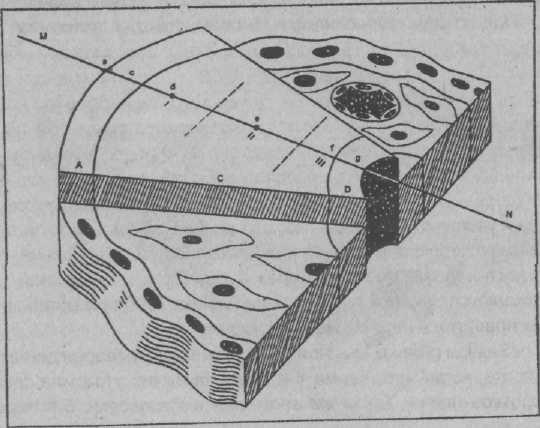
Схема плацентарного барьера при гибели плода до рождения. Нарушено развитие хориапьных ворсинок. Кровеносные сосуды плода расположены на значительно большем расстоянии, чем в норме, так как имеются не только в зоне I, но и во II и III.
родословной семьи с синдромом Дауна, обусловленным транслокацией хромосом1.
«Дауны» живут по нескольку десятков лет. Лечение их успеха не приносит. Иногда их удается научить читать и писать.
Если в 21-й паре хромосом одна больше другой (это бывает, когда одна из хромосом потеряла значительную часть своего плеча2), развивается злокачественная болезнь крови -миелоидная лейкемия.
Нерасхождение по 18-й хромосоме (синдром Эдвардса) всегда смертельно. Дети умирают через несколько месяцев после рождения. Они рождаются со множеством дефектов во внутренних органах. У них маленькие глаза, неправильно расположенные уши, короткая грудина, врожденные пороки сердца, недоразвитая скелетная мускулатура, отсутствие шеи, дефекты пальцев. С синдромом Эдвардса рождается один ребенок из 6500. Девочки с синдромом Эдвардса рождаются в два раза чаще, чем мальчики. Как в случае трисомии 21, трисомия 18 зависит от возраста матери: чем старше мать, тем больше вероятность нерасхождения 1-8-й пары хромосом.
Под названием «синдром Патау» известна трисомия 13 (нерасхождение по 13-й паре хромосом). Эта аномалия бывает у одного новорожденного из 4600. У детей при синдроме Патау не срастаются верхняя губа и верхнее небо. (При нормальном развитии эти части закладываются симметрично с двух сторон и срастаются посредине.) В народе такие аномалии развития издавна называют «волчьей пастью» и «заячьей губой». Они сопровождаются врожденными пороками сердца и увеличением числа пальцев до шести (полидактилией). Помимо перечисленных, встречаются и другие нарушения - в развитии ушей, половых желез и т. д. Дети с трисомией 13 рождаются с малой массой тела (менее 2500 г) и погибают, как правило, в первые месяцы жизни.
«Заячья губа» и «волчья пасть» бывают у новорожденных и тогда, когда хромосома 4-й пары частично утратила свое короткое плечо. Такая же аномалия в хромосоме 5-й пары
1Ш. Ауэрбах, Проблемы мутагенеза. М„ Мир, с. 424, схема, с. 425. 1 Плечи хромосомы - расстояния от точки, к которой к хромосоме прикрепляется нить центриоли во время деления клетки до ее конца.
приводит к появлению синдрома «кошачьего крика» - этот специфический крик возникает при недоразвитии голосового аппарата ребенка.
Интересно, что если, кроме двух обычных хромосом 13-й пары, есть добавочное верхнее плечо от третьей 13-й хромосомы, то это не приводит к патологии.
В литературе сообщалось о канадской семье, в которой молодая женщина в 21 год имела двоих детей и ожидала третьего. У одного из детей была полидактилия, и мать обратилась к врачам с просьбой поставить диагноз до рождения, так как беспокоилась, что третий ребенок родится с таким же уродством. При обследовании оказалось, что развивается девочка, у которой плюс к паре хромосом 13 есть верхнее плечо такой же 13-й хромосомы. Добавочное плечо 13-й хромосомы было обнаружено в клетках матери и бабушки (по материнской линии). Так как и мать, и бабушка были здоровы, а генетикам было известно уже более ста случаев, когда у совершенно здоровых людей обнаруживали такое же нарушение в хромосомном аппарате, врачи порекомендовали не прерывать беременности.
Родилась здоровая девочка. Когда ей исполнилось 10 месяцев, ее клетки исследовали и нашли в них добавочное плечо 13-й хромосомы, не причинившее ей никакого вреда.
Такие наблюдения заставляют задуматься: очевидно, медицинская генетика еще далеко не все знает. На пути от генов до признаков скрыто много неожиданного и неизвестного...
Множественные уродства бывают у детей, в клетках которых обнаруживается аномальная 18-я хромосома, утратившая свое длинное или короткое плечо. Аномалии лю-

Схематическое изображение двух хромосом из разных пар после дифференциального окрашивания. Видны чередующиеся светлые и темные диски разной ширины, создающие специфику для каждого плеча хромосомы.
бой пары хромосом от 1-й по 22-ю, как правило, смертельны, и развитие плода самопроизвольно прерывается (спонтанный, или самопроизвольный, аборт).
Из общего количества беременностей 30-40 процентов заканчивается спонтанным абортом, и изучение хромосом в тканях абортусов (плодов, прекративших развитие) показало, что почти половина из них имеет аномалии в хромосомах. Чаще всего среди них обнаруживаются трисомии. Их опознают с помощью дерматоглифики (нерасхождения по 21-й, 18-й и 13-й хромосомам меняют рисунки кожи пальцев рук). Встречаются также добавочные наборы хромосом - трипло-идные или тетраплоидные клетки, отсутствие одной Х-хро-мосомы. Другие нарушения в хромосомном аппарате встречаются реже.
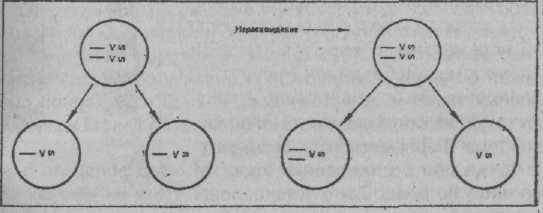
Схематическое изображение перераспределяющихся хромосом при мейозе. Слева: в норме в каждой зрелой половой клетке остается по одной хромосоме из каждой пары. Справа: иллюстрация к нерасхождению хромосом, когда в зрелой половой клетке появляются обе хромосомы из какой-либо пары
Изменения в числе половых хромосом не грозят жизни новорожденного, а проявляют себя иначе. Если в яйцеклетке произошло нерасхождение по Х-хромосоме, то после оплодотворения мужской гаметой с Y-хромосомой в ней будет не 46, а 47 хромосом, причем последняя пара будет представлена тройкой XXY. Такое сочетание половых хромосом определит у новорожденного синдром Клайнфельтера, редкое заболевание, встречающееся только у мужчин, да иначе и не может быть, так как Y-хромосома определяет мужской пол. (Правда, ее определяющая роль при избыточных Х-хромосомах не так сильна.)
У больных синдромом Клайнфельтера половая система недоразвита. У них высокий голос, женоподобные черты, интеллект снижен. Все они бесплодны. Обычно в детстве они ничем не отличаются от своих нормальных сверстников. Различия начинают проявляться в переходный период жизни. Такие юноши могут учиться, получить специальность и быть полезными обществу.
При образовании яйцеклеток нерасхождение по Х-хромо-сомам бывает у женщин от 35 лет и старше.
Другие варианты этих нарушений могут показаться почти фантастическими: 48 хромосом, когда у мужчин вместо обычных XY каждой вдвое больше: XXYY. Или 49- 50 хромосом: XXXXY или XXXXYY. В этих случаях, помимо признаков, характерных для синдрома Клайнфельтера, добавляются еще и уродства, интеллект снижен значительно больше. Люди с набором хромосом XYY не имеют уродств, но их отличает слабоумие. Все эти нарушения касаются мальчиков.
Девочки тоже могут рождаться с измененным числом половых хромосом. В 1925 году Н. А. Шерешевский впервые описал больную - низкорослую девочку с недоразвитием половых желез и уродством шеи, В 1938 году Тернер описал такую же больную. Поэтому болезнь получила название синдрома Шерешевского - Тернера.
Позже при исследовании хромосомного аппарата аналогичных больных было установлено, что в их клетках отсутствует одна из Х-хромосом. Такие больные всегда бесплодны, но интеллект у них почти не страдает, они учатся, получают специальность.
Если у новорожденной вместо обычных двух три Х-хро-мосомы, то лишняя Х-хромосома никак себя не проявляет, не вызывает патологий, но когда число Х-хромосом возрастает вследствие двух или трех добавочнь^ рождаются девочки-уроды. Добавочные Х-хромосомы могут появиться в клетках не только в результате нерасхождения при мейозе, но и при переносе целой хромосомы или ее части на хромосому другой пары. Такие транслокации могут быть наследственными.
Иногда, изучая хромосомный набор в разных клетках тела человека, исследователь видит, что их там разное число. Одни клетки содержат норму -46 хромосом, другие - 45 или 47. Получается своеобразная мозаика хромосомных комплектов, поэтому само явление назвали мозаицизмом. Оно еще недостаточно изучено.
ПСИХОЛОГИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Ж.В. Завьялова
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПЕРИОДА
БЕРЕМЕННОСТИ И ПРОЦЕССА РОДОВ*
По данным Минздрава России в роддомах растет неблагоприятная ситуация по увеличению патологии в родах. С другой стороны, по проведенному нами опросу на выборке более 100 беременных женщин и врачей-гинекологов выявлено повышенное беспокойство женщин перед предстоящими родами, страхи и волнения, потребность в помощи со стороны при подготовке к родам. Зачастую женщины имеют недостаточное доверие к врачам-акушерам и сильно беспокоятся о благополучии будущего ребенка. Все это ведет к хроническому стрессовому состоянию беременных женщин.
Подобная обстановка говорит о необходимости психологической помощи женщинам в период беременности. С другой стороны, невозможно достаточно эффективно и квалифицированно оказать психологическую помощь, работая с женщинами изолированно и не включая в рассмотрение их супругов. Ожидание и подготовка к появлению ребенка -это важный период в жизни семьи в целом. Муж также имеет свое место и уникальную роль как во время беременности, так и в родах. По результатам опроса 50% женщин высказываются за участие мужа в родах. В роддомах внедряется практика присутствия мужа на родах. Все это заставляет нас рассматривать данную проблему в русле семейного подхода, согласно которому работу по оказанию психологической помощи в период беременности и родов необходимо проводить с супружескими парами.
* Ж.В. Завьялова. Психологическая составляющая периода беременности и родов. М. МГУ. 1995. Рукопись. ВИНИТИ.
На основании результатов современных исследований в акушерстве и гинекологии, в npe-и перинатальной психологии можно сказать, что данная проблема до конца не разработана, имеющиеся данные носят фрагментарный характер. В России проблематика родов и периода беременности изучалась с позиций медицины. Несмотря на полученные уникальные результаты о психологической составляющей родового процесса, в психологии не было проведено методологически обоснованного научного исследования. Зарубежные исследования по данной теме скорее отвечают практическим нуждам европейских стран и не учитывают своеобразия акушерства в нашей стране. Все это явилось побудительными причинами данного исследования.
Была сформулирована следующая цель исследования: изучить психологические особенности семейных пар в период беременности и разработать программу психологической помощи супружеским парам, готовящимся к появлению ребенка.
За основные теоретические положения, которые послужили отправным пунктом исследования, были взяты выводы И.З.Вельвовского о нейропсихической составляющей родового процесса и об основных психологических закономерностях в период беременности и в родах. Были учтены как разработанная Вельвовским методика психопрофилактической подготовки к безболезненным родам, так и метод дородовой подготовки и ведения родов по И.Одену.
И.З.Вельвовским, К.И.Платоновым и коллективом научных сотрудников под их руководством было доказано, что в период беременности происходят изменения в эмоциональной сфере женщины в сторону повышения лабильности. Женщина становится более восприимчивой с одной стороны и более подверженной смене настроения с Другой стороны. К концу беременности за несколько дней до родов в мозговых процессах беременной происходят следующие изменения. Реактивность коры головного мозга значительно уменьшается вплоть до полного ее торможения. Во время всей беременности в подкорковых образованиях увеличивается явление возбуждения, а в коре -увеличивается явление индуцированного торможения. К концу же беременности за 4-7 дней
до родов торможение приобретает характер инертного, застойного типа /4,7/. Кроме того, на материале более 8000 женщин Вельвовский и группа ученых экспериментально доказали, что в родах значительное место принадлежит психологической составляющей. Так, благодаря гип-носуггестивной психотерапии удавалось вылечивать токсикозы беременности, изменять положения плода, сдвигать плаценту для нормализации ее положения. Характерно, что столь замечательные результаты зависели не только от гипносуггестолога, но и от женщины, ее настроя и отношения к беременности. При нежеланной беременности гипнотерапия не оказывала влияния /1/.
Выводы М.Одена также говорят о значительном влиянии психологического состояния роженицы на сам процесс родов. Психологическая зажатость роженицы оказывает отрицательное влияние на родовой процесс тем, что мешает роженице выйти на особый уровень состояния сознания, назовем его медитативно-интуитивным, при котором тело женщины «знает», как себя вести в родах, т.е. в каждый момент времени роженица ведет себя оптимальным для себя способом. Чтобы достичь такого состояния, женщине надо еще до родов вести себя естественно и раскрепощенно, избавиться от зажимов и страхов, успокоиться. От акушеров, принимающих роды, требуется не мешать роженице, не вмешиваться без особых причин и предоставить рожающей женщине полную свободу. Окружающая обстановка также оказывает влияние на родовой процесс, т.к. влияет на психологическое состояние роженицы. Особое внимание Оден уделяет участию мужа в родах. В настоящее время становится распространенным присутствие, а иногда и активное участие мужа в родах жены. Однако из 20-летней практики и клинических наблюдений М.Одена следует, что участие мужа в родах неоднозначно сказывается на последующих супружеских отношениях. Семейные отношения улучшаются лишь в том случае, если мужчина идет на роды с позитивным моральным настроем и психологически подготовленным. В противном случае роды действуют как проявляющий фактор на супружеские отношения, выявляя и обостряя скрытые конфликты и ухудшая семейные отношения.
Учитывая вышеперечисленные научные сведения, а также данные о дородовом формировании сенсорных анализаторов ребенка и о способности эмбриона запечатлевать всю поступающую к нему через сенсорные каналы информацию, были выделены следующие задачи исследования: 1 -разработать психологические тренинги для супружеских пар, готовящихся к рождению ребенка; 2 -изучить личностные особенности беременных женщин, а также психологические особенности супружеских пар в дородовый период; 3 -показать характер влияния дородовой подготовки на психологическое состояние женщины в период беременности и в процессе родов.
При разработке психологических тренингов (реализация первой поставленной задачи) в качестве методологической основы были взяты основные положения гуманистической психологии и психотерапии. Они включают следующее. Восприятие клиента не как пациента, а как личности с неограниченным творческим потенциалом. Недирективное ведение психотерапевтических занятий, следование за клиентом в помощи решения его психологических проблем. В связи с этим работа психолога заключается в создании условий наиболее эффективных для предоставления их клиенту. Степень использования этих условий зависит целиком от клиента. От психолога же требуется быть эмпатичным и аутентичным.
Цель цикла психологических тренингов состояла в подготовке супружеских пар к предстоящим родам. Задачи включали в себя раскрепощение беременных путем повышения их уверенности в себе, снятия страхов и волнений, осведомленности о родах; формирование взгляда на роды как на здоровый естественный процесс, являющийся не медицинской проблемой, а частью сексуальной и эмоциональной жизни пары; эмоциональное вовлечение мужчин в проблемы беременности и родов; предоставление каждой семейной паре возможности самостоятельно выбрать метод и способ предстоящих родов; психологическая помощь в укреплении супружеских взаимоотношений.
Программа психологических тренингов включала 12 занятий с супружескими ларами по 2 часа 2 раза в неделю. Каждое занятие состояло из 3-х частей; теоретической, практи-
ческой и коммуникативной. Все 3 части не имели резкого разделения одна от другой, а плавно переходили одна в другую. Теоретическая часть состояла из предоставления необходимой информации о родах и ребенке, о возможное-. тях беременной женщины и пары в целом вести здоровый образ жизни и имела вид не столько лекции, сколько ответов на вопросы в кругу. Коммуникативная часть состояла из психотерапевтического общения с семьями, обсуждения их нужд и проблем, эмпатического выслушивания их волнений и страхов. На практической части занятия давались специальный комплекс упражнений для беременных, релаксиру-ющий гетеротренинг, медитации на создание и укрепление эмоциональной связи с еще нерожденным ребенком у будущих родителей. Кроме того, одно занятие было посвящено специально семейному тренингу, одно - телесному тренингу, направленному на раскрепощение тела, одно занятие -акватическая подготовка в бассейне либо сауна.
Следует отметить специфический смысл, вкладываемый в понятие роды, при проведении занятий с супружескими парами. Согласуясь с положениями гуманистической психологии и современными научными сведениями по данной проблеме, роды рассматривались как естественный природный процесс и как интегральная часть сексуальной и эмоциональной жизни пары в целом. Мужчине отводилась равноправная с женщиной позиция и свое место, своя уникальная роль в родах. Роды рассматривались в позитивном ключе восприятия. Вся информация о родах на занятиях давалась с ориентацией на естественные благополучные роды и имеющиеся возможности для этого у каждой супружеской пары. Подобная концепция родов уже несла в себе психотерапевтический эффект.
Для реализации двух других вышеназванных задач исследования были включены в рассмотрение семейные пары, готовящиеся как к родам в роддоме, так и к водным родам на дому. В связи с этим были набраны 2 экспериментальных и одна контрольная группы по 30 пар каждая. Группы однородно подобраны по возрасту, социальному положению и количеству детей. Возраст женщин от 19 до 30 лет, в среднем 22-25 лет, возраст мужей сильно не отличался от
возраста жен. Во всех группах преобладали первородящие. Экспериментальные группы проходили программу дородовой психологической подготовки, описание которой было дано выше, контрольная группа - нет. 1-ая экспериментальная группа - семейные пары с первичной мотивацией на роддом, но имеющие возможность выбора любого варианта родов. 2-ая экспериментальная группа - семейные пары с изначальной мотивацией на домашние водные роды.
Семейные пары всех трех групп прошли психологическое тестирование на определение личностных особенностей и особенностей супружеских взаимоотношений, на выявление уровня личностной тревожности, на отношение к родам и на послеродовые впечатления. Контрольная группа проходила двухкратное тестирование: до и после родов, экспериментальные группы - трехкратное: до и после занятий и после родов.
В качестве методического оснащения использовалась следующая батарея тестов: 1.16 факторный личностный опросник Кеттелла; 2. Методика изучения тревожности Спил-бергера; 3. Методика изучения ценностных ориентации; 4. Методика изучения смысложизненных ориентации; 5. Тест изучения супружеских взаимоотношений Т.Лири; 6. Опросник на изучение отношения к родам; 7. Проективный рисуночный тест «Дом-дерево-человек»; 8. Послеродовая анкета.
В ходе исследования по результатам всех трех групп были выявлены следующие личностные особенности беременных женщин: 65-80% из них имели повышенную тревожность, эмоциональную нестабильность и подозрительность. У мужчин процент тревожных значительно ниже. Почти все женщины страдали от волнений и страхов перед предстоящими родами, за здоровье ребенка и за успешность родов, выраженных в той или иной степени. 40% боялись боли. Кроме того, первородящие испытывали значительное волнение из-за неизвестности, они лишь смутно представляли себе то, что их ожидает в родах. Все их представления о процессе родов окрашены в негативные тона. Что касается особенностей супружеских взаимоотношений, то выявлены часто встречающиеся во всех группах нарушения во взаимопонимании и взаимопринятии (50-60%). Вместе с тем преобладают пары с высокой ценностной совместимостью.
Выявлены следующие специфические особенности каждой группы. В группе с ориентацией на домашние роды преобладают женщины с выраженным фактором новаторства, среди мужчин по сравнению с двумя другими группами также выше процент с выраженным фактором новаторства. 100% мужчин и женщин имеют высокий интеллект (в двух других фуппах по 80%). В обеих экспериментальных группах все женщины высказывались о необходимости для себя психологической помощи, в контрольной группе -лишь 70% женщин нуждались в подобной помощи. Хотели бы родить с мужем 100% женщин из группы с мотивацией на домашние роды, 80% женщин с мотивацией на роддом и 40% из контрольной группы. В муже они видели источник моральной поддержки на родах, в которой они так нуждаются.
Согласно третьей поставленной задаче исследования были получены следующие результаты. После занятий психологическими тренингами по подготовке к родам у 95% женщин улучшилось глубинное эмоциональное состояние, уменьшилось количество и интенсивность волнений и страхов, связанных с родами. Из них у 40% полностью снялась повышенная тревожность и полностью исчезли страхи и волнения. В своих самоотчетах супружеские пары позитивно высказывались о занятиях, о том, что нашли в них значительную помощь для себя. Женщины с их слов стали более уверенными в себе, более спокойными, почувствовали моральную готовность к родам. Мужчины прочувствовали проблемы своих жен, стали ближе к ним. Мужчины из 2-й экспериментальной группы, готовящиеся к домашним водным родам после занятий чувствовали себя способными принять роды и не испытывали волнения перед родами, а наоборот, морально поддерживали своих жен, активно интересовались их нуждами, стали более заботливыми по отношению к ним. Перед мужчинами 1-й экспериментальной группы с первичной мотивацией на роддом и неучастием мужа в родах в ходе занятий остро встала проблема выбора: остаться в пассивной позиции или разделить с женой все ее переживания и подготовку к родам и активно включиться в роды. В связи с проблемой выбора возникла проблема взятия ответственности за роды своей жены. Лишь 17% семейных пар из этой группы сменили моти-
вацию и выбрали совместные роды: кто в роддоме, а кто и дома, однако в любом случае пара сознательно сделала выбор в пользу тех или иных родов. Таким образом, в ходе психологических тренингов каждая супружеская пара произвела сложную психологическую работу, мужья наравне с женами участвовали в подготовке к родам, что не могло не сказаться позитивно на развитии супружеских отношений. Об этом говорится в их самоотчетах.
В настоящий момент исследовательская работа пока не закончена, нет пока данных после родов для первой экспериментальной и контрольной групп. Что касается группы супружеских пар, родивших ребенка дома, то у 90% женщин наблюдается позитивное влияние родов на глубинное эмоциональное состояние: значительное уменьшение или полное исчезновение личностной тревожности на 3-й день после родов, приподнятое, радостное настроение. 90% женщин родили с коротким труднопереносимым болевым периодом, из них 40% - родили без боли. 60% женщин в родах испытывали радость, 90% - рожать понравилось. Все женщины позитивно высказывались о помощи мужа в родах, о его моральной и иногда физической поддержке. Все второродя-щие, первые роды которых проходили в роддоме, высказались о явных преимуществах домашних водных родов, которые им понравились больше традиционных.
Таким образом, на основании уже имеющихся результатов можно сделать следующие выводы.
1. В период беременности наблюдается высокий процент женщин с повышенной тревожностью, эмоциональной нестабильностью, подозрительностью.
2. В период беременности женщины находятся в состоянии хронического стресса из-за страхов и волнений о предстоящих родах.
3. Выявленная тенденция в супружеских парах нарушений взаимопонимания и взаимопринятия и вместе с тем повышенной ценностной совместимости может говорить о временном характере подобных рассогласований, как-то связанных с периодом подготовки к появлению ребенка.
4. Выявлено позитивное влияние психологической дородовой подготовки на психоэмоциональное состояние беременных женщин.
Все это свидетельствует за необходимость проведения специальной программы психологической помощи с супружескими парами, готовящимися к появлению ребенка.
ГГ. Филиппова »
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В РАННЕМ ОНТОГЕНЕЗЕ И ФУНКЦИИ МАТЕРИ*
ПРЕНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Первый триместр
1. Развитие чувствительности и нервной системы в этот период происходит необыкновенно интенсивно. Основные структуры головного мозга закладываются на 5 неделе развития, морфофункциональные основы высших нервных функций - в 7-8 недель. С 6 до 8 недель происходит образование центральной и периферической нервной системы. Еще раньше - с конца третьей недели - начинает биться сердце эмбриона. Синтез гормонов начинается со второго месяца, когда закладываются и дифференцируются периферические органы эндокринной системы. Однако связей между периферическими и центральными отделами эндокринной системы еще нет.
Развитие органов чувств и появление чувствительности также отмечается очень рано. В 6 недель начинает функционировать вестибулярный аппарат, в 7,5 недель отмечается ответная реакция на прикосновение к коже в области губ, а в 8 недель появляется кожная чувствительность на всей поверхности тела, и эмбрион реагирует на прикосновение в любой части тела. Эта реакция представляет собой локальный ответ, без генерализации возбуждения. Общая генерализованная реакция на прикосновения в форме отстранения от источника раздражения возникает позже. В 9 недель появляются вкусовые почки на языке, заглатывание околоплодной жидкости и попадание ее в желудок. В этом же возрасте функ-
* ГГ. Филиппова. Психология материнства и ранний онтогенез. - М. 1999.
ционирует выделительная система, образуется и выделяется моча. В 10 недель появляется мышечная активность, наблюдается открывание рта, а в 10,5 недель - сгибание пальцев рук. В этом возрасте эмбрион активно передвигается в околоплодной жидкости, прикасается к стенке плодного пузыря, изменяет траекторию своего движения. В 11-12 недель уже есть хватательный рефлекс, а в 13 - сосательный. При прикосновении своего пальца к области рта развивающийся ребенок захватывает его ртом и сосет.
Таким образом этот период в развитии характеризуется возникновением чувствительности и способности переживать в субъективных состояниях внутреннюю и внешнюю стимуляцию. Регуляция притока стимуляции в мозг начинается практически еще до образования первых структур мозга: биение сердца плода начинается значительно раньше, с 21 дня. Само возникновение первых структур центральной и периферической нервной системы осуществляется на фоне уже имеющейся ритмической стимуляции, которая может служить материалом для первого появляющегося в онтогенезе анализатора - вестибулярного. Наличие в 7,5 недель ответа на кожное раздражение является показателем именно кожной чувствительности. Наличие субъективных переживаний от сейсмос-тимулов, возбуждающих вестибулярный аппарат, до настоящего времени не стало специальным предметом научных исследований, по крайней мере в отношении их представленно-сти в субъективном опыте ребенка. Однако известно, что сейсмическая чувствительность в форме сейсмотаксиса характерна для самых ранних уровней развития психики в филогенезе (простейшие, находящиеся на стадии элементарной сенсорной психики). Именно при исследованиях этой чувствительности выявлены элементарные формы привыкания и образования временных связей у ресничных инфузорий. Появление у ребенка явной чувствительности в 7,5 недель - это факт наличия, а не момента возникновения ощущения. Проблема возникновения субъективного переживания, которое является внутренним критерием психики, и ее связь с чувствительностью, как внешним выражением этого феномена, достаточно сложна и малоразработана относительно раннего онтогенеза ребенка. Однако для выделения материнских функций
вполне достаточно, что вестибулярная, кожная, вкусовая и проприоцептивная чувствительность возникает у ребенка задолго до того, как окончательно формируется вся нейрогумо-ральная основа эмоциональной регуляции.
2-й, 3-й 4-й пункты на этом этапе нужно рассматривать взаимосвязанно. Возникающие формы чувствительности образуют достаточно богатый, постоянно присутствующий и дискретный мир для субъективных переживаний. Видимо, нет никаких оснований для утверждения о разделении в субъективном опыте ребенка на этом уровне развития «внешнего и внутреннего населения», то есть разного по качеству переживания внутренней и внешней стимуляции и локализации внешней стимуляции вне собственного тела. Нет достаточных оснований и для утверждения о его способности регулировать за счет собственной активности уровень сенсорной стимуляции. Пока речь может идти только о наличии стимуляции, ее дискретном характере, причем как ритмичном, так и не подверженном закономерностям появления и исчезновения. Появление реакций отстранения от давления в области тела и, напротив, приближения, захвата ртом и осуществления сосательных движений на стимуляцию области рта позволяют предположить два альтернативных субъективных состояния, которые служат основой возникновения в дальнейшем двух первичных эмоциональных состояний - удовольствия и неудовольствия. Наличие подобных состояний, обеспечивающих таксисное поведение простейших животных для избегания отрицательной стимуляции и достижения и сохранения положительной в филогенезе, рассматривается как появление первичных состояний, аналогичных по функциям эмоциям удовольствия и неудовольствия. И в отношении простейших, не обладающих нервной системой, и в отношении первых месяцев эмбриогенеза говорить о субъективном характере этих состояний одинаково сложно. Таким образом этот период развития можно охарактеризовать как появление стимуляции, необходимой для развития мозга и поддержания его в стеническом состоянии, и-субъективного переживания этой стимуляции. Интенсивность этой стимуляции достаточно жестко ограничена условиями внутриутробного развития и особенностями физиологического развития плода. На развитие
нервной системы в этот период оказывают влияние биохимические факторы, поступающие непосредственно в кровь ребенка из крови матери, то есть их наличие не переживается субъективно, а только изменяет процессы метаболизма и могут ощущаться только последствия их воздействия (изменение в функционировании физиологических систем, влияющее на общее состояние организма; может ли плод субъективно переживать эти состояния в данный период, определенно сказать невозможно). Поэтому вполне реально предположить, что качество субъективного переживания стимуляции, воспринимаемой сенсорными системами, которое никак не зависит от активности ребенка и поведения матери, не должно быть дискомфортно (так как поведение избегания по отношению к нему невозможно). Значит, именно это качество и интенсивность стимуляции, поскольку они необходимы и достаточны для развития мозга и поддержания его уровня возбуждения, «осваиваются» развивающейся нервной системой, как то качество и интенсивность субъективного состояния, которое в дальнейшем станет «маркером» состояния, которое надо иметь и поддерживать, то есть соматической основой стенической положительной эмоции. Как известно, ей соответствует средний уровень плотности нервной стимуляции. Повышение его уровня при увеличении уровня стимуляции за счет возникновения дополнительной стимуляции от кожной чувствительности поверхности тела, возможно, ведет к превышению оптимального уровня и стремлению его уменьшить - отстранению от прикосновения. Эта реакция появляется вторично, после реакции, положительно направленной к раздражению - в области рта. Эволюционная необходимость развития положительной эмоциональной реакции на акт сосания и ее связь с пищевой доминантой обеспечиваются ранним развитием вкусовой чувствительности и проприоцептив-ной в области желудка (заглатывание околоплодной жидкости с 9 недель) на фоне уже имеющейся положительной реакции на тактильное прикосновение в области рта. Первые реакции от кожного прикосновения еще не носят характера избегания. Однако в естественных условиях внутриутробного развития эта стимуляция может возникать только от прикосновения околоплодной жидкости, которая постоянна и не под-
вержена еще воздействию от сокращений матки, а также от соприкосновения частей тела эмбриона. Эта стимуляция по интенсивности достаточно однородна и также не зависит от активности ребенка и матери. Поэтому она также может входить в разряд той, которая составляет субъективную основу соматического переживания оптимального состояния для развития мозга. Соприкосновение со стенкой околоплодного пузыря и изменение траектории движения отмечается с 10 недель. До этого при экспериментальном воздействии, которого не возникает в естественных условиях, эмбрион проявляет реакцию отстранения. Таким образом, можно предположить, что интенсивность стимуляции, по крайней мере в кожной чувствительности, обретает уровень, субъективное переживание при котором разделяется на положительное и отрицательное. Возможно, именно с этим связано появление чувствительности в области рта раньше, чем на остальной поверхности тела: ведь ее надо «переводить» в механизм сосательного рефлекса, а он однозначно должен обладать положительным эмоциональным переживанием. Вся остальная кожная чувствительность должна приобрести способность к дифференцированному различению интенсивности воздействия, на отрицательном полюсе которого слишком большая интенсивность (боль), а на положительном полюсе - малая интенсивность, соответствующая нежному прикосновению. Интенсивность стимуляции и ее роль в возникновении положительной и отрицательной окраски ощущения подробно проанализированы В. Вундтом и являются проблемой психологии восприятия и психологии эмоций. Эмоциональные переживания всех переходных состояний - длительная и полная загадок история развития кожной и проприоцептивной чувствительности до и после рождения. Таким образом, можно сказать, что в первом триместре появляется соматическая основа для переживания положительного эмоционального состояния, обеспечивающего оптимальный уровень возбуждения мозга, соответствующий в дальнейшем стеническим эмоциям, и появления основы для отрицательного эмоционального состояния, необходимого для регуляции оптимального уровня стимуляции (уменьшения слишком высокого градиента стимуляции). Увеличение стимуляции, если она слишком
мала, пока еще невозможно, так как двигательная активность не подчиняется самостоятельной регуляции, а возбуждается от сейсмической стимуляции сердечных сокращений и перемещений плода в плодном пузыре. Уменьшение же ее становится возможным с 10 недель - изменение траектории движения и прекращение стимуляции от прикосновения. Можно сказать, что первыми признаками регуляции уровня стимуляции в положительном направлении за счет движений плода являются хватательный и сосательный рефлексы. Их наличие не может вызывать дискомфорта, так как само возникновение этих рефлексов продлевает стимуляцию {увеличивает суммарную интенсивность плотности нервной стимуляции). Другими словами, к концу третьего месяца можно констатировать не только разнообразные сенсорные переживания, но и эмоциональные, служащие основой развития эмоций, сопровождающих комфортное и дискомфортное состояние.
2. О структуре деятельности на этом этапе говорить очень трудно, так как проблематично само существование деятельности, поскольку деятельность в психологии рассматривается как организация активности субъекта для удовлетворения потребности и выделяется по критерию потребности, для удовлетворения которой она производится. В рассматриваемый период происходят только формирования состояний и механизмов, которые будут обеспечивать организацию такой активности и само переживание напряжения и удовлетворения потребности. Можно говорить только о возникновении субъективных переживаний, которые позднее встроятся в потребности во впечатлениях и пищевую, а также об основах эмоциональных состояний, которые будут сопровождать напряжение и удовлетворение потребности. То есть формируются отдельные компоненты как состояний, так и физиологических механизмов, не выполняющих еще функций организации активности всего субъекта для изменения субъективного состояния. Однако появление к 10 неделям реакций, аналогичных так-сисному поведению низших животных, позволяет по крайней мере допустить, что начинают связываться в единую триаду отрицательное состояние, положительное и существующий между ними временной промежуток, заполненный проприо-
цептивной стимуляций от собственного движения. Все это по феноменологии аналогично низшему уровню элементарной сенсорной психики. Однако нельзя забывать, что в филогенезе это устойчивая организация, обеспечивающая эффективное решение задач самостоятельной жизнедеятельности субъекта, а у ребенка это только этап в развитии совсем другой организации. Его задачи жизнедеятельности состоят в развитии и решаются за счет функционирования организма матери. Таким образом, по аналогии с выделенными в эволюции психики стадиями развития, можно назвать этот период развития структуры деятельности элементарным сенсорным. Особенностью субъективного переживания является переживание внешней и внутренней стимуляции как изменение своего субъективного состояния, ориентация на градиент интенсивности стимуляции для ее оценки как положительной, так и отрицательной. Изменение этого градиента собственного субъективного состояния переживается как то, что надо сохранить и продолжить, или то, что надо уменьшить или увеличить. Оптимум состояния соответствует оптимуму стимуляции. Этот оптимум и можно определить как состояние комфорта. Вся «деятельность» состоит в изменении активности, в результате которой достигается этот оптимум. Однако, если в филогенезе этот оптимум генетически определен в форме таксиса, то в онтогенезе он «осваивается» развивающимся мозгом на «материале» имеющейся внутриутробной стимульной среды. Эта среда фиксирована в отношении качественных и количественных параметров стимуляции и может быть оценена как эволюционно ожидаемая среда , причем совпадающая с границами жизни субъекта и поэтому абсолютно однозначно обеспечивающая развитие видотипичных особенностей нервной системы человека. Как известно, главной особенностью этого развития является формирование мозга в процессе и на материале поступающей стимуляции. Переживание определенного качества и интенсивности своего субъективного состояния и наделение его статусом «удовольствия» (пока в более общей форме состояния комфорта) и «неудовольствия» (состояние дискомфорта) формируется таким же путем. Таким образом, этот период развития аналогичен по субъективным
переживаниям низшему уровню элементарной сенсорной психики, но различен в плане наличия деятельности как целостной единицы жизнедеятельности. В этом отношении его можно назвать «додеятельностным». Это в корне отличается по логике развития от филогенеза, где само субъективное переживание возникает одновременно с возникновением деятельности при изменении формы субъектно-объект-ного взаимодействия и служит для регуляции этой деятельности. У ребенка еще нет взаимодействия с вне существующим объектом, необходимым для удовлетворения потребностей и сохранения целостности субъекта. Однако необходимость притока стимуляции для развития мозга является началом образования потребности во впечатлениях, неадекватный уровень удовлетворения которой, во-первых, вызывает дискомфорт, а во-вторых, побуждает субъекта к активности для изменения этого уровня. На самом деле говорить о субъекте на этой стадии развития без дополнительных комментариев очень трудно. Не вдаваясь в сложную философскую и психологическую проблему определения субъекта, поясним, что субъект и организм - не тождественны. Субъект на ранней стадии развития, до появления образа себя, существует в форме и в момент субъективного переживания. На первых этапах развития вся стимуляция переживается как изменение своего состояния, и нет разницы, где источник этой стимуляции. Однако свойство этой стимуляции изменяться при двигательной активности субъекта, делает возможным расценивать ее как внешнюю по отношению к самому субъекту, как общему субъективному переживанию своего существования, бытия. Поэтому уже на этой стадии развития можно говорить о существовании условий, которые субъекту необходимо поддерживать при помощи своей активности. Никакие другие нужды не подлежат регуляции со стороны активности ребенка: все необходимое поступает с кровью матери. А вот стимуляцию появляется возможность очень рано изменять за счет своей, пока еще непроизвольной, но все же активности. Именно поэтому потребность во впечатлениях является действительно первой настоящей потребностью, и активность ребенка, направленная на регуляцию этой стимуляции, может быть рассмотрена как эле-
ментарная форма деятельности, в которой есть потребност-ные состояния и их субъективное переживание как напряжение и удовлетворение этой потребности. Первая такая потребность может быть охарактеризована как потребность в поддержании оптимального стенического состояния мозга, которое само является физиологической основой потребности во впечатлениях. Придание состоянию удовлетворения этой потребности статуса эмоции удовольствия происходит еще в первый триместр беременности. В дальнейшем оно преобразуется в потребность в положительном (стени-ческом) эмоциональном состоянии, которое первоначально удовлетворяется за счет притока впечатлений, а затем в получении совершенно определенных стимулов, наилучшим образом это состояние обеспечивающих. Включение в этот процесс матери происходит позже. Таким образом, можно говорить о дифференциации потребности в обеспечении оптимального уровня возбуждения - в потребность во впечатлениях и потребность в комфортном эмоциональном состоянии, которые первоначально были двумя составляющими одной потребности. Состояние эмоционального комфорта становится ценным как таковое. Дальнейшее развитие на его основе эмоции удовольствия и ее переживание при удовлетворении любой потребности связаны с развитием нейро-гуморальных механизмов эмоций. Соматическое состояние, соответствующее эмоциональному комфорту, также приобретает статус потребности ого состояния, что ведет к образованию активности для его достижения и поддержания как самостоятельной деятельности. Таким образом, основа для дифференциации потребности во впечатлениях и потребности в эмоциональном комфорте закладывается уже в первом триместре в процессе дифференциации своих субъективных состояний и развития чувствительности.
5. В рассматриваемый период развития функции матери практически совпадают с функциями ее организма. Условия внутриутробного развития жестко фиксированы, изменения в функционировании материнского организма регулируются гормональными изменениями.
Возникающие при эмоциональных состояниях изменения ее поведения и гормонального фона матери еще не воспри-
нимаются плодом. Они оказывают обязательное воздействие на организм матери и опосредовано - на физиологическое состояние плода. Первые 4-6 недель самочувствие матери ни физическое, ни эмоциональное не изменятся. Она не знает о своей беременности ни на уровне сознания, ни на уровне самочувствия. Именно в этот период происходит возникновение чувствительности у развивающегося ребенка. Дифференциация субъективного переживания стимуляции как положительной и отрицательной к 10 неделям возникает при тактильной стимуляции, которая никак не зависит от матери. В этот период у матери как раз возникают первые соматические переживания состояния беременности и изменения эмоционального состояния под воздействием гормональных перестроек. И то и другое весьма неблагоприятно переживается, причем не только человеком, но высшими приматами. Адаптивное значение эмоционального и физического самочувствия состоит в ограничении контактов с внешней средой, защитой от попадания в организм матери вредных для ребенка веществ, возможно, в очищении организма от шлаков за счет вынужденной диеты и поста, ограничении социальных и половых контактов {что необходимо, так как сильно угнетен иммунитет), за счет общего понижения эмоционального состояния, раздражительности, сонливости и т.п. Такое достаточно интенсивное негативное состояние, однако, никак не может быть помехой развитию плода. В этом отношении эволюционные механизмы достигают оптимального баланса. Развивающийся плод не требует еще больших энергетических затрат от материнского организма, приток стимуляций для развития его мозга достаточен от наличия самой среды и развивающегося организма ребенка, неирогуморальная основа эмоций еще не сформирована и не готова включать в свое функционирование гормональные изменения при эмоциональных переживаниях матери. Механические сокращения матки «не доходят» до маленького, свободно располагающегося в ней плодного пузыря. Другими словами, если мать переживает свое состояние просто как временное недомогание, то ребенка это практически «не касается». А поскольку это недомогание само регулирует отношения матери с внешним миром, то ее функции состоят в следовании этому своему состоянию.
Многочисленные исследования состояния женщины во время беременности свидетельствуют, что выраженность соматических и эмоциональных переживаний в первом триместре сама по себе не влияет на успешность беременности. Однако эмоциональное отношение женщины к этим состояниям и их когнитивная интерпретация сильно зависят от такого фактора, как принятие беременности (желанность беременности). Если первое негативное отношение к факту беременности в течение первого триместра меняется, то в дальнейшем это не сказывается на развитии ребенка. Однако чаще всего оно связано с достаточно серьезными личностными и социальными причинами и оказывает сильное влияние на развитие материнского чувства в дальнейшем, когда переживания матери уже небезразличны для развития ребенка.
Другими причинами нарушения течения беременности являются сильные стрессы или устойчивое состояние тревоги у матери. Они отрицательно действуют на ее собственное физиологическое состояние и таким образом нарушают развитие плода за счет биохимических воздействий, наиболее опасных в этот период, или вызывают аборт вследствие сокращений матки при сильном стрессе. В природных условиях такое состояние матери может возникать вследствие существенного изменения физической и социальной среды, что является неблагоприятным условием для рождения и воспитания потомства. С эволюционной точки зрения подчинение матери своим состояниям и в этих случаях оказывается адаптивным. Осознание матерью факта беременности и его последствий возникает только на достаточно поздней стадии развития человечества, когда все физиологические механизмы, обеспечивающие успешность неосознаваемой беременности, уже полностью стабилизированы. Во всех культурах факт беременности расценивается как положительный для общества. Поэтому и женщина должна его оценивать так же. Появление «нежеланной» для общества и женщины беременности также достаточно позднее, связанное с исчезновением матриархата, явление. Поэтому все традиционные представления о поведении и переживании женщины в первый период беременности (да и в остальные) ориентированы на принятие беременности и оценку этого факта как положительного. Ис-
клгочения («незаконная беременность») не должны нарушать регулирующую роль принятых в данной культуре правил поведения беременной женщины. Поэтому возможный прогноз своего состояния как угрожающего дальнейшему благополучию, а не просто переживание его как временного недомогания, что возможно только при Наличии сознания, корректируется общим положительным смыслом этого состояния как состояния беременности. Таким образом, возможные последствия сознательной интерпретации своего состояния женщиной устраняются при помощи ориентации на образ будущего ребенка и связанные с материнством положительные эмоции. Со стороны ближайшего окружения обеспечиваются большая забота и внимание, снисходительность к состоянию, переживаниям будущей матери.
Можно сказать, что функции матери в первый из анализируемых периодов состоят в подчинении своему состоянию и не интерпретации его как угрожающего будущему благополучию. На досознательном уровне первое обеспечивается самой физиологией беременности, а второго просто нет. На сознательном уровне второе корректируется при помощи норм и правил поведения, направленных на устранение отрицательных последствий интерпретации своих состояний и осознания беременности.
Второй триместр
1. Основными особенностями развития нервной системы в этот период, интересующими нас для выделения материнских функций, являются две. Первая - это стратегическое изменение развития мозга по сравнению с остальными приматами. С 16 недель начинает формироваться специфически человеческая пространственная организация мозга. Поскольку с этого же времени отмечается моторная реакция на звук, то вся специфически человеческая звуковая среда (речевая) становится той внешней стимуляцией, которая участвует в развитии антиципационных механизмов, необходимых ребенку для жизни в человеческом обществе после рождения. К пяти месяцам мозг функционирует как целостная система, в 20-22 недели спонтанная электрическая активность мозга уже
может быть зарегистрирована с помощью соответствующей
аппаратуры.
Второй особенностью этого триместра являются формирование и функционирование нейрогуморальной системы. На четвертом месяце гипофиз осуществляет синтез гормонов, и гипоталамус контролирует функции гипофиза. К пяти месяцам включаются корковые структуры и замыкаются ней-роэндокринные связи. Организм ребенка не только обеспечивает собственную гормональную регуляцию, но включается в эндокринную систему матери (при заболевании матери диабетом вырабатываемый эндокринной системой плода инсулин обеспечивает и ребенка, и мать). Таким образом к пяти месяцам центры удовольствия-неудовольствия, находящиеся в гипоталамусе, включены в общую систему и получают стимуляцию как от соматического состояния самого ребенка, так и «напрямую» - от поступающих с кровью гормонов матери, образующихся при ее собственных эмоциональных состояниях. Известно, что плацентарный барьер не пропускает адреналин, зато пропускает эндорфи-ны и катехоламины. Поэтому резкий выброс адреналина, характерный для стрессового состояния, действует главным образом на мышцы матки, вызывая их тонус. Это опосредованно воздействует на ребенка за счет изменения давления околоплодной жидкости и кровоснабжения, так как при сокращении тканей матки сужаются кровеносные сосуды и уменьшается поступление крови в пуповину. Гормональные изменения в крови матери при переживании тревоги или радости прямо воздействуют на гипоталамус ребенка . Пока еще нет достаточных экспериментальных данных о том, с какой интенсивностью переживает этот приток гормонов ребенок, хотя самому этому факту уделяется большое внимание в некоторых психоаналитических направлениях. Хорошо известно из акушерско-гинекологической и бытовой практики, что во второй половине беременности ребенок реагирует изменением двигательной активности на эмоциональное состояние матери. Современные исследования прена-тального развития и психологии беременности подтверждают возможность переживания ребенком эмоционального состояния матери двумя рядами фактов. Во-первых, начи-
ная с 22 недель отмечаются адекватные двигательные и эмоционально-выразительные реакции ребенка на положительные и отрицательные стимулы во вкусовой, тактильной, слуховой чувствительностях, а с 26-28 недель мимическое выражение фундаментальных эмоций (радость, удивление, страх, гнев) - по данным внутриутробных кинр- и фотосъемок и у преждевременно рожденных детей. Во-вторых, на развитие нервной системы и особенностей эмоциональной сферы ребенка оказывает влияние эмоциональное состояние матери именно во втором и третьем триместрах, в первую очередь наличие стрессов, устойчивого состояния тревоги и депрессивных эпизодов. Все эти данные свидетельствуют о том, что нервная система и нейрогуморальные механизмы эмоциональной регуляции обеспечивают возможность эмоционального переживания ребенком своих состояний и состояний матери.
Все формы чувствительности развиты уже к 16 неделям. В 14 недель полностью развиты вкусовая, проприоцептив-ная, тактильная, вестибулярная системы. В 16 недель есть внутреннее ухо и отмечается моторная реакция на звук, ребенок слышит не только звуки, возникающие в организме матери, но и из внешней среды. Звуковая среда плода необыкновенно богата: сердцебиение матери и шум крови в сосудах (этот ритмичный, слегка шуршащий звук необыкновенно напоминает по ритму и звуковысотным характеристикам морской прибой), звуки перистальтики кишечника, преобразованный костной системой и водной внутриутробной средой голос матери. Во второй половине беременности ребенок находится в постоянной звуковой стимуляции, причем очень интенсивной. Уже в этом возрасте его слуховой анализатор выборочно реагирует на высокие и низкие звуки: чувствительность к низкочастотным звукам понижена, что защищает ребенка от гиперстимуляции внутриутробной среды. Чувствительность к высокочастотным звукам, которые соответствуют высотным характеристикам человеческой речи, напротив, повышена. Исследования, описанные А.Бер-тин, а также другие данные о реакциях ребенка во второй половине беременности на музыкальную и другую звуковую стимуляцию послужили основой для рекомендаций по
организации «пренатального воспитания»: рекомендуется высокочастотная структурированная стимуляция (мелодичная песенная и классическая музыка). Возможно, такая избирательность создает преддиспозицию для предпочтения ребенком звуковых характеристик женской речи.
Внутриутробно развивается и зрительный анализатор. В 16 недель отмечается движение глаз, в 17 - мигательный рефлекс, с 26 недель реакция на резкое освещение стенки живота матери {зажмуривание, отворачивание головы).
К середине внутриутробного периода хорошо развита двигательная активность. Сформированы некоторые рефлексы, сосательный рефлекс представлен уже в форме целостной сенсомоторной координации. В 18 недель ребенок перебирает руками пуповину, сжимает и разжимает пальцы рук, дотрагивается до лица, а чуть позже даже закрывает лицо руками при неприятных звуковых стимулах. Генерализованный ответ в форме реакции удаления или приближения на тактильное раздражение отмечается с 3-4 месяцев. Наблюдения за реакциями ребенка с помощью УЗИ, внутриутробной съемки, самоотчеты матерей свидетельствуют, что примерно с 20 недель ребенок не только реагирует на прикосновение рук матери (поглаживание, легкое похлопывание, прижимание ладони к животу), но и способен включать такое воздействие в свои двигательные реакции. После нескольких недель «обучения» ребенок отвечает на тактильную стимуляцию определенного типа (ритмическое похлопывание в определенной части живота) движением, непосредственно направленным в руку матери. С 24-26 недель возможно обучить его ответу на комплексный раздражитель: пропевание матерью музыкальной фразы и тактильное воздействие. Этот способ, введенный датским врачом Францем Вельдманом, получил название «метода гаптономии» и используется в практике «пренатального обучения» для налаживания взаимодействия матери с ребенком. Данные, полученные в пилотажном исследовании, проведенном с беременными женщинами-студентками в рамках дипломных работ под руководством автора, позволили установить, что с помощью такого контакта мать может не только вызвать ребенка на контакт, но и успокоить его (при резкой внешней стимуляции, под воздействием которой
ребенок ведет себя неспокойно). Такие матери очень тонко различают характер двигательной активности ребенка и безошибочно определяют его эмоциональное состояние. В одном таком исследовании мама «научила» ребенка к 7 месяцам отвечать постукиванием в свою ладонь сначала на про-певание мелодии, сопровождаемой отбиванием рукой такта, а затем только на один из этих стимулов, который она использовала как для инициации контакта, так и для успокоения ребенка при необходимости. Хорошо известно, что беременные женщины активно используют поглаживание живота и «уговаривание» ребенка, если считают, что он ведет себя неспокойно. Обычно матери не анализируют специально характер двигательной активности ребенка и свое состояние при этом, но при экспериментальной постановке такой задачи достаточно четко описывают и характер шевеления ребенка, и свои переживания при этом {собственные данные автора).
Достижения последних десятилетий по выращиванию преждевременно родившихся детей начиная с 22 недель свидетельствуют, что с этого периода ребенок может успешно развиваться вне организма матери, все формы чувствительности и эмоционального переживания стимуляции у него уже сформированы. Известно, что до возникновения специальных технологий выращивания недоношенных детей вне контакта с матерью родившиеся преждевременно жизнеспособные дети (а этот возраст начинался примерно с 7 месяцев) считались получившими «ранний биостарт» и становящимися впоследствии зачастую более способными, чем их вовремя родившиеся сверстники. Современные исследования недоношенных детей, напротив, свидетельствуют о значительных проблемах в их развитии. В последнее время это стали связывать с ранней сепарацией от матери, принятой в практике выращивания недоношенных. Это послужило основанием для введения обязательного контакта таких детей с матерью (или другим взрослым), что значительно повышает успешность их развития.
2. По развитию структуры деятельности можно охарактеризовать этот период как «сенсорный» (по аналогии с соответствующей стадией развития психики в филогенезе). Теперь по субъективному переживанию и организации двигательной
активности они действительно подобны. Ребенок ориентируется на свои субъективные переживания и при помощи своей двигательной активности регулирует интенсивность поступающей стимуляции: заглатывает больше околоплодной жидкости или меньше в зависимости от ее вкуса (сладкая или горькая), отворачивается от источника неприятного звука с соответствующей гримасой неудовольствия, выражением страха или приближается и отвечает двигательной реакцией (прикосновение) на прикосновение матери и звук ее голоса, по-разному реагирует на интенсивность и стиль двигательной активности матери. Видимо, ребенок может вполне успешно регулировать общее количество стимуляции, необходимое для поддержания нервной системы в определенном состоянии возбуждения. Его двигательная активность повышается, если мать недостаточно активна (особенно в вечерние часы перед сном матери). Может ли ребенок в этот период, да и вообще до конца внутриутробного периода, переживать стимуляцию в каких-либо сенсорных системах не как свое состояние, а как вне его существующую, сказать невозможно. По крайней мере, в этом отношении речь может идти только о тактильной чувствительности. Скорее всего можно говорить о возникновении локализации ощущений на определенных участках тела, что вполне реально именно для вкусовой, кожной и проприо-цептивной чувствительности. Но если вкусовая чувствительность в данном случае охватывает всю площадь периферического конца анализатора, то в кожной и проприоцептивной чувствительности возможна локализация раздражения по месту и занимаемой площади. Об этом свидетельствуют вполне адекватные двигательные реакции частей тела ребенка в ответ на раздражение: стимуляция «нелокализованная» (слуховая, сейсмическая, от эмоционального состояния матери) вызывает изменение общей двигательной активности, а стимуляция тактильная - вполне дифференцированный ответ, вплоть до точной ориентации движения (ответное прикосновение к руке матери, ощупывание пуповины, сосание пальца или кулачка). Продолжая аналогию с филогенезом, можно сравнить этот период развития с высшим уровнем сенсорной стадии, когда появляется дифференцированное ощущение от поверхности тела и локализованный двигательный ответ на
это раздражение (например, у дождевого червя). Площадь раздраженного участка и комплексность тактильного анализатора дают возможность анализировать не одно качество раздражителя, а их совокупность (структуру поверхности, упругость, несколько позднее температуру и др.). Это также является отличительной чертой высшего уровня сенсорной стадии психики в филогенезе (ориентация на совокупность свойств среды).
3. В развитии эмоциональных переживаний комфорта и получаемых от собственной активности результатов происходит серьезное изменение. Способность ребенка за счет изменения своей двигательной активности регулировать уровень стимуляции позволяет предположить, что состояние эмоционального комфорта, соответствующее оптимальному уровню стимуляции для поддержания уровня возбуждения нервной системы, переходит в статус потребности. Одновременно возникает «информационное обеспечение» объекта деятельности, удовлетворяющего эту потребность. Постоянное присутствие стимуляции от организма матери, воспринимаемое сенсорными системами и уже «освоенное» развивающимся мозгом как обеспечивающее необходимый уровень возбуждения, представлено теперь устойчивыми стимулами, знакомыми и постоянно присутствующими, которые и обеспечивают чувство эмоционального комфорта. К ним прибавляется стимуляция от собственной активности. Когда есть дополнительный к «фоновому» приток стимуляции, ребенок проявляет меньше активности, поддерживая некоторый ее уровень за счет определенного уровня своей активности. При недостатке этой «дополнительной» стимуляции от матери он повышает свою собственную активность. Видимо, очень рано в «фоновую» стимуляцию, помимо стимулов от матери, входит переживание от своих состояний (проприоцептивные, кожные, вкусовые и т.п.). Его изменение при двигательной активности ребенка также есть у него постоянно и образует основу потребности в двигательной активности, эту стимуляцию доставляющую. Потребность в движении выделяется в качестве одной из базовых потребностей ребенка. Поскольку ребенок воспринимает эмоциональное состояние матери непосредственно и может образовывать некоторую связь между поведением
матери и ее эмоциональным состоянием, реально предположить что уже во втором триместре есть основа для объединения переживаний от изменения ее ритма движений, голоса, сердцебиения и т.п. и непосредственно гормонального фона, происходящих при ее эмоциональных переживаниях. Здесь речь должна идти не о процессах научения, а об образовании аффективно-когнитивных комплексов, составляющих психофизиологическую основу эмоциональной окраски ощущений. Такое предположение соответствует современным взглядам на системогенез мозга, а также теории сензитивных периодов и соответствии эволюционно ожидаемых условий развития адаптивным задачам этого развития . По крайней мере, избирательность по отношению к стимуляции, обеспечивающей возникновение соответствующих эмоциональных состояний, подкрепленных как собственным переживанием комфорта, так и гормонами матери, вполне реальна и подтверждается благотворным влиянием на ребенка после рождения стимулов, «знакомых» по внутриутробной среде. Таким образом, можно говорить об обеспечении потребностей во впечатлении, эмоциональном комфорте и двигательной активности потреб-ностными состояниями напряжения и удовлетворения и включения в них «среднего звена» ~ собственной активности ребенка, причем не просто как факт активности, а организованной и достигающей своей цели - изменения и поддержания своего состояния определенного качества. В этом отношении интересными являются данные по внутриутробному развитию близнецов . У них обнаружены внутриутробные тенденции к агрессии и аффектам, которые подтверждаются в постнатальном развитии. Один из близнецов может угнетать развитие другого, причем не только за счет более интенсивного роста, но и характером эмоционального взаимодействия с ним. Например, при взаимодействии членов тройни двое из них могут изолировать и игнорировать третьего. У близнецов отмечается ограничение двигательной активности, особенно во второй половине беременности, что рассматривается как сенсорная депривация (в прсприоцептивной чувствительности), отрицательно влияющая на развитие нейронных структур мозга.
4. Возможность изменять свое субъективное состояние за счет двигательной активности и переживание при этом соответствующих эмоций могут рассматриваться как начало формирования психофизиологических механизмов будущих переживаний успеха-неуспеха достижения целей. Начало взаимодействия с матерью и переживание ее эмоциональных состояний, причем уже не аморфно, как фона, а определенно, в соответствии с изменением своей двигательной активности и получаемым от соприкосновения со стенками матки ощущениями, позволяет говорить об образовании аффективно-когнитивного обеспечения переживания результатов своей активности и включении в эту систему характерных изменений материнской стимуляции. Можно сказать, что на этом этапе развития переживание комфорта-дискомфорта закрепляется на переживании результатов своей активности и одновременно «принимает» на этот конец «аккомпанемент» от состояния матери. Это самое начало той структуры, которая станет переживанием поддержки извне (от среды, которая пока - организм матери, после рождения стенет самой матерью, а еще позже - внешним миром вообще) своей активности, гармоничным собственным переживаниям своей результативности или дисгармоничным (не-поддерживающим). Очень смело говорить на этом уровне о начале формирования содержаний субъективного опыта, который станет основой качества привязанности, а тем более стиля мотивации достижений. Однако психофизиологические основы этого развития здесь могут быть обнаружены.
5. В этом периоде функции матери уже более конкретны. Они определяются не только переживанием своего физического состояния, но и реакциями на шевеление ребенка. Чувствительность ребенка к эмоциональному состоянию матери и ее общей активности прекрасно совпадает с самочувствием женщины во втором триместре. Он считается наиболее комфортным для нее как физически, так и эмоционально. Физическое состояние стабилизируется, самочувствие обычно хорошее, бодрое, неприятных ощущений нет. Эмоциональная сфера отличается наличием устойчивого фонового приподнятого настроения и повышением лабильности и импуль-
сивности. Это позволяет быстро переходить от одного состояния в другое, главным образом - из отрицательного эмоционального состояния к устойчивому фоновому положительному. Если раньше предполагалось, что женщина в период беременности должна испытывать только положительные эмоции, то теперь считается, что положительным должно быть общее настроение, а кратковременные отрицательные эмоции необходимы для полноценного развития ребенка. Их интенсивность и продолжительность корректируется за счет указанных особенностей эмоционального состояния беременной. Ориентация на состояние ребенка обеспечивает своевременное включение «подкрепляющей положительной стимуляции» при стрессовых переживаниях матери. Как видно из анализа развития ребенка, это соответствует логике его развития. Таким образом, функции матери состоят в том, чтобы радоваться жизни и происходящим в ее организме событиям (в первую очередь, движениям ребенка), но не «выключаться» из внешней жизни. Однако эта внешняя действительность не предполагает серьезных событий, провоцирующих устойчивое состояние дискомфорта и тревоги. Последние могут возникнуть либо по причине самочувствия (что в этом триместре безосновательно), либо вследствие изменений условий жизни, в первую очередь социальных. Именно эти причины обнаруживаются при нарушении состояний самок высших приматов во втором триместре беременности. У человека же включается прогноз будущего, зависящий от отношения к беременности. Роль такого прогноза будущих событий в формировании устойчивого фона эмоционального состояния, в первую очередь отрицательного (тревоги), является отличительной чертой человека. Поэтому здесь особое значение имеет общее отношение к беременности, обобщенно определяемое как принятие или желанность. Именно в этих случаях состояние женщины во втором триместре беременности приближается к оптимальному. Особым моментом в этот период является возникновение шевеления ребенка и переживание женщиной этого шевеления. Устойчивые положительные ощущения от шевеления, с точки зрения материнских функций в развитии ребенка, безусловно должны расцениваться как «эволюцион-
но ожидаемые условия развития». Поэтому сам механизм возникновения этих ощущений и придания им положительно-эмоциональной окраски должен иметь специальное эволюционное обеспечение.
Третий триместр , ,
1. Развитие нервной системы в последнем триместре характеризуется дифференциацией филогенетически новых зон коры, ростом ассоциативных систем мозга. Считается, что этот период сензитивен для образования индивидуальных особенностей нервной системы, психических особенностей ребенка и даже его способностей. Данные F.J.De-Casper и других исследователей показали способность ребенка в последние месяцы внутриутробного развития формировать предпочтения к определенным видам звуковой стимуляции: голосу матери, биению ее сердца, характеристикам родного языка матери, более определенной стимуляции: музыкальным и речевым фразам, целым мелодиям, стихам, сказкам. Исследования вкусовой чувствительности позволяют предположить, что избирательность к культурным особенностям пищевой сферы также возникает уже в этот период .
2. Относительно структуры деятельности нет оснований предполагать какие-либо изменения по сравнению с предыдущим периодом, по крайней мере с точки зрения субъективного переживания потребностных состояний и возможностей организации своей активности для их изменения.
3. Функционирование развитого сенсорного аппарата и формирование ассоциативных систем мозга создает основу для образования устойчивого отношения к получаемой информации. На основании реакций ребенка после рождения на внутриутробные стимулы (успокоение при контакте с матерью до удовлетворения физиологических потребностей, избирательное отношение к материнским стимулам, а также внутриутробным шумам) можно заключить, что у ребенка в конце пренатального периода формируются устойчивый сенсорный образ мира и антиципация его изменений. Образование ин-тегративной антиципационной системы в когнитивной сфере, обеспечивающей адаптацию ребенка к пост-натальной среде, экспериментально обоснованное на примере развития
зрения по Е.А. Сергиенко, также подтверждает это положение. Такой сенсорный образ мира уже разделяется на основе субъективного опыта ребенка на стимуляцию, зависящую от его собственной активности, и независимо от нее существующую и изменяющуюся. Независимо от активности ребенка существующая сенсорная среда, которая сама по себе являлась «материалом» для развития его мозга, так как существовала до и помимо самого организма ребенка и не изменялась, а именно «осваивалась» развивающимся мозгом, приобретает значение существования мира вообще. Логично, что потеря этой стимуляции не вписывается в имеющиеся уже антиципационные схемы и служит причиной состояния эмоционального дискомфорта после рождения. В естественных условиях немедленное возвращение стимуляции от матери компенсирует этот дискомфорт. Это служит условием формирования потребности в восстановлении эмоционального комфорта как восстановления этого сенсорного мира. В прена-тальном периоде нет разрыва с этой средой, поэтому говорить только о формировании потребности в эмоциональном комфорте, обеспечиваемым именно этой стимуляцией, преждевременно. Но, как было сказано выше, условия для потребности в стеническом состоянии и обеспечении необходимого уровня стимуляции уже есть. Так как уровень стимуляции уже регулируется с помощью собственной активности ребенка, «фоновый сенсорный мир» может в субъективном переживании уже разделяться с той стимуляцией, которая зависит от своей активности. Это лишь преддиспозиция для постнаталь-ного выделения стимуляции от матери, обеспечивающей состояние эмоционального комфорта. Однако благотворное влияние контакта с матерью на развитие недоношенных детей и избирательность к материнской стимуляции новорожденных позволяют предположить, что «сенсорный мир материнских стимулов» является основой для формирования потребности в эмоциональном комфорте и оформляется как отделенный от стимуляции от собственного организма к концу внутриутробного периода. Этот мир вполне определен не только в отношении характеристик самих стимулов, но и в отношении их изменяемости, то есть предсказуем, ведь именно этот мир составляет основу формирования антиципационных
схем. Таким образом, в отношении потребности в эмоциональном комфорте речь может идти об образовании стимуль-ной основы объекта, необходимого для ее удовлетворения. 4. Основы развития переживания успеха-неуспеха в этот период связаны с дальнейшим установлением взаимосвязи с матерью на основе ее реакции на шевеление ребенка. Оформившийся в субъективном опыте ребенка «сенсорный мир материнских стимулов», представляющий собой основу будущего «внешнего населения», приобретает свойство подкреплять или не подкреплять переживания ребенка от своей собственной активности и субъективных переживаний, возникающих в результате соприкосновения со стенками матки, а позже тактильными и слуховыми ощущениями (от прикосновений матери и интонаций ее голоса). Это является аффективно-когнитивной основой антиципации поддержки или неподдержки своих состояний со стороны той части субъективного мира, которая не зависит от самого ребенка и при разделении после рождения «внутреннего и внешнего населения» и образования рабочей модели мира «Я -Другой» перейдет на полюс «другой». Таким образом в отношении развития переживания успеха-неуспеха появляется основа тех структур, которые будут впоследствии включены в функции социума в формировании самооценки и мотивации достижений.
5. Функции матери на этом этапе состоят в естественном продолжении ее функций на предыдущем этапе. Особенностью является необходимость стабильных реакций матери на шевеление ребенка и ее «аккомпанемента» внешней стимуляции. Как показывают исследования пренатального обучения, для образования устойчивой ответной реакции ребенка требуется длительная (4-6 недель) и одинаковая стимуляция от матери.
К концу беременности состояние женщины изменяется. Наряду с возрастанием страхов родов и общей тревожности наблюдаются явное сужение интересов, акцентация на переживаниях и содержаниях любой деятельности, связанных с ребенком . Общее понижение всей активности к концу беременности затрагивает и эмоциональную сферу. В последние недели отмечается как бы эмоциональное отупение. Это защищает мать и ребенка от излишних стрессов, опасных в этот
период, и вообще от лишних переживаний. Интересно, что если у человека отмечается возрастание тревожности, причем основной причиной оказывается ожидание неблагоприятных событий в родах и после них, то у высших приматов -повышение раздражительности по отношению к внешней стимуляции, в первую очередь в сфере общения. Такое состояние обеспечено физиологическими особенностями последней стадии беременности: общее расслабление костной и мышечной системы, понижение сензитивности к внешней стимуляции, резкое увеличение стимуляции от состояния организма, общая физическая усталость. Интерпретация этого состояния как тревоги связана исключительно с прогнозом будущих родов и должна рассматриваться как «приобретение» сознательного уровня0развития. Адаптивные механизмы состояния конца беременности у животных обеспечивают меньший контакт с внешней средой и сородичами, уменьшают риск гиперстимуляции, опасной для преждевременных сокращений матки, а также способствуют нарастанию отрицательного отношения к взаимодействию с членами группы, что необходимо для возникновения агрессии к ним после родов (для защиты детеныша). Повышение активности в рамках комфортной сферы, связанное у некоторых млекопитающих и птиц с обустройством гнезда, не характерно для высших приматов, не строящих убежище для выращивания потомства. Однако появление сходного периода в третьем триместре беременности у женщин является очень интересным феноменом. Возможно, это способ «перевода» присущей приматам и другим групповым млекопитающим повышения раздражительности по отношению к членам группы в более приемлемое русло, так как у человека существует наравне с этим противоположная тенденция усиления зависимости женщины от членов сообщества, предполагающая, напротив, интенсификацию общения. Это можно рассматривать как вариант «смещенной активности». Содержательная заполненность этого периода у человека характеризуется направлением активности на подготовку к послеродовому периоду. Традиционное оформление этой активности женщины будет рассмотрено в следующей главе.
Таким образом функции матери в этот период состоят в стабилизации ее положительного отношения к стимуляции от ребенка, ограничении внешней по отношению к интересам материнства жизни и опять же подчинении своим собственным состояниям.
ПЯТЫЙ ЭТАП. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОБСТВЕННЫМ РЕБЕНКОМ
Этот этап является необыкновенно сложным для развития всех блоков материнской сферы. В нем можно выделить несколько самостоятельных периодов. Часть из них (беременность, роды, период грудного вскармливания) обеспечена эволюционными психофизиологическими, в том числе и гормональными, механизмами регуляции. Начинается этот этап с момента возникновения чувствительности для ребенка и с появления первых признаков беременности для матери. В данном случае речь идет о матери. Пятый этап - это непосредственная реализация матерью своих функций во взаимодействии с ребенком. Эти функции, как было видно ниже, не обязательно связаны с осознанием факта беременности. Однако у человека без этого факта никак нельзя обойтись. Более того, планирование беременности, ее желанность или нежеланность, представления о ребенке и своем материнстве до беременности, специальная организация зачатия и т.д. заставляют более внимательно отнестись к периодизации этого этапа.
В психологии выделяются разные стадии родительства: принятие решения о рождении ребенка, беременность, период становления родительства, период зрелого родительства, период «постродительства» (для бабушек и дедушек). В актуальном материнстве выделяются стадия принятия решения о сохранении беременности, период беременности до шевеления плода, период после шевеления, роды, послеродовой период . В гинекологии и акушерстве выделяются три триместра беременности, предродовой период, роды, послеродовой период. Любая периодизация связана с конкретными задачами исследования. Относительно развития материнской сферы поведения можно выделить девять периодов пятого этапа, которые и будут рассмотрены ниже. Поскольку в данном случае речь идет о материнской
сфере, субъектом которой является сама мать, то целесообразно начать с момента идентификации матерью факта беременности. Переход к следующему этапу материнства связан с утратой ребенком гештальта младенчества. У человека происходит не полная утрата этих качеств, они преобразуются в другие возрастные особенности ребенка, еще длительное время ему присущие.
1-й период. Идентификация беременности
Этот период в большинстве случаев начинается и заканчивается еще до возникновения первых изменений в физическом состоянии женщины и непосредственно связан с осознанием факта беременности. В редких случаях беременность не осознается, несмотря на°уже присутствующий соматический компонент. Изменение в самочувствии, задержка менструации и т.п. могут интерпретироваться как разного рода недомогания. Вопрос о полном неосознании женщиной своей беременности в таких случаях является очень сложным. Имеющиеся в литературе данные, особенно касающиеся женщин, отказывающихся от ребенка, свидетельствуют, что речь должна идти о различных формах игнорирования признаков беременности как варианте личностных защитных механизмов. Причины и конкретные проявления этого феномена всегда индивидуальны . В некоторых случаях идентификация беременности может произойти через несколько месяцев после зачатия, иногда только после начала шевеления плода.
Обычно предположение о возможности беременности появляется у женщины через 2-3 дня после задержки менструации. Конкретные сроки связаны с четкостью менструального цикла. В случаях если беременность планируется и тем более предпринимаются специальные меры для ее наступления (особенно при лечении от бесплодия или при жестком планировании зачатия), возможна идентификация биохимической беременности с помощью соответствующих анализов.
В обычных случаях возникновение первого подозрения уже провоцирует определенные переживания. До подтверждения факта беременности они всегда носят оттенок беспокойства, причиной которого может быть либо страх наступления беременности, либо страх ее ненаступления. Какие меры и как
быстро будет предпринимать женщина для уточнения наличия беременности, зависит от конкретных условий. Тревога по поводу беременности (как «отрицательная», так и «положительная») чаще всего ведет к наиболее раннему и точному установлению факта беременности. В случаях нежелательной беременности в сочетании с затруднениями ее прерывания возможно, напротив, длительное затягивание подтверждения беременности. При сочетании желательности беременности, ее естественном наступлении и личностной зрелости матери она прибегает к специальным мерам (например, осмотр врача, анализы) через 1-2 недели после появления подозрения на беременность. В наше время популярны стали индивидуальные тесты для определения беременности. Для «оптимальных» случаев характерно использование тестов через 3-4 дня после задержки менструации, после чего женщина обращается к врачу только через 3-4 недели (для постановки на учет в женской консультации). Таким образом в среднем эти женщины посещают врача первый раз примерно в 7 недель (от 6 до 8-9, реже до 10-11). Сроки идентификации беременности составляют примерно одну неделю. В большинстве случаев за это время принимается решение о сохранении беременности или ее прерывании. Исследования беременных, отказниц и матерей с детьми разного возраста показали, что момент идентификации беременности очень хорошо помнится, все связанные с ним переживания актуализируются очень точно, вне зависимости от его давности. Содержание и интенсивность этих переживаний, как будет видно ниже, непосредственно отражают значение этой беременности для матери и многие особенности ее материнской сферы. Можно выделить 8 вариантов переживания идентификации беременности.
1. Тревожное. При подозрении на беременность возникает сильная тревога, которая устойчиво сохраняется до подтверждения факта беременности и после него, часто даже усиливаясь. Впоследствии характерно яркое сохранение в памяти всех обстоятельств и своих действий, эмоциональное состояние актуализируется легко и отличается живостью и непосредственностью. Женщины склонны подробно и неоднократно обсуждать причины своих негативных пережива-
ний, оправдывать их неожиданностью, тревогой за сохранение беременности (если беременность интерпретируется как желанная). Если беременность нежеланна, то тревога сопровождается другими переживаниями (досада, страх и т.п.).
2. Первая эмоция отрицательная (страх, тревога, ужас, растерянность, разочарование и др.). Она достаточно явно выражена и продолжается до уточнения факта беременности. После этого происходит смена эмоционального состояния на положительное: удовлетворение от подтверждения планов, радость, приятное удивление. Первые ощущения чаще всего не возвращаются. Средняя выраженность этого перехода характеризует женщину как достаточно ясно осознающую перемены в жизни и свою ответственность при общем положительном отношении к беременности. Резкая выраженность перехода отражает амбивалентное отношение и наличие некоторых проблем в принятии беременности. Если в дальнейшем признаков амбивалентности не обнаруживается, то это означает, что противоречия получают свое разрешение на этом первом этапе и для их возобновления нужны серьезные причины в дальнейшем.
3. Слабо выраженные отрицательные эмоции, которые обычно не предваряют, а перемежаются с более выраженными положительными. Основное состояние можно описать как удовлетворение, радостное удивление, в сопровождении периодически возникающей озабоченности и сожаления. После уточнения наличия беременности возникает состояние «принятия факта» и сосредоточения на задачах, связанных с беременностью. Особо сильно выраженных положительных эмоций не наблюдается, хотя общая оценка своего состояния явно положительная. Большое значение имеют ожидания близких, отвечая которым женщина часто склонна преувеличивать свою собственную радость. Это наиболее благоприятный вариант переживания идентификации беременности, характеризующий женщину как зрелую, готовую к материнству, понимающую всю важность происходящих а ее жизни перемен и принимающую свою беременность как желательную; готовую перестраивать свою жизнь в ориентации на ребенка.
4. Эйфорическое состояние. Все переживания очень сильно выражены и абсолютно отсутствуют какие-либо признаки
тревоги, озабоченности, сожаления и т.п. Чаще всего такое состояние характерно при недостаточной рефлексии неизбежных изменений в жизни, непринятии на себя ответственности, общей личностной незрелости. В этих случаях любое нарушение «идеального течения беременности» (как в отношении физиологии, так и внешних условий) ведет к появлению страха, резкой смене общего эмоционального состояния. Такие женщины обычно не готовы и к проблемам послеродового периода. Осложнения возникают к концу беременности, когда эти проблемы становятся реальными. На практике не встречается сочетания эйфорического типа идентификации беременности с последующим отсутствием проблем в материнстве.
5. Амбивалентное отношение. Характеризуется периодической сменой полярных эмоций, затягиванием решения о сохранении беременности. При осознании нежелательности беременности и невозможности ее прерывания возможны депрессивные или аффективные эпизоды, адресация к внешним причинам, мешающим принятию беременности. При этом обычны раннее появление соматических ощущений, связанных с беременностью, их сильная выраженность. В некоторых случаях в качестве причин своих состояний и переживаний расцениваются наличие соматических заболеваний, осложняющих беременность, семейные и социальные условия и т.п.
6. Слабо выраженное амбивалентное отношение с неоправданным затягиванием решения о сохранении беременности. Причинами, мешающими это сделать, могут быть недостаток денег, «горящая» путевка, заболевание типа простуды или просто «некогда было». Такое отношение можно выразить фразой: «Когда хватилась, уже поздно было». Последствия могут быть самыми разными, от благополучной коррекции в «хороших» условиях (которые индивидуальны для каждого случая) до отказа от ребенка, и зависят от конкретной ситуации.
7. Неправдоподобно длительная интентификация беременности. Налицо уже все признаки беременности, однако они интерпретируются как отравление, нарушение менструального цикла, грипп и т.п. В таких случаях соматические
ощущения часто бывают смазаны, живот начинает увеличиваться поздно, женщины говорят, что нарушения цикла у них бывают насто (хотя проверить это невозможно). Подробное обсуждение обстоятельств и самочувствия женщины позволяет заключить, что подозрения на беременность возникали, но активно подавлялись. Такое состояние чаще всего обнаруживается у женщин, впоследствии отказывающихся от ребенка. При сохранении беременности как желанной это очень редкие случаи, которые можно оценить как «нетипичные».
8. Аффективно-отрицательное переживание идентификации беременности, устойчиво сохраняющееся вне зависимости от решения о ее сохранении. 8 разных случаях в зависимости от обстоятельств и личностных особенностей женщины первые негативные эмоции могут переходить либо в игнорирование факта беременности, либо в депрессивное состояние, либо сохраняется аффективно-отвергающее отношение. Обычно в этих случаях беременность идентифицируется вовремя. Исключение составляют редкие случаи поздней идентификации, когда уже невозможно прерывание беременности, из-за нетипичных физических состояний (нарушение цикла, продолжение менструаций и т.п.) или у совсем юных беременных.
Следует сказать, что переживание идентификации беременности не влияет на дальнейшее развитие материнства, а только отражает «стартовое» содержание потребностно-эмо-ционального и ценностно-смыслового блоков материнской сферы.
2-й период. До начала ощущений шевеления
Этот период охватывает вторую половину первого триместра и начало второго. Физиологически он характеризуется появлением симптоматики беременности, неприятными физическими ощущениями, изменениями в эмоциональном состоянии. Считается, что в первом триместре наиболее выражена тревожность, резкая смена настроений, появляется раздражительность, снижается общая активность. Физиологической основой этих изменений является гормональная перестройка. Адаптивное значение изменения эмоционального
состояния состоит s ограничении контактов с внешним миром, что способствует сохранению беременности и успешному развитию плода на первых неделях, наиболее в этом отношении опасных. Такое же поведение наблюдается у всех приматов. У орангутанов, у которых спаривание не регулируется появлением у самки внешних признаков овуляции и возможно в любое время, описанное состояние самки способствует распаду пары или, по крайней мере, прерыванию половых отношений.
Беременные женщины по-разному оценивают свои состояния, как физические, так и эмоциональные. Некоторые их интерпретируют как усталость, сонливость, желание побыть одной или «сваливают» все на тошноту и дурноту. Другие «цепляются» за каждую внешнюю причину для слез, обид и т.п. Характерные для первого триместра недомогания также оцениваются и переживаются по-разному. Этот период для матери весьма существенен в развитии ее материнской сферы. Появление ребенка становится реальным фактом. С другой стороны, еще нет никаких его конкретных признаков. Чувство матери свободно от внешней стимуляции, присущей живому ребенку, и как бы в «чистом виде» отражает все стартовые содержания материнской сферы. Однако она уже имеет возможность на своем опыте прочувствовать происходящие изменения и подготовиться к более серьезным. Можно сказать, что это первый опыт приспособления себя к нуждам будущего ребенка, опыт интерпретации своих переживаний с точки зрения себя как матери.
Если до появления возможности осознания беременности все регулировалось внутренними и внешними обстоятельствами, то теперь появляется возможность реального развития отношения матери к своему ребенку, так как она знает о его существовании и сроках его появления. В этот период представления о ребенке не очень конкретны, описание его затруднено и обычно носит описание своих эмоций и переживаний. Представления о будущем относятся к достаточно поздним периодам развития ребенка (младенец середины или конца первого года, более старший ребенок вплоть до подростка) и зависят от опыта женщины. Многие женщины еще не замечают существенных изменений в своем отношении к жиз-
ни и в интересах. Свое состояние оценивается только с точки зрения самочувствия.
По характеру переживаний симптоматики и эмоциональному состоянию можно выделить следующие варианты:
1. Оптимальный вариант. Эмоциональное состояние характеризуется периодическими, недлительными снижениями общего физического и эмоционального тонуса, повышенной раздражительностью, которые интерпретируются как усталость и следствие соматического недомогания. Источники плохого настроения женщина находит в несоответствующих ее состоянию и самочувствию условиях работы, быта, недостаточно внимательном или, напротив, слишком назойливом, отношении близких. Ребенок представляется в возрасте около года или немного младше, активность по подготовке к родам и материнству слабая, в форме общих планов заняться этим позже.
Соматический компонент выражен достаточно четко, средний по интенсивности. Расценивается как неизбежное, вполне терпимое состояние. Женщина ориентируется на свои состояния с точки зрения того, какие конкретные способы можно использовать для оптимизации самочувствия, и активно их применяет. Живот обычных по срокам беременности размеров. Чаще всего соотносится со 2-м и 3-м типами идентификации беременности.
2. Усиленное переживание эмоциональных и соматических состояний. Все как бы «чересчур». Эмоциональное состояние характеризуется раздражительностью, недовольством по отношению к окружающим, требовательностью. Их отношение оценивается как недостаточно внимательное, несоответствующее всей тяжести состояний беременной.
Образ ребенка либо отсутствует, либо, напротив, очень конкретен. Он представляется как идеальный младенец, «выстраданный» матерью.
Физические симптомы переживаются очень тяжело, как страдание, повышена чувствительность к своим состояниям наряду с недоверием к способам их облегчения. Возможности облегчения физических недомоганий не используются под разными предлогами. Живот нормальных размеров, заметен становится рано, редко бывает больше, чем ожидается по
размеру ребенка и сроку беременности. Сочетается со 2-м, 4-м, 5-м, очень редко 3-м типами идентификации беременности.
3. Тревожное переживание состояний беременности с прогнозированием неблагополучного исхода беременности для себя или ребенка. Любое изменение в состоянии оценивается как угрожающее, женщина постоянно прислушивается к себе, своим ощущениям. Тревожный фон настроения практически постоянный, периоды нормального настроения крат-ковременны и ситуативны. Нередки боли внизу живота, угроза выкидыша. Ориентация на неблагоприятные сведения от врачей и близких, игнорирование благоприятных.
Образ ребенка почти отсутствует, часто повторяются фразы типа «Главное, чтобы все обошлось, чтобы был здоровым». Иногда, при наличии в прошлом опыте встреч с детьми-инвалидами (или обладающими другими нарушениями), преследуют представления о возможных увечьях у своего ребенка. Повышается вера в приметы, актуализируются детские страхи перед цыганами, пророчествами и т.п.
Соматический компонент переживается остро, по типу опасной болезни, угрожающей здоровью и благополучию. Живот может быть слишком большой или слишком маленький для срока беременности. Сочетается в основном с 5-м и 6-м типами идентификации беременности.
4. Депрессивное состояние, периодически ослабляющееся или обостряющееся, практически без «проблесков». Общее переживание беременности как обреченности, при этом нередко на словах отношение к беременности и будущему ребенку как сверхценности. Нередки кошмарные сны, представления о гибели ребенка или своей в родах. Характерно полное отсутствие содержаний, относящихся к послеродовому периоду. Ребенок чаще всего вообще никак не представляется.
Физические симптомы переживаются как тяжелые, мучающие, не дающие расслабиться, успокоиться. Живот обычно недостаточных размеров по срокам беременности или обычный. Чаще всего сочетается с 5-м и 6-м, реже 8-м типами идентификации беременности.
5. Разные формы отвержения беременности при принятии решения о ее сохранении:
а) почти полное отсутствие всей симптоматики, как эмоциональной, так и физической, вплоть до «наоборот»(состояние бодрее и лучше, чем до беременности); живот появляется очень поздно, нередко значительно меньше по размерам, чем должен быть, при нормальных размерах плода; активное планирование жизни после периода беременности и минимально необходимого для ухода за ребенком; образ ребенка часто вполне четкий, в возрасте далеко послемла-денческом, связан с его социальным статусом, будущими успехами в учебе и т.п.; обычно сочетается с 5-м, 6-м и 7-м типами идентификации беременности.
б) аффективно-отрицательное переживание всех симптомов как мешающих, неуместных, ненужных; необходимость подготовки к родам и послеродовому периоду вызывает раздражение, много претензий к врачам и близким, что сочетается с несоблюдением элементарных правил режима, питания и т.п.; при этом часто свое состояние интерпретируется как отношение не к ребенку, а к беременности как состоянию; живот обычных размеров; образ ребенка может быть идеальным в будущем, то, какой он сейчас, оценивается как «еще не человек»; обычно сочетается с 5-м, 6-м и 8-м, реже 7-м типами идентификации беременности,
в) особым случаем является устойчивое отрицательное отношение с возобновляющимися попытками прерывания беременности, при этом соматический компонент средне выражен, живот небольших размеров, представления о ребенке как нежеланном, наказании; сочетается с 8-м или 7-м типами идентификации беременности.
Все эти типы переживания второго периода беременности создают индивидуальные условия для следующего, достаточно серьезного в развитии материнской сферы - начала ощущений от шевеления ребенка.
3-й период. Появление и стабилизация ощущений шевеления ребенка
Первые ощущения шевеления ребенка начинаются в середине второго триместра. Этот период является наиболее
благоприятным относительно физического и эмоционального самочувствия матери. Стабилизируется гормональный фон, исчезают симптомы недомогания, еще нет ограничения подвижности и увеличения физической нагрузки. Настроение становится более устойчивым и в норме переходит от астенического к стеническому. Женщина'уже свыклась с фактом беременности, неизбежностью изменений, у нее было время представить себе не только то, что она теряет, но и то, что приобретет с рождением ребенка. Появление шевелений позволяет конкретизировать образ ребенка и дает богатую пищу для интерпретации его субъективных состояний. Сами первые шевеления ребенка слабы и сначала трудно различимы. По своему физическому характеру они относятся к приятным ощущениям. Их интерпретация как пугающих или неприятных имеет только субъективные основания. Нередко женщина постоянно вслушивается в свои ощущения с целью «поймать» начало шевеления. Факт начала шевеления и сами шевеления отлично помнятся в течение долгих лет. Исключение составляет общее игнорирующее отношение к беременности. Сроки начала ощущений шевеления могут быть от 15 недель до 28 - 30, в среднем 18 - 22 недели Слишком раннее шевеление чаще всего связано с тревожным переживанием беременности, слишком позднее - с игнорирующим. Эмоциональное отношение к шевелению и его физическое переживание весьма точно отражают содержание потребностно-эмоционального и ценностно-смыслового блоков материнской сферы и динамику этого содержания в беременности. Неприятные, а тем более болезненные ощущения от шевеления, как правило, появляются в сопровождении других проблем в физическом состоянии, семейном, социальном положении и т.п.
Помимо общего отношения к беременности и ребенку ощущение его шевелений позволяет матери конкретизировать ее «стартовый» стиль эмоционального сопровождения. Усиливающий стиль эмоционального сопровождения выражается в переживаниях тревоги при шевелении, когда женщине постоянно кажется, что ребенок шевелится как-то не так, свои ощущения при этом расцениваются как свидетельство того, что ребенок недоволен, ему плохо, он боится и т.п. Положи-
тельное состояние ребенка реже отмечается и почти не интерпретируется. Осуждающий стиль проявляется в том, что мать часто ощущает шевеления как мешающие, не дающие заснуть, испытывает неудобство и стыд от того, что ребенок сильно шевелится в присутствии других людей. В этих случаях она недостаточно четко определяет, что ее поведение служит причиной хорошего или плохого состояния ребенка. При игнорирующем стиле эмоционального сопровождения женщина описывает свои шевеления как физиологические ощущения, без адресации к образу ребенка. Она не может сказать ничего ни о динамике, ни о характере шевеления, не представляет себе, что ребенок переживает, как он двигается. Адекватный стиль эмоционального сопровождения характеризуется четкой интерпретацией характера движений ребенка, соотнесением их как со своей активностью и внешними событиями, так и субъективными состояниями ребенка. Мать использует не просто обращение к ребенку, а вполне конкретно интонирует свою речь адекватно представляемым состояниям ребенка. Она хорошо представляет, как именно двигается ребенок. Интерпретация состояний ребенка в основном положительная, его отрицательное состояние предполагается только в связи с конкретными причинами.
В этот период многие женщины отмечают изменение интересов, концентрацию на задачах беременности и послеродового периода, подготовке к материнству. В современных условиях характерным становится поиск дополнительной информации (книги, журналы, курсы для беременных).
4-й период. Седьмой и восьмой месяцы беременности и
Третий триместр беременности как с медицинской, так и с психологической точки зрения, считается достаточно сложным. У женщины несколько ухудшается самочувствие, она быстрее устает, затрудняется двигательная активность, часто ухудшается сон. Отмечается некоторое повышение тревожности, страхов родов, беспокойство по поводу послеродового периода. Наряду с этим ощутимо снижается интерес ко всему, не связанному с ребенком. Повышается активность, связанная с подготовкой к родам и послеродовому периоду. Общее ог-
раничение физической активности и одновременное повышение нагрузки переживается по-разному. Некоторые женщины стараются использовать этот период, чтобы «набраться сил» перед родами и будущими заботами, связанными с уходом за ребенком. Другие переживают этот период как неприятный, тяжелый, остро реагируют на связанные с большим животом неудобства. Практически во всех случаях к концу этого периода возникает чувство, которое можно выразить словами «скорей бы уж все закончилось», но одни его интерпретируют как нетерпение увидеть ребенка, а другие - как избавление от неудобств беременности.
Образ ребенка становится значительно более конкретным, женщины достаточно легко представляют себе его внешний вид, особенности поведения, свои действия с ним. Этому способствует осознание близости рождения ребенка и стремление повысить свою материнскую компетентность. В последние месяцы беременности женщина освобождается от видов деятельности, требующих большой физической активности. Общее повышение беспокойства традиционно реализуется в деятельности, связанной с подготовкой к рождению ребенка. Такая деятельность не только заполняет время, но и способствует проработке образа ребенка и представлений о своих материнских функциях. Происходит постоянное общение с другими людьми по этому поводу, обычно с наиболее близкими, актуализируются все сформированные до этого представления о ребенке и материнстве. Уменьшение других видов деятельности, исключение тяжелых работ и неприятных впечатлений, присутствие родных и близких, повышение их внимательности, заботы и т.п. - все это можно в разных формах обнаружить в организации жизни женщины в последние месяцы беременности в традициях и обычаях любой культуры. Такое оформление данного периода способствует положительному эмоциональному означиванию всех содержаний, связанных с ребенком и материнством. При общении с близкими, в первую очередь матерью и другими женщинами, происходит обмен воспоминаниями, впечатлениями, наряду с советами и прямым обучением в процессе подготовки предметов для ухода за ребенком. На самом деле, это настоящая школа подготовки к выполнению материнских функций, под-
крепленная актуальной мотивацией «ученицы». На таком фоне детализируется образ ребенка, что способствует дифференциации его активности, своих ощущений и налаживанию эмоционального взаимодействия. Как известно, практически во всех культурах такие «посиделки» сопровождаются пением* В настоящее время хоровое и индивидуальное пение для беременных считается одним из наиболее действенных приемов в подготовке к родам и материнству. Таким образом, переориентация активности, концентрация всех содержаний жизни и деятельности на ребенке, проработка своих представлений и переживаний в конкретной деятельности и в общении с другими людьми, придание всему этому положительно-эмоционального фона, прямое обучение -вот то оформление третьего триместра беременности, которое сформировалось в общественном опыте. Все, что требуется помимо этого для появления ребенка, является задачей других членов семьи.
В течение беременности происходят изменения не только во внешнем виде и физиологии женщины. Изменяется ее отношение к обществу и семье. Она становится более зависимой от посторонней помощи, рассчитывает на эту помощь. На ранних стадиях развития человечества и у высших приматов будущая мать должна была рассчитывать также и на защиту себя и будущего потомства другими членами сообщества. Это требует проявлений зависимого поведения, провоцирующего покровительство и снисхождение от других. У беременных самок отмечаются черты внешнего вида и поведения, сходные с инфантильными: изменение пропорций тела, неуклюжесть движений, эмоциональная лабильность и импульсивность, свойственная детенышам, повышенная реакция на внешнюю угрозу, появление «детских» интонаций в голосе и других особенностей, требование покровительства и т.п. Все это стимулирует соответствующее отношение членов группы. После родов внимание других особей переключается на детеныша, который сам вызывает интерес и стремление защищать его (и самку вместе с ним).
С другой стороны, биологически обусловлено повышение агрессии к другим особям, необходимое для самозащиты и защиты своего детеныша. Все самки стадных жи-
вотных, не исключая высших приматов, некоторое время после родов агрессивны к любым внешним воздействиям. Их спасает от ответных мер присутствие детенышей. У человека, напротив, повышение агрессии к близким неадаптивно, так как предполагается некоторое перераспределение материнских функций практически сразу после рождения ребенка, а вот повышение зависимости и необходимость всестороннего патронажа увеличиваются и становятся более продолжительными. Таким образом, появление двух альтернативных тенденций (стремление к контакту и агрессия) на последних сроках беременности у высших животных ведет к смене объектов этого поведения: стремление к контакту после родов переходит на детеныша, а агрессия -на членов группы. В рассматриваемый период агрессия пока еще обнаруживает себя как тенденция к беспокойству, повышению активности, периодической раздражительности к неуместному обращению со стороны других. Состояние беременной самки у стадных животных требует достижения тонкого баланса между тенденцией к зависимости и стремлением к контакту, с одной стороны, и тенденцией к агрессии - с другой.
Возможность переориентации этих тенденций прослеживается уже у высших приматов: самкам может помогать в родах и сразу после них собственная мать, старшая сестра или тетка, а у орангутанов отмечается даже помощь самца. Можно предположить, что традиционная организация активности женщины в последние месяцы беременности и ее эмоциональное наполнение помогают «перевести» возникающую эволюционно обусловленную тенденцию к агрессии в «нужное русло».
Таким образом, этот период отражает сложную динамику эмоционального состояния во время беременности, подготавливающую всю психику будущей матери к выполнению ее функций после родов.
В современной практике обнаруживается разное содержание жизни женщин в последнем триместре беременности. Характерно практически для всех повышение внешней активности, которая может быть описана как стремление привести в порядок свои дела и окружение. Образно можно назвать
это время «периодом обустройства гнезда». Разница в том, что приводится в порядок. Как уже ясно, обычно это подготовка к рождению ребенка. Сюда, помимо приготовления вещей и получения необходимой информации, может входить выбор родильного дома, знакомство с разными практиками родов, организация приезда родных или своей поездки к ним на время родов и т.п.
Другим вариантом является повышение активности, направленной на содержания, не связанные с ребенком. Чаще всего это стремление закончить учебу, сдать экзамены, защитить диплом и т.п. Нередко беременность специально планируется к окончанию учебы, но немного «не вписывается» в задуманные сроки. Иногда странным образом оказывается, что все неотложные дела, связанные с учебой или карьерой, концентрируются именно в эти месяцы. Возможны появление острой необходимости провести ремонт, обменять квартиру, купить дачу или разобраться в семейных отношениях. Характерно, что все это интерпретируется как необходимое для будущего ребенка. Чаще всего объективной необходимости для этого нет, и иные женщины прекрасно распределяют свои дела по «традиционному» образцу.
Одним из проявлений такой «смещенной» активности на последних месяцах может считаться поведение женщин, отказывающихся от ребенка. При игнорирующем стиле переживания беременности наблюдается увеличение энергии, продолжение работы буквально до родов, другие «всплески» активности. Однако женщина оказывается совершенно не готова к рождению ребенка и его буквально не в чем и некуда взять из роддома. В других случаях изменения в активности не выражены, но для рождения ребенка все равно ничего не делается.
Обычно отсутствие, уменьшение или изменение интересов, связанных с ребенком сочетается с разными другими проявлениями, свидетельствующими о сниженной ценности ребенка и материнства и высоком напряжении ценностей из других сфер поведения. Эти и другие клинические данные свидетельствуют, что изменение направленности активности беременной в «период обустройства гнезда» отражает динамику, происходящую в содержании ее материнской сферы.
5-tf период. Предродовой
Физиологически этот период является очень важным. Происходят изменения в тканях, костной системе, обеспеченные гормональным фоном и способствующие гибкости и эластичности костно-мышечной системы. Одновременно идет накопление энергетических запасов организма для родов и послеродового периода. На поведении и эмоциональном состоянии это отражается как снижение активности, общее расслабление, некоторое эмоциональное «отупение». Все это влияет и на ребенка. Адаптивное значение этих изменений вполне конкретно. Ограничена активность и способность резкого эмоционального реагирования, что предохраняет от преждевременных родов. Ребенок не страдает от меньшей двигательной активности, хотя его возможности уже серьезно ограничены тесным пространством матки. У матери снижается страх перед родами и растет способность сконцентрироваться только на одном, доминирующем содержании (точнее, снижение способности переключения и распределения эмоций), что будет совершенно необходимо во время родов и послеродового взаимодействия с ребенком. Женщины, тем не менее, наиболее адекватно по сравнению с другими периодами оценивают свои возможности и представляют ребенка и свои действия с ним. По данным многих исследователей, адекватность представлений матери о родах и послеродовом периоде, своих возможностях и особенностях ребенка является существенным показателем успешного развития ее материнской сферы и дальнейшего благополучного отношения к ребенку.
При неблагоприятной динамике содержаний материнской сферы в беременности, напротив, возрастает тревожность, обостряются физиологические нарушения, женщина практически перестает ориентироваться на свои состояния, полностью полагаясь на мнение врачей. В результате, не задумываясь, подчиняется всем рекомендациям, вплоть до стимуляции родов. В таких случаях чаще всего возникают осложнения в родах и послеродовом периоде, более вероятны преждевременные роды. При игнорирующем стиле переживания беременности может не наблюдаться выраженного расслабления и снижения эмоциональности, что не от-
ражается серьезно на родовом процессе. Однако у женщин, отказывающихся от ребенка, именно такой стиль переживания беременности часто сочетается с преждевременными родами.
Содержание материнской сферы в течение беременности претерпевает существенное изменение, которое отражается в переживании женщиной симптоматики беременности, в ее внешней активности и психическом состоянии. Все это определяет индивидуальный стиль переживания беременности. В него входят физическое и эмоциональное переживание момента идентификации беременности, переживание симптоматики беременности, динамика переживания симптоматики по триместрам беременности, преимущественный фон настроения по триместрам беременности, переживание первого шевеления, переживание шевелений в течение всей второй половины беременности, содержание активности женщины а третий триместр беременности. Наиболее характерным является переживание шевеления. Можно описать шесть вариантов стилей переживания беременности.
1. Адекватный. Идентификация беременности без сильных и длительных отрицательных эмоций; живот нормальных размеров; соматические ощущения отличны от состояний небеременности, интенсивность средняя, хорошо выражена; в первом триместре возможно общее снижение настроения без депрессивных эпизодов, во втором триместре благополучное эмоциональное состояние, в третьем триместре повышение тревожности со снижением к последним неделям; активность в третьем триместре ориентирована на подготовку к послеродовому периоду; первое шевеление ребенка ощущается в 16-20 недель, переживается положительно-эмоционально, приятно по соматическому ощущению; последующие шевеления четко отдеференцированы от других ощущений, не характеризуются отрицательными соматическими и эмоциональными переживаниями.
2. Тревожный. Идентификация беременности тревожная, со страхом, беспокойством; которые периодически возобновляются; живот слишком больших или слишком маленьких по сроку беременности размеров; соматический компонент сильно выражен по типу болезненного состояния; эмоциональ-
ное состояние в первый триместр повышенно тревожное или депрессивное, во втором триместре не наблюдается стабилизации, повторяются депрессивные или тревожные эпизоды, в третьем триместре это усиливается; активность в третьем триместре связана со страхами за исход беременности, родов, послеродовой период; первое шевеление ощущается рано, сопровождается длительными сомнениями или, напротив, четкими воспоминаниями о дате, часе, условиях, переживается с тревогой, испугом, возможны болезненные ощущения; дальнейшие шевеления часто связаны с тревожными ощущениями, тревогой по поводу здоровья ребенка и себя, характерны направленность на получение дополнительных сведений, патронаж.
3. Эйфорический. Все характеристики носят неадекватную эйфорическую окраску, отмечается некритическое отношение к возможным проблемам беременности и материнства, нет дифференцированного отношения к характеру шевеления ребенка. Обычно к концу беременности появляются осложнения. Проективные методы показывают неблагополучие в ожиданиях послеродового периода.
4. Игнорирующий. Идентификация беременности слишком поздняя, сопровождается чувством досады или неприятного удивления; живот слишком маленький; соматический компонент либо не выражен совсем, либо состояние даже лучше, чем до беременности; динамики эмоционального состояния по триместрам либо на наблюдается, либо отмечается повышение активности и общего эмоционального тонуса; первое шевеление отмечается очень поздно; последующие шевеления носят характер физиологических переживаний, к концу беременности характеризуются как доставляющие физическое неудобство; активность в третьем триместре повышается и направлена на содержания, не связанные с ребенком.
5. Амбивалентный. Общая симптоматика сходна с тревожным типом, особенностью являются резко противоположные по физическим и эмоциональным ощущениям переживания шевеления, характерно возникновение болевых ощущений; интерпретация своих отрицательных эмоций пре-
имущественно выражена как страх за ребенка или исход беременности, родов; характерны ссылки на внешние обстоятельства, мешающие благополучному переживанию беременности.
6. Отвергающий. Идентификация беременности сопровождается резкими отрицательными эмоциями; вся симптоматика резко выражена и негативно физически и эмоционально окрашена; переживание всей беременности как кары, помехи и т.п.; шевеление окрашено неприятными физиологическими ощущениями, сопровождается неудобством, брезгливостью; к концу беременности возможны всплески депрессивных или аффективных состояний.
Разумеется, в каждом конкретном случае будут наблюдаться индивидуальные особенности, более или менее приближающиеся к описанным.
6-й период. Роды и послеродовой период
В этот период происходит встреча с ребенком, что обеспечивает возможность изменений в содержаниях материнской сферы, в первую очередь во взаимодействии ценности ребенка с «внедряющимися» из других сфер.
Процесс родов и послеродовой деятельности матери требует высокого уровня ее физической, интеллектуальной и эмоциональной активности. Способность расслабляться между схватками обеспечивает сохранение сил, окончание болевых ощущений при потугах и выходе ребенка - способность приступить к послеродовой обработке, эмоциональный подъем создает оптимальный фон для послеродового запе-чатления и образования положительного отношения к ребенку. Кросскультурные исследования и данные об эффективности психологической подготовки к родам свидетельствуют, что переживание родов и, в частности болей схваток, зависит от психологического настроя женщины. От того, воспринимает ли она роды как «трудную творческую работу», «неизбежную муку» или «наказание» (которое может с ее точки зрения быть заслуженным или незаслуженным), зависят ее собственные ощущения и успешность родов.
Как уже было отмечено выше, в родах и послеродовом периоде происходит замыкание эволюционно ожидаемых ус~
ловий для матери и ребенка, способствующих образованию эмоциональной взаимосвязи. Для матери эти условия возникают и поддерживаются в процессе послеродовой обработки ребенка и прикладывания к груди. Стимуляция от новорожденного в этих условиях, сопровождаемая физиологически обеспеченным обостренным и положительным эмоциональным состоянием, психологически обусловленная успешным достижением цели после необыкновенно трудной и важной деятельности родов и долгожданной встречей с ребенком, действует как ключевая, способствуя объединению всех сформировавшихся прежде содержаний на этом конкретном ребенке. Женщины в течение долгих лет помнят момент родов, ребенка, детали послеродового периода. Последующие 1,5 суток, которые считаются сензитивным периодом для развития взаимосвязи с ребенком, в эволюционном отношении предполагают непрерывный контакт с новорожденным, насыщенный достаточно интенсивной деятельностью матери. Содержанием этой деятельности является бдительное внимание, обеспечение физического комфорта и поддержание благополучного эмоционального состояния ребенка за счет самого присутствия матери как ее «сенсорного мира». В современных условиях эволюционно ожидаемая стимуляция для матери отсутствует частично или полностью. В лучшем случае она имеет возможность контактировать с ребенком и кормить его, но практически всегда отстранена от обработки ребенка. Изменение эволюционно ожидаемой ситуации в этом периоде для матери состоит в следующем: перераспределение материнских функций, обедняющее стимуляцию, необходимую для возникновения эмоциональной связи с ребенком; «купирование» активной целенаправленной деятельности с полноценным операциональным составом, что создает необходимость «приложения» неизрасходованной энергии и нереализованных тенденций достижения цели и их замены другими содержаниями; замещение эволюционно ожидаемых впечатлений в сензитивный период обостренной чувствительности несоответствующими эволюционной задаче (образованию материнско-детской взаимосвязи); наличие частичной или полной сепарации матери и ребенка, как теперь хорошо известно, отрицательно влияющей на
материнское чувство женщины и психическое развитие ребенка. Все эти особенности могут быть по-разному выражены, в зависимости от этого различным будет их вклад в динамику развития материнской сферы. В любом случае, стимуляция от ребенка настолько сильна, что нередко способствует ощутимому изменению имеющихся тенденций.
Однако, как уже было отмечено в предыдущей главе,, ро-держание родового и послеродового периода действует не само по себе, а на фоне уже имеющегося отношения матери к будущему ребенку. В отличие от предыдущего филогенетического уровня развития психики, у человека временное отсутствие ребенка и изменение в материнских функциях после родов сочетается с сохраняющимся представлением матери о ребенке. Оно частично замещает и восполняет недостающую стимуляцию, «подправляя» изменение эволюционно ожидаемых условий. А как раз это представление наиболее связано с уже имеющимися особенностями материнской сферы роженицы. Это подтверждается данными M.J.Sveida, R.N. Emde и других о том, что особенности родов и послеродового контакта больше значения имеют при нежеланной беременности и других нарушениях материнского отношения и не влияют на развитие взаимодействия матери с ребенком при изначально благополучной беременности и отношении матери к будущему ребенку.
При описании этого периода следует остановиться на особенностях прикладывания ребенка к груди. В традиционных практиках прикладывание к груди является естественным и закономерным этапом послеродового процесса. В настоящее время контакт с ребенком сразу после родов и прикладывание к груди также признаны необходимыми, но еще не везде применяются. Значение послеродового кормления для ребенка достаточно ясно: это наилучшие условия для восстановления эмоционального комфорта, освоения новых стимулов от матери, удовлетворения и развития сосательного рефлекса, активизации всех процессов жизнедеятельности. Меньше всего первые кормления связаны с удовлетворением пищевой потребности. Небольшое количество молозива необходимо главным образом для поддержания иммунной системы ребенка. Для матери первые кормления грудью также выполня-
ют несколько функций. Трудно сказать, что здесь важнее. Стимуляция грудных желез способствует выработке молока, сокращению матки после родов, стимуляции физиологических и эмоциональных состояний, способствующих образованию психологической взаимосвязи с ребенком. Впоследствии отхождение молока в процессе кормления сопровождается образованием пролактина и окситоцина, которые стимулируют сокращения матки и выработку эндорфинов, которые в свою очередь способствуют переживанию матерью удовольствия от акта кормления. Это рассматривается как гормональное обеспечение возникновения и упрочения эмоциональной взаимосвязи матери с ребенком. Образование и поддержание уровня пролактина связано с длительностью акта кормления и перерывами между кормлениями. M.Konner отмечает в этой связи, что в традиционных культурах (племена Африки, Новой Гвинеи) ритм кормлений способствует поддержанию постоянного уровня пролактина в крови матери. Соматические ощущения при кормлении сходны с таковыми при оргазме, но менее интенсивны и почти не захватывают наружных половых органов. Продолжение стимуляции эрогенных зон только сокращениями матки без распространения возбуждения на область клитора и влагалища, при общем переживании состояния наслаждения («экстаз кормления») имеют сложную основу. Как уже обсуждалось выше, возникающие при кормлении такие ощущения «переводятся» в материнскую сферу за счет присутствия в ситуации ребенка. Способствует этому их постепенное развитие в процессе кормлений в первые дни. Изменения в родовых путях препятствуют распространению возбуждения на наружные половые органы при сохранении всех остальных компонентов, в том числе и сокращений матки. Восстановление слизистой оболочки и кровоснабжения половых органов завершается к тому периоду, когда ситуация кормления и сопровождающие ее ощущения и впечатления уже «хорошо освоены» матерью (конец первой недели). Таким образом есть все физиологические и психологические условия для образования нового устойчивого паттерна поведения. Как известно, осложнения с кормлением после родов чаще всего ведут к ограничению грудного вскармливания и
его преждевременному прерыванию. Возникновение полноценного переживания кормления происходит далеко не всегда. Возможно успешное кормление ребенка до конца первого года без каких-либо переживаний, подобных «экстазу кормления». По отчетам матерей, такое состояние чаще всего сочетается с игнорирующим стилем переживания беременности и соответствующим отношением к ребенку в дальнейшем (разной степени выраженности). Полноценные переживания при кормлении наиболее характерны для гармоничных взаимодействий матери с ребенком, сформированных предыдущим адекватным стилем переживания беременности, адекватным и близкими к нему стилями эмоционального сопровождения матери и устойчивой эмоциональной ценностью ребенка. Но и у них. могут быть отдельные кормления без выраженных субъективных переживаний. Для возникновения таких ощущений необходим психологический настрой матери на кормление, отношение к нему как эмоционально-насыщенному, интимному взаимодействию с ребенком. Как уже ясно, такое отношение возникает у матери не само по себе, а в сочетании физиологического обеспечения, содержания ее материнской сферы и условий родов и послеродового периода. Разумеется, большое значение имеет непосредственная ситуация кормления. Таким образом, этот период является необыкновенно важным для вступления в следующий, совпадающий с периодом новорож-денности у ребенка.
7-й период. Новорожденность
В этот период развитие содержаний потребностно-эмоци-онального и ценностно-смыслового блоков материнской сферы наиболее тесно взаимосвязаны и происходят на фоне общей жизненной ситуации. Период новорожденное™ во всех культурах выделяется и оформляется многочисленными правилами, обрядами, поверьями и т.д. Мать и ребенок всегда более или менее строго изолируются от внешнего мира и контактов с другими людьми. Помимо гигиенического значения в этом заложен глубокий психологический смысл. Обеспечивается центрация всей жизни матери на ребенке и своих переживаниях. Мать и новорожденный всегда территориально
объединены, в некоторых культурах спят вместе, а у арапе-шей (горное племя в Новой Гвинее) материнские функции распределяются между матерью и отцом и в первые недели они спят втроем . В этом племени считается, что родители создают душу ребенка совместно в первые месяцы после рождения. Контакт с другими людьми, помимо членов своей семьи, возможен, когда ребенок начнет улыбаться отцу (то есть по окончании периода новорожденности). В России первые 6 недель мать с новорожденным находились в бане под присмотром повитухи и близких родственниц. В мусульманских традициях мать с новорожденным первые 10 дней считаются нечистыми и до них вообще никому нельзя дотрагиваться, кроме тех, кто помогал в родах. В первые месяцы мать практически не прерывает контакт с ребенком, позже материнские функции распределяются между другими женщинами в семье.
Помимо территориального объединения с ребенком, для матери создаются условия, способствующие приданию всем ее переживаниям положительно-эмоционального значения и закреплению личностной ценности для нее этого периода жизни. Роженица полностью отстраняется от всех дел, кроме ухода за ребенком, или в крайнем~случае может что-то делать по дому, практически не прерывая с ним контакта. В новогвинейском племени манус матери разрешается выходить только ночью, чтобы искупаться . Существующие в каждой культуре формы организации послеродового периода способствуют общему положительно-эмоциональному настрою матери, делая ребенка основной причиной происходящих в ее жизни приятных перемен. Нередко перед родами мать возвращается в свою родительскую семью и остается там первые месяцы жизни ребенка, чаще к ней приезжают ее родственницы по материнской линии. В некоторых культурах мать наряжают в девические одежды и причесывают соответствующим образом, устраивается торжество, центром которого являются мать и ребенок. Своеобразный возврат в «лучшую пору жизни» происходит за счет присутствия близких людей и концентрации наиболее приятных воспоминаний и эмоций, связанных с детством и жизнью в родительской семье. В психоанализе принято считать, что в беременности происходит идентифика-
ция матери с ее ребенком, мать как бы возвращается в свое детство, актуализируются ее собственные переживания, что помогает ей после родов достичь необходимой чувствительности к состояниям ребенка. В классическом психоанализе упор делается на актуализацию личностных конфликтов, не разрешенных в детстве, а Д.Винникотт и его последователи видят в этом основу для вхождения матери в специфическое послеродовое состояние,, «первичного материнского чувства». Как бы то ни было, этот момент очень верно «ухвачен» народными традициями, обеспечивающими наилучшие условия для сосредоточения матери на ребенке и своих переживаниях и придании им положительно-эмоциональной окраски и личностного смысла за счет ведущих и ситуативных эмоций.
Помимо такого эмоционального аккомпанемента, на уп-рочениб ценности ребенка и образование конкретно-культурного варианта интерференции ее с другими ценностями влияет изменение социального и семейного статуса матери в связи с рождением ребенка. Наиболее это выражено в тех культурах, где статус жены и матери является различным. Например, в исламе женщина как жена - сосуд греха, существо второго сорта, для нее необходимо руководство мужчины. Женщина-мать, напротив, высший идеал, эмоциональные связи сохраняются пожизненно именно с матерью, ее статус в семье и обществе очень высок. С рождением ребенка она переходит в эту категорию. Кроме семейного и социального статуса, дети обеспечивают и связь с внешним миром, очень ограниченную для женщины в ортодоксальных исламских семьях. В культурах, где женщина ведет более активную социальную жизнь, наличие ребенка младенческого возраста служит причиной перераспределения ее жизнедеятельности таким образом, что она обеспечена в большой мере видами деятельности, связанными с личными удовольствиями (уход за ребенком и общение с ним), и ограничена в тяжелых работах. К ней проявляется повышенное внимание, обеспечиваются поддержка, защита от неприятных переживаний, вообще создаются наилучшие условия.
Описанные условия дают возможность матери сконцентрироваться на своих переживаниях в процессе взаимодействия с ребенком и кормления, не переориентируясь на техническую сторону, так как у нее всегда есть помощники, которые берут на себя именно эту часть материнских функций. Она также временно свободна от других своих функций жены и хозяйки. Ценность ребенка и своих собственных переживаний от взаимодействия с ним свободна от «внедряющихся» и подкреплена общим эмоциональным фоном ситуации. Иначе обстоит дело в нуклеарных семьях Евро-Американского типа, где, напротив, «внедряющиеся» ценности (необходимость выполнять функции жены и хозяйки, ограничение положительных впечатлений вместо их увеличения, недостаточность патронажа и т.д.) имеют все основания для ослабления ценности ребенка и мешают матери сосредоточиться на взаимодействии с новорожденным. Традиционное оформление периода новорожденности создает благоприятные условия для освоения инструментальной стороны операций ухода и операций общения, так как всегда есть рядом опытные и знающие помощники. Мать может плавно перевести свою реакцию на первый компонент гештальта младенчества в эмоциональное отношение к стилю движений ребенка (второй компонент), так как не возникает неуверенности и страха перед движениями ребенка. Такие же условия создаются для реакции на третий компонент гештальта младенчества (инфантильную результативность). На основе этого формируются стилевые характеристики операционального состава материнской сферы. В операциях ухода большое значение имеют особенности тактильного контакта матери с ребенком («холдинг в узком смысле» по Д.Винникотту). На предыдущих этапах развития женщина обычно не имела опыта обращения с ребенком в первые дни и недели после рождения с полной ответственностью за него. Теперь от нее требуется точная идентификация потребностей ребенка, адекватная этому организация своих действий и соответствующая эмоциональная их окраска (уверенность, бережность, ласковость движений). Эти качества существенным образом зависят от общей материнской компетентности и отношения к ребенку. Второе обеспечено типом оформления пе-
риода новорожденности, «накладывающимся» на стартовые содержания материнской сферы, а первое формируется непосредственно в процессе взаимодействия (разумеется, также на уже имеющейся основе). В развитии стиля операций ухода можно выделить следующие этапы, которые в общих чертах стабилизируются к трем неделям:
1. Первые реакции страха, опасения, растерянности или «трепетной осторожности», когда мать мало концентрируется на своих ощущениях от тактильного контакта, а в основном переживает смешанное чувство удивления, восторга или опасения и привыкает к внешнему виду и самому существованию ребенка. Это может проявляться в разных вариантах, от отношения к ребенку, как «чуду», до панического страха перед ним. „
2. Появление удовольствия от контакта и переход в «ласковую осторожность» или «тревожную осторожность» в зависимости от всей динамики содержаний материнской сферы и условий взаимодействия. На этом этапе возникает тенденция увеличивать или ограничивать тактильный контакт.
3. Появление уверенности в движениях и отделения инструментальной стороны операций от эмоциональных переживаний тактильного контакта в субъективном опыте матери. Тактильный контакт приобретает самостоятельный статус ласки. Мать начинает инициировать тактильный контакт, переводя его в средство общения. Обеднение эмоциональной ценности тактильного контакта под влиянием «внедряющихся» ценностей (необходимость перераспределения своих ресурсов между ребенком и другими функциями в семье и т.п., сниженная ценность ребенка, некомпетентность и т.д.) лишает тактильный контакт в процессе ухода самостоятельной ценности для матери и не способствует формированию его как средства эмоционального общения.
4. Обратное совмещение инструментальной и эмоциональной сторон тактильного контакта, возникновение индивидуального материнского стиля операций ухода.
Динамика развития стиля операционального состава может фиксироваться на каждом из этих этапов в зависимости от стартового содержания всей материнской сферы и условий периода новорожденности. Сходная картина существует
относительно операций общения и стиля эмоционального сопровождения. Большое значение здесь имеет развитие компетентности матери. Как показали исследования материнско-детского взаимодействия, период новорожденности в этом отношении является решающим. Уже обсуждались связанные с этим позиции Д.Винникотта, М, Кляйн и других исследователей, признающих, что развитие компетентности матери обусловлено ее особым состоянием, позволяющим ей идентифицироваться с ребенком. В теориях социального научения этот процесс рассматривается как взаимное научение членов диады посылать и распознавать сигналы о своих состояниях в процессе взаимодействия . В отечественных исследованиях подробно проанализированы развитие эмоционального взаимодействия, складывающееся к концу периода новорожденности , возникновение у матери различения интонационной структуры плача ребенка и его использование ребенком как средства взаимодействия и другие особенности. Выше было подробно рассмотрено формирование у матери стиля эмоционального сопровождения. Теперь ясно, что на него влияет, помимо всей истории развития материнской сферы женщины, ситуация периода новорожденности. Существующая в этой ситуации тенденция взаимодействия ценностей стимулирует образование варианта эмоционального сопровождения относительно именно этого ребенка (в пределах, ограниченных индивидуальными характеристиками матери).
Условия периода новорожденности влияют и на другие операции общения (эмоциональное выражение лица матери, глазной контакт, baby tolk). Заинтересованность матери внешним видом ребенка, способность и возможность сосредоточиться на его лице и «уловить» свои переживания при этом возникают только в том случае, если мать не отвлекают мысли, далекие от непосредственного взаимодействия. Мать может заметить изменения в мимике лица ребенка, движениях его глаз, губ. Она старается эти изменения уловить, удержать, стимулировать. Уже к трем неделям у таких матерей хорошо выражено «экспериментирование» с реакциями ребенка во время взаимодействия, которое выражается в изменении положения ее лица, удержании взгляда ребенка и возвращении
своего взгляда, когда ребенок «теряет» глазной контакт, стимуляции изменений его мимики, которую мать интерпретирует как выражение удовольствия. Для этого требуются время и эмоциональный настрой матери. То же самое относится к речи. Ребенок рано начинает двигать губами и произносить звуки, на которые мать отвечает (помимо общего включения baby tolk в процесс взаимодействия). Уже к двум месяцам можно отметить попытки ребенка изменить движения губ и интонации голоса в процессе речевого контакта матери с ним. Замечая это, мать активно использует новые возможности для расширения средств общения. Появляется возможность освоить средства взаимодействия, отъединить свои переживания от задач ухода, что позволяет впоследствии не смешивать свое удовольствие от общения с ребенком со значением гигиенических или лечебных процедур. Особенно это важно в тех случаях, когда у ребенка есть проблемы в развитии. Акцентация матери на своем удовольствии от контакта позволяет ей не демонстрировать ребенку свои переживания по этому поводу и не создавать общий неблагоприятный фон взаимодействия.
Разумеется, в условия периода новорожденности, помимо описанных, входят и особенности ребенка. Однако они имеют значение только в том случае, когда у новорожденного недостаточно или неадекватно выражены «эволюционно ожидаемые» для матери стимулы. Исследования процесса развития взаимодействия матери с ребенком в этом периоде показывают, что, во-первых, проявления необходимых форм поведения ребенка возникают постепенно и зависят от поведения матери, а во-вторых, существуют достаточно широкие индивидуальные границы этих проявлений. Отрицательно влияют на динамику развития материнского поведения и ее чувств к ребенку достаточно сильные нарушения во внешнем виде и поведении последнего (уродства, серьезная перинатальная патология, нарушения психики, в том числе и симптомы аутизма, свойственные недоношенным особенности внешнего вида и поведения, в частности непринятие ребенком припегающей позы при взятии на руки, отрицательная реакция на контакт и т.п.).
Все описанные особенности периода новорожденности для матери позволяют ей сформировать основу для налажива-
ния с ребенком тех отношений, которые описываются как симбиоз, диадические отношения, совокупная деятельность. Для матери это представляет собой способность адекватно воспринимать и на эмоциональном уровне переживать состояние ребенка. На основе этого понимания и в зависимости от содержания ее материнской сферы мать удовлетворяет потребности ребенка, о которых имеет представление (в физическом комфорте и пище), и те, о которых не имеет такого четкого представления и удовлетворяет их как свои (потребность в контакте, эмоциональном взаимодействии). Как уже ясно, для удовлетворения «знаемых» матерью потребностей ребенка так же необходимы ее собственные, от которых зависит качество ее действий.
В процессе взаимодействия с ребенком и освоения своих собственных переживаний стабилизируется и закрепляется возникшее еще в беременности отношение к ребенку как части себя, но в то же время самостоятельному существу. В данном случае можно говорить о «симбиотической фазе» и «фазе сепарации» для матери, относительно значения для нее именно этого ребенка. Такое отношение к ребенку обсуждается с двух точек зрения: возникновение чувства «мой ребенок» и появление отношения к ребенку как самостоятельному субъекту, личности, имеющему право на свои собственные переживания и дальнейшую самостоятельность. Возникновение чувства «мой ребенок» В.И. Брутман рассматривает как берущее свое начало в беременности и основанное на сложном комплексе соматических переживаний и представлений женщины о своем ребенке. Уже представление о ребенке как «части меня», образующееся в процессе смутных неосознаваемых ощущений, имеет основания для выделения его как части, которая затем оформляется в образ ребенка как нечто целостное. В течение беременности женщина «сродняется» с соматически-сознательным комплексом представлений о ребенке, и возникает чувство «мой ребенок» и «я - мать этому ребенку». После рождения дифференцированность этих представлений, помимо способности к переживанию состояний ребенка, дает возможность выделить его как самостоятельного субъекта. Индивидуализация ребенка, отношение к нему как к субъекту
является одной из существенных характеристик материнского отношения. Она позволяет матери приспосабливаться к особенностям ребенка и гибко варьировать режим , видеть в ребенке субъекта общения, стимулирует в дальнейшем успешность фазы сепарации и развитие Я - концепции, установление оптимальных детско-родительских отношений в более старшем возрасте .
Нарушения во взаимодействии матери с ребенком в период новорожденное™ имеют последствия не только для ребенка, но и для развития материнской сферы. Это касается и последствий сепарации, особенно длительной. Одной из форм такой сепарации является разделение матери с ребенком при преждевременных родах. Необходимые для матери условия не только нарушаются, но и усугубляются за счет опасности для ребенка. В таких условиях нередко резкое ослабление стремления матери к контакту с ребенком, нарушение грудного кормления и т.д.. Другим вариантом, осложняющим развитие материнского чувства, является рождение близнецов.
При анализе периода новорожденности необходимо остановиться на явлении послеродовой депрессии. Она известна давно, ее описание встречается в медицинских трактатах начиная с IV века нашей эры. Послеродовая депрессия в слабой форме отмечается почти у 50% женщин, сильно выражена в 1% случаев. Послеродовая депрессия может быть выражена в форме редких кратковременных эпизодов или постоянно повторяющихся и длительных состояний. Она возникает чаще всего в период новорожденности и может длиться от 2-3 недель до 5 месяцев. Чаще всего, особенно при слабой и средней выраженности, проходит сама. Физиологическим основанием послеродовой депрессии является гормональная перестройка после родов. Однако эта перестройка происходит у всех женщин, а депрессия возникает не у всех. Ее начало и выраженность не зависят от интенсивности гормонального фона, но существенно зависят от двух следующих факторов: а) индивидуальный стиль переживания женщиной гормональных изменений, сопровождающих разные фазы репродуктивного цикла (депрессивные состояния в пубертате, выраженный депрессивный характер предмен-
струального синдрома, склонность к депрессиям в первый триместр беременности); б) условия беременности и периода новорожденное™, способствующие резкому понижению ценности ребенка на фоне сильного напряжения «внедряющихся» из других потребностно-мотивационных сфер матери. Явления, поведенчески сходные с послеродовой депрессией, наблюдаются и у высших животных, в частности у приматов. В этих случаях мать полностью теряет интерес к детенышам и последние погибают. Обычно это сопровождается неблагоприятными для выращивания потомства условиями во внешней среде или в сообществе. В таких случаях единственная возможность сохранить мать как репро-дуктивно-зрелую особь до «лучших времен» - это избавить ее от потомства. У человека влияния внешних неблагоприятных условий, способствующих возникновению депрессии, всегда индивидуальны и выражаются в потере ребенком своей самостоятельной ценности для матери. Однако для нее абсолютно невозможно отказаться от ребенка (в данном случае не имеются в виду женщины, отказывающиеся от ребенка). Особенность послеродовой депрессии состоит в потере (или невозникновении) чувств к ребенку. Помимо фрустрации этого чувства, которое всегда в какой-то мере знаемо и ожидаемо для матери, возникает резкое чувство вины или ущербности, так как неизбежна оценка своего состояния по сравнению с имеющимися культурной и семейной моделями материнства. При послеродовых депрессиях, помимо психотерапевтического и при необходимости медикаментозного лечения, обязательно поддерживающее и внимательное отношение членов семьи. Для матери большое значение имеет, если она уверена, что ребенку оказывается необходимый уход, он обеспечен любовью и вниманием, которые она не может ему предоставить.
Описание периода новорожденности показывает его необыкновенную важность и значение для развития материнской сферы. Происходит стабилизация всех содержаний; освоение и развитие операционального состава; конкретизируется отношение к компонентам гештальта младенчества; возникновение переживаний от взаимодействия с ребенком формирует окончательное содержание потребности в материнстве
и потребности в заботе о ребенке; интерференция ценностей, конкретизируясь в условиях периода новорожденнос-ти, приобретает свое устойчивое содержание. Все это создает основу для перехода к следующему периоду пятого этапа, на котором мать и ребенок становятся «партнерами», разделяющими между собой совместную деятельность. Основные функции матери на этом этапе - эмоциональное санкционирование целедейственного звена в развитии структуры деятельности и формирование у ребенка привязанности и базовых структур отношения к миру.
8-й период. Совместно-разделенная деятельность матери с ребенком
В этом периоде у матер*и уже есть определенный стиль эмоционального сопровождения взаимодействия с ребенком и устойчивая реакция на первый и второй компоненты гештальта младенчества, а также на первый уровень третьего компонента (результаты физиологической жизнедеятельности ребенка). Все это составляет основу дальнейшего развития ее переживаний и поведения в ситуациях, где требуются ее функции как объекта привязанности и участия в деятельности ребенка в качестве эмоционального санкционера успешности достижения целей.
Образование у ребенка к концу первого полугодия объекта привязанности и соответствующего поведения проявляется в выделении матери среди других людей (имеется в виду не в субъективном мире ребенка, а во внешне выраженном поведении) и обращении к ней за поддержкой. Ребенок радуется приходу матери больше, чем другим людям, в ее присутствии быстрее успокаивается, к ней обращается при дискомфорте или в незнакомой ситуации. Ответное поведение матери обеспечивает уверенность ребенка в ее доступности и адекватности ее реакций. Большое значение имеет то, как мать реагирует на обстановку и поведение ребенка, который постоянно смотрит на ее лицо и по нему определяет значение ситуации. Здесь стиль эмоционального сопровождения матери формирует у ребенка повышенную тревожность и, возможно, чрезмерную зависимость от матери, если она усиливает его отрицательные эмоции, чувство эмоциональной изоля-
ции и избегающей привязанности при игнорирующем и осуждающем стиле эмоционального сопровождения. Если у матери адекватный стиль эмоционального сопровождения, то она оказывает ребенку своевременную поддержку, быстро компенсируя его неуверенность и обеспечивая возобновление интереса к окружающему миру. Исследования культурных вариантов привязанности показали, что особенности поведения матери в ситуациях ухода и возвращения, ее реакция на испуг ребенка в новой ситуации и т.п. различаются в разных культурах и ведут к формированию у ребенка соответствующей формы привязанности .
Включение матери в эмоциональное санкционирование целедейственного звена в структуре деятельности ребенка в этом периоде только начинается и происходит в процессе введения поощрения и запрещения активности ребенка. В дальнейшем, к концу периода, происходит расхождение этой функции в два направления: а) обеспечение ориентации на предлагаемые культурной моделью цели и средства удовлетворения потребностей; б) формирование стиля переживания успеха-неуспеха для будущей структуры мотивации достижений. Первое направление активно реализуется в следующем периоде, со второго года жизни, а второе развивается в процессе ситуативно-делового общения со второго полугодия и до окончания раннего возраста. Поведение матери в этих случаях основано на ее реакции на второй компонент гештальта младенчества (инфантильный стиль движений) и формировании отношения к разным уровням третьего компонента -инфантильной результативности. Самые первые регулирующие санкции матери проявляются в ее стиле поощрения и запрещения активности ребенка. Этот феномен исследовался Н.Н. Авдеевой, которая показала, что до трех месяцев ребенок реагирует с разной интенсивностью положительно как на разрешение, так и на запрещение со стороны взрослого, затем начинает различать эти воздействия и реагировать на них усилением или торможением своей общей активности. В конце первого полугодия младенец начинает вычленять действия, которые запрещаются или поощряются, а в начале второго активно требует эмоциональной «санкции» взрослого в совместной деятельности. Затем реакции взрослого включа-
ются в процесс ситуативно-делового общения, то есть используются непосредственно по назначению. После 8-9 месяцев и более активно к концу первого года ребенок, на основе собственного опыта взаимодействия с миром, сопоставляет реакцию взрослого и свои возможности и формирует индивидуальные стратегии реакции на запрещение. Функции матери здесь состоят в гибком сочетании поддержания общей уверенности ребенка в ее устойчивом благожелательном отношении, формировании ориентации ребенка на ее эмоции в процессе достижения целей и развитии самостоятельности. Это возможно в том случае, если ее собственные переживания соответствуют таким задачам.
В процессе взаимодействия с ребенком в предыдущем периоде у матери есть условия для перевода ее интереса с непосредственного контакта на интерес к активности ребенка, а затем результатам этой активности и переживанию ребенком полученных результатов. Реакции ребенка в развивающемся эмоциональном взаимодействии с матерью интерпретируются ею как то, что ребенок радуется контакту, хочет его и сам проявляет активность для его инициации и продолжения. Освоенные в процессе эмоционально-личностного общения способы совместного переживания положительных эмоций позволяют матери перейти на следующий этап - разделять с ребенком радость от его собственной активности, пока двигательной и связанной с процессом ухода и кормления. Затем яркая ориентация ребенка на действия матери с окружающими объектами, его интерес к предметам, которые держит в руках мать и действиям с ними (начало развития ситуативно-делового общения) служит материалом для перевода интереса матери к совместным действиям с ребенком, в которых он ярко демонстрирует особенности своей инфантильной результативности. Переживания самого ребенка от достижения целей и получения ожидаемых впечатлений являются мощным подкреплением, ради которого производятся различные эмоциональные игры, забавы и т.п. Успехи ребенка в манипулятивной деятельности, его новые реакции на мир, узнавание предметов и ситуаций и т.п. продолжают этот процесс. Таким образом, в благоприятных условиях само развитие ребенка обеспечивает перевод инте- реса матери с переживаний от контакта с ним на удовольствие от результатов его активности.
Однако реальная жизнь требует ограничения активности ребенка и введения не только поощрения, но и запрещения его действий и предупреждения их результатов. В зависимости от содержания материнской сферы и особенностей матери нско-детского взаимодействия мать может по-разному использовать запрещающие и поощряющие санкции. При адекватном стиле эмоционального сопровождения, устойчивой ценности ребенка и благоприятных условиях взаимодействия мать в первые месяцы подкрепляет любую активность ребенка, к трем месяцам, когда ребенок уже может что-то схватить сам, перевернуться и т.п., организует его окружающее пространство так, чтобы ничего опасного не могло произойти. В таких условиях необходимости для запрещения, которые ребенок в этом возрасте воспринимает как обобщенную отрицательную оценку своей активности и себя, просто не возникает. Возможен только «перехват» действий ребенка и направление их в другую сторону, но не запрещение. Позже мать начинает включать запрещение, но, избегая неприятных для нее отрицательных реакций ребенка, сразу переключает его активность, используя имеющуюся у него тенденцию предпочтения предметов, с которыми она сама действует. На этой основе формируется эмоциональное обеспечение ситуативно-делового общения, и матери становятся интересными действия ребенка, она создает условия для их результативности. Это позволяет ей, с одной стороны, поддерживать его инициативу, а с другой стороны - относиться к «нарушению запретов» так, чтобы обеспечить безопасность ребенка и не ограничивать его самостоятельность. Освоенные уже способы распределения своих эмоций, переключения активности ребенка и т.д. позволяют не ужесточать меры воздействия. В этом возрасте (во втором полугодии) перераспределение материнских функций уже более широко используется, в традиционных культурах большую часть времени ребенок проводит с теми, у кого нет других задач и интересов, кроме участия в его деятельности (старшие или младшие члены семьи). Это позволяет матери включаться при необходимости для"обеспечения функций объек-
та привязанности и только частично - во взаимодействие ребенка с предметным миром.
При игнорирующем или осуждающем стиле эмоционального сопровождения мать своим отношением обесценивает достижения ребенка для него самого, ей мешают его движения и их результаты, она не старается заранее организовать ситуацию взаимодействия так, чтобы не возникало необходимости запрещающих санкций. Активность ребенка становится не желанной, а, напротив, докучливой. Мать старается по возможности заменить себя дублерами или игрушками. В результате она не имеет возможности освоить удовольствие от постоянно меняющихся способностей ребенка. Чем старше он становится, тем больше ресурсов (физических и эмоциоьных) требуют от нее, результаты деятельности pe6t, ка, а потребности в них для себя нет. В таких случаях мать чаще использует запрещения, чем поощрения. Стиль запрещений может быть разным, от механического ограничения активности ребенка, неподкрепления его инициативы до прямого наказания. В конце первого года резкое повышение активности ребенка воспринимается матерью как непослушание, своеволие, капризы. Как показало исследование Н.Н. Авдеевой, у детей, в зависимости от стиля поведения взрослых (использования поощрения и запрещения), развивается стратегия ориентации на подкрепление своей активности (ориентация на поощрение и поддержку) или угнетение инициативности, ориентация в регуляции своего поведения на запреты. Последнее характерно для детей, воспитывающихся в детских закрытых учреждениях. Это уже имеет прямое отношение к формированию основ мотивации достижений. Исследования более старших детей показывают, что в условиях строгой регламентации поведения взрослыми, недостаточной поддержки собственной активности ребенка снижены мотивация на успех, самооценка, уровень притязаний.
Таким образом, к концу первого года стабилизируется стиль поведения матери не только в отношении ее функций как объекта привязанности, но и в эмоциональном санкционировании деятельности ребенка. В следующем периоде эти ее особенности реализуются во введении культурных норм и правил поведения, а также создают основу для развития нового интереса к ребенку как субъекту собственного отношения к миру, развивающейся личности.
9-й период. Возникновение интереса к ребенку как личности
Этот период приходится на второй год жизни ребенка. Функции матери здесь довольно сложные. Первое полугодие второго года для ребенка считается сензитивным для изменения формы привязанности. Это связано с необходимостью нового отношения матери к его активности, сочетанию обеспечения безопасности и самостоятельности. Излишняя тревожность и ограничение активности ребенка ведут к тому, что его вера в надежность мира и защиту матери могут поколебаться. Нечувствительность матери к проблемам ребенка, возникающим в связи с расширением его взаимодействия с миром, когда он вынужден сам справляться со своими страхами и фрустрациями, способствует развитию избегающей привязанности. Функции матери требуют от нее теперь гораздо больше ресурсов и включенности в деятельность ребенка, в первую очередь игровую. Здесь все большее значение приобретает перераспределение материнских функций в семье. Для матери должна быть возможность развивать свой интерес к внутренней субъективной жизни ребенка, без ущемления остальных ее интересов, которые теперь, после окончания грудного кормления и актуализации других задач жизнедеятельности, становятся более явными. Участие матери в играх ребенка и его действиях с предметами дает ей возможность увидеть изменения в его способностях и реакциях на свои результаты. Теперь он уже сам ставит цели и добивается их достижения. Имея собственную модель этого его поведения, мать подкрепляет или не подкрепляет поведение и переживания ребенка, продолжая свою функцию эмоционального сан-кционера в новых условиях его самостоятельной деятельности. Для этого у нее должны быть мотивация участия в игровой деятельности ребенка и интерес к его собственным способам постановки и решения игровых задач. Раскрывая для себя его постоянно изменяющийся внутренний мир, мать, во-первых, начинает видеть в ребенке растущую и развивающуюся личность, а во-вторых, у нее появляется интерес к его индивидуальному, самостоятельному пути развития. Она позволяет ему быть не «запрограммированным» и научается получать удовольствие именно от этих новых для нее изменений в ребенке. Если ей удается сформировать такое отношение, то она находит единственно верный для ее ребенка способ воспитания при введении правил и норм поведения, соответствующих ее культурной модели. Как было отмечено выше, в каждой культуре есть принятые способы воспитания. Но каждый раз они должны быть претворены в жизнь в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. Все это возможно при благоприятном развитии в предыдущих периодах. Устойчивая ценность ребенка и адекватный стиль эмоционального сопровождения матери, базирующийся на стартовой положительной реакции на все компоненты гештальта младенчества, сформированные на всех этапах онтогенеза материнской сферы, обеспечивают возможность развития личностного отношения к ребенку и поддержания его эмоционального благополучия практически при любых условиях. Другие варианты содержания материнской сферы более подвержены модификациям в зависимости от условий актуального материнства. Эти модификации каждый раз индивидуальны и не могут быть строго типологизированы. Причины нарушений материнско-детских отношений и прогноз их развития должны строиться с учетом всех особенностей онтогенеза материнской сферы матери и особенностей ее взаимодействий с ребенком.
Ю. И. Шмурак
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ1
Не только медики и физиологи, но даже психологи сегодня по большей части не видят во внутриутробной жизни никакого психологического содержания. Ни отечественные, ни зарубежные психологи никогда не пытались представить плод в утробе матери как объект какого-то целенаправленного воспитательного воздействия. А между тем развитые практики пренатального (предшествующего рождению) воспитания существуют во многих, если не в большинстве традиционных культур. И когда обнаружилось, что никакие технологические усовершенствования в акушерстве и гинекологии не способны ни снизить перинатальную патологию, ни усилить привязанность матери к младенцу, - на новом уровне возродился интерес к этим полузабытым народным практикам. На Западе (прежде всего в США и Франции) это произошло в начале шестидесятых годов, в России - в середине восьмидесятых, и в обоих случаях это, видимо, было прямо связано с более широкими общественными переменами.
Несколько поколений людей, рожденных в больнице, аккумулировали в себе опыт страха, переживание опасности, буквально «с молоком матери» впитали «обученную беспомощность». Между тем, известно, что приспособительные системы укрепляются, когда человек переживает чувство ответственности, и угнетаются чувством беспомощности. В обществе появился «спрос» на «сознательных» родителей и сознательно рожденных детей с такими «функциональными органами», которые избавляют младенца от врожденного страха аннигиляции, позволяют развивать исходное доверие к миру и людям, и, соответственно, психическую активность.
Однако психологической концепции беременности пока нет.
Возникает парадоксальная ситуация: пренатальное воспитание - и вполне успешное - реальный факт, но что собственно подвергается воздействию, с какой целью, какие механизмы при этом затрагиваются, - не известно ни психологии, ни философии.
НЕСКОЛЬКО ПЕРВИЧНЫХ ПОНЯТИЙ
В первую очередь, видимо, необходимо четко выделить и описать сам объект воспитания. Но этому препятствует полная неразработанность в психологии соответствующих понятий. Поэтому чисто эмпирически введем понятие «пренатальной общности» как объекта пренатального воспитания. Пренатальная общность ограничена во времени зачатием и рождением и включает в себя вое связи и отношения с миром, реальные и воображаемые, в которых находится женщина, ожидающая ребенка. Следует отметить, что границы пренатального возраста (зачатие - рождение) задаются существующей культурой и не являются раз и навсегда жестко определенными. Представитель мистической школы Т. Сарай-даркан в своем докладе о сознательном зачатии на Конгрессе пренатальной психологии в 1985 году утверждал, что присутствие человека в мире начинается за год до зачатия.
Мы можем воспользоваться понятиями из концепции развития субъективности. Согласно этой концепции, развитие ребенка представляет собой чередование относительно стабильных периодов (периодов становления) с критическими периодами. Это справедливо для развития и «детско-взрослой общности» (событийности, т.е. системы отношений, связывающих ребенка со взрослыми), так и для развития внутреннего мира (субъективности) ребенка. При становлении общности преобладают процессы отождествления, при становлении субъективного мира - процессы дифференциации, обособления. Эта концепция позволяет избежать искусственного разделения пренатальной общности на «мать», «плод», «семью», «пренатального инструктора» и рассматривать то, что происходит до рождения, целостно - с точки зрения происходящих внутри общности процессов. С позиции внешнего наблюдателя, в психологическом мире матери
ребенку как самостоятельному субъекту нет места. Но при этом ничто не мешает матери субъективно разделять себя и ребенка, мыслить его как «моего ребенка», а не «мою беременность». Период, когда в «событии» общности преобладают механизмы отождествления, а во внутреннем мире матери идут процессу обособления, осознание Себя беременной, мы будет называть «до-коммуникативным». Его временные границы размыты. Наши наблюдения за беременными в Центре психического здоровья АМН СССР в 1988-1989 годы, подтвержденные данными истории болезни и индивидуальными картами беременной, показывают, что у тех женщин, у которых стимулируется реализация самобытности и принятие позиции матери, коммуникативный период (ощущение, что ребенок двигается) наступает на две-четыре недели раньше принятого срока (двадцать две недели для первородящих), притом, что структурно и функционально эмбрион оснащен для этого гораздо раньше.
Необходимо ввести еще одно различение. Мы будем говорить о «присутствии» субъективности ребенка в субъективности матери и о развитии в сторону обособления, а также о «присутствии» ребенка и матери в «событии». Таким образом, существуют три критических перехода, три точки, в которых внутриутробная жизнь как психологический феномен становится доступна наблюдению. Это, во-первых, сам процесс рождения, во-вторых, процессы превращения внутреннего мира «женщины с животом» или «с болезнью» во внутренний мир будущей матери, в-третьих, процесс развития коммуникации между ребенком, увеличивающим спектр движений, и матерью, которая, с одной стороны, создает совершенно новую программу реагирования, а с другой - продолжает накладывать на движения ребенка имеющиеся у нее эмоциональные и поведенческие стереотипы.
Первый аспект - аспект рождения - изучается с относительно недавнего времени, Он отражен в работах Станислава Грофа и Фредерика Лебойе. Второму аспекту наибольшее внимание уделял психоанализ. Третий аспект изучался в основном в рамках эмбриологии. Психологическому изучению процессов коммуникации во внутриутробном периоде посвящена книга Томаса Верни «Тайная жизнь нерожденного ребенка».
КРИЗИС РОЖДЕНИЯ
Кризис рождения вносит в жизнь ребенка резкую полярность: прошлого и настоящего, радости и страданий, света и темноты. Все описания отражают острые, насильственные, извне вовнутрь направленные катастрофические изменения. Вместе с тем внутриутробный ребенок не является пассивным. Рождение - активный процесс и с точки зрения биологии, поскольку гормоны, запускающие схватки, вырабатываются в теле ребенка, и с психологической точки зрения, поскольку внутриутробный младенец к моменту рождения обладает большим опытом «приучения» к будущим схваткам.
Изменение характера «событийности» задано разницей в скорости роста тела ребенка и плодных оболочек. Тело растет, а пространство сжимается. Он «приучается» группироваться, сгибать позвоночник, ограничивать свои движения, поскольку чрезмерная атака на границу становится фактом сознания его матери, от которой он получает обратную связь. Вначале «Я» ребенка ограничивается еще не «другим», а лишь физическими границами тела. «Другой» появляется в акте, в котором движение ребенка соединяется с чувствами или иным ответом матери. Активность рождения концентрирует в себе весь опыт усилий, которые были позитивно санкционированы в период внутриутробного развития.
Рождающийся человек резко закрывает глаза (он умеет открывать их с шести месяцев внутриутробной жизни), обожженные ярким светом, он оглушается громкими командами акушерки и звоном инструментов, он не слышит привычных голосов матери и отца, его кожа, знакомая с прикосновениями амниотической жидкости и плодных оболочек, встречает грубые ткани, его легкие обожжены воздухом. «Первый крик - это крик «Нет!». - пишет Лебойе в книге «Рождение без насилия» - Это потрясение человека, которого убивают, насилуют. Это страстный, пылкий отказ от того, что на самом деле называют жизнью.» Поза эмбриона с согнутыми плечами, опущенной головой, подтянутыми коленями семантизируется как унижение и избегание в момент, когда акушер, держащий ребенка за ногу вниз головой, и сила тяготения требуют, чтобы ребенок развернулся.
Наблюдения показывают, что различия между новорожденными обнаруживаются на стадии этого первого выбора - одни разворачиваются, распрямляются, выгибаются, приобретая новый опыт и одновременно средства действия в новом мире, другие возвращаются в привычную эмбриональную позу, и всю последующую жизнь возвращение в положение «символического узника материнского лона» будет преимущественным и наиболее вероятным способом реагирования.
Исход «кризиса новорожденности» зависит, таким образом, не только от программы материнского ухода, но и от того, что приобрел ребенок в процессе рождения и во время внутриутробной жизни. Технологизированная система родовспоможения предъявляет ко всем новорожденным равно высокий уровень требований, она рассчитана на отбор «победителей». «Зона ближайшего развития» конкретного ребенка, появляющегося на свет в данный момент, совершенно игнорируется, т. е. условия, при которых он проявит максимум своих возможностей, остаются неизвестными.
Какова же та мера помощи, которую может оказать взрослый (мать, акушер) будущему ребенку, и как различить эту меру в недифференцированном поведении рождающегося человека? Ф. Лебойс описал идеальное рождение. Он говорит о языке понимания, о том, что при создании новой общности должно учитывать обретения прежней, пренатальной - медленный ритм, привычка к свету, рассеянному плодными оболочками, приученность к приглушенным голосам, связанность пуповиной. Всю эту обстановку можно воспроизвести при рождении. Новорожденного можно поместить вначале на животе матери, затем в ванну с подогретой водой, можно осуществить «лотосовое рождение», т.е. не обрезать пуповины, пока она не станет бесполезной. Этот постепенный, в ритме самого ребенка, переход означает признание его самоценности, подобно тому, как признали в эпоху Возрождения ценность детства.
В современном акушерстве новая для ребенка среда строится не по законам уподобления, а на основе противостояния, борьбы, по «мужским законам».
Отражение насильственной, обижающей, репрессивной
по своей природе обстановки рождения человека весьма своеобразно исследовал Гроф. Он систематизировал и обобщил эмбриональные переживания пациентов, находящихся в измененном состоянии сознания. В совместной с Кристиной Гроф работе «Сияющие города и адские муки» он описал процесс рождения так, как он видится изнутри и сохраняется в бессознательном в виде «перинатальных матриц», на основе которых в течение жизни конденсируется весь последующий опыт. В первой фазе, соответствующей регрессу к началу родового процесса, «океаническое чувство» единства сменяется всеобъемлющим беспокойством и ощущением опасности для жизни. Вторая фаза, совпадающая с первой клинической стадией родов, - это время, когда «существование кажется лишенным смысла», происходит концентрация на роли жертвы, невозможности спастись и безысходности. Третья перинатальная матрица, соотносящаяся со второй стадией родов, воплощается в переживаниях напряжения, борьбы, сопротивления, ярости, сильного возбуждения. Четвертая матрица (третья клиническая стадия родов) переживается как максимум боли, смерть и повторное рождение. Страдания и агония доходят до переживания разрушения.
Важно отметить, что на разных стадиях рождающийся ребенок может иметь средства, позволяющие перейти от положения жертвы к активным действиям. Эти способы и средства зависят от меры помощи матери. Например, замечено, что у женщин, имевших в дородовом периоде расстройства невротического уровня, эмоциональные нарушения, осложнения в отношениях с другими людьми, ослабляется сократительная деятельность матки, не выражена доминанта дна. А когда у рождающегося ребенка нет средств для освоения новой стадии рождения, возможен регресс к предыдущей. Например, при ослаблении сократительной деятельности матки активность ребенка угнетается.
КОММУНИКАТИВНЫЙ ПЕРИОД
В какой же момент изменяется форма совместного бытия? Некоторые авторы считают, что все контрасты возникают в момент первого вдоха, при первом разрыве зависимо-
сти дыхания; до того, как кровоток изменит свое направление, существует психофизиологическая неразделенность. Другие видят сигнал изменения того, что мы здесь называем «со-бытийностью», в движении плода. В чреве матери жизнь ребенка делится на два неравных периода, когда в результате различия в скорости роста тела-ребенка и плодных оболочек появляется новый фактор - граница, предел для движений, и вместе с ней - ограничение свободы. Граница принадлежит не только миру бытия, но и субъективному миру матери. С этого момента начинается «совместная деятельность» матери и ребенка, ребенок двигается, мать ощущает эти движения и дает ему обратную связь - вначале только тем, что замечает или игнорирует эти движения, затем посредством гуморальной регуляции негативно или позитивно санкционирует те или иные движения, затем появляется возможность прикоснуться, обратиться, исследовать тело ребенка через свой живот.
Первичная адаптивная система ребенка (структуры древнейшего мозга и нейроэндокринная система), в свою очередь, стимулирует развитие сенсорики. Есть сведения, что латеральная часть гипоталамуса содержит специфические клетки, преобразующие сенсорные связи между стимулами в чувство удовольствия.
Зрелость первичной адаптивной системы зависит от эмоциональной среды матери, от ее образа жизни. Общая для матери и ребенка адаптивная система угнетается чувствами беспомощности и бесполезности, утратой любви, чувством покорности и поражения и укрепляется противоположными - ответственностью, руководством, чувством творчества, победы.
Чем разнообразнее воздействие на ребенка на этом этапе, тем больше дифференцированна его экспрессия, тем • больше стимулов он начинает «узнавать» после рождения. Т. Верни отмечает также важность регулярно организованной психологической среды, которая позволяет ребенку выделять повторяющиеся воздействия, «систематизировать» их. Таким образом возникает целостная программа, в которой в живой нерасчлененности присутствует и воздействие матери, и поведение ребенка. Ему же принадлежит наблюдение, что внутриутробный младенец предпочтительнее и быстрее осваивает те воздействия, которые обращены непосредственно к нему. Мать, субъективно обособляя ребенка, вступая в отношения с ним как с «Другим», соединяет его с миром, готовит предпосылки для его связей с будущей средой. Каждая волна материнских гормонов выводит внутриутробного младенца из обычного состояния, он начинает «ощущать», что произошло нечто необычное, и пытается «понять», что именно.
Понимание обеспечивается самим совершением движения. Некоторые движения, относящиеся к экспрессии, наблюдались с помощью кинокамеры, вживленной в стенку матки.
Выяснилось, что пятимесячный эмбрион слышит громкие крики, пугается, «сердится», «грозит», реагирует на слова и ласки, изменяет поведение в зависимости от настроения матери.
Предпосылки этого многообразия закладываются еще в до-коммуникативный период, когда мать непосредственно не ощущает присутствие ребенка как отдельного существа. На втором месяце внутриутробной жизни развивается центральная (ЦНС) и периферическая нервная система, полуторамесячный эмбрион реагирует на боль, отстраняется от света, направленного на живот матери, на прикосновение к подошвам, в шесть-семь недель возникает орган вкуса (позднее он начинает ощущать вкус и запах околоплодных вод - важность этого фактора в коммуникации впервые отметили микропсихоаналитики).
Эмбрион способен реагировать на настроение матери еще до появления ЦНС, когда его клетки способны улавливать изменения в составе крови. С шести месяцев, согласно Верни, берет свой отсчет интеллектуальная и эмоциональная жизнь ребенка. Его поведение в этот период изменяется в ответ на голос матери и отца, эмбрион способен увязать свое поведение со знакомым голосом, способен даже к опережающему отражению в своем поведении; он «знает», какие движения вызовут чувство удовольствия, какие-неудовольствия. Мать активно интерпретирует поведение ребенка как своими чувствами, так и поведением. Подобные случаи интерпретации мы наблюдали, исследуя психологические предпосылки нарушения психического здоровья у младенцев. Одна будущая мама интерпретировала чрезмерные движения своего ребенка словами «хулиганит», «безобразничает» и надевала бандаж, а другая трактовала сильные толчки как «ему не хватает воздуха, он хочет погулять» - и выходила на свежий воздух. Кроме того, шестимесячный эмбрион, испытывая давление амниотической жидкости, сворачивается, переворачивается вниз головой; он умеет сосать палец, закрывает руками лицо, когда мать волнуется. Семимесячный эмбрион не просто воспринимает звуки, но отвечает на них, толкая именно в переднюю часть живота.
Таким образом, коммуникативные средства имеют биологическую природу, но отбор их, несомненно, отражает присутствие в их развитии «культурного» влияния, в частности, установок и интерпретаций матери.
Дополнительным аргументом в пользу «рефлексивной», а не только химической природы реакций ребенка на внешние стимулы, является тот факт, что ребенок отвечает на стимулы, которые нейтральны для матери и не нарушают ее гормонального баланса.
ДОКОММУНИКАТИВНЫЙ ПЕРИОД: ФАНТАЗИИ БЕРЕМЕННОСТИ, СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО МАТЕРИНСТВА
Неосознаваемое влияние матери на пренатальную среду возможно через подавленные чувства. Например, когда ребенок является нежеланным для кого-либо из членов семьи; этот факт известен матери, она избегает думать об этом, но подавленный гнев и обида проникают во внутренний мир пренатальной общности.
Когда мы рассматривали пренатальную общность с позиции внешнего наблюдателя, то выделяли границы между различными сменяющими друг друга формами «события» в течение внутриутробной жизни. Аналогичные границы должны существовать и на другом «полюсе» - между сменяющими друг друга формами субъективности - при переходе от субъективности матери к предпосылкам субъективности ребенка. Для обозначения этих форм субъективности будем употреблять термин «присутствие». «Присутствие» субъективного мира матери и предпосылки субъективного мира ребенка обнаруживаются в тех областях, с которыми традиционно имеет дело психоанализ - в сновидениях, телесных симптомах, чрезмерных, неадекватных реальности чувствах и т. п.
Форма и содержание «присутствия» закладываются задолго до наступления реальной беременности - еще в детстве и воплощаются в так называемых фантазиях беременности. Фантазии беременности были обнаружены 3. Фрейдом у взрослых пациентов, мужчин и женщин. Они появляются в раннем детстве, подвергаются изменениям в ходе развития и влияют на последующее поведение (не только репродуктивное) больше, нежели реальные знания пациента о зачатии, вынашивании, рождении. Фантазии относительно беременности являются повсеместными, составляют основной момент детской поглощенности и имеют свою историю. Они не относятся к какой-либо одной стадии индивидуального развития, а видоизменяются вместе с переменами в жизни и сознании ребенка. Анна Фрейд впервые классифицировала эти фантазии, описала условия, при которых происходит замена одних фантазий другими и связала их символическим рядом «грудь-фекалии-пенис-младенец». Она сделала акцент на том, что каждый из этих символических объектов, проявляющихся в фантазиях беременности, являлся в свое время частью «Я» и претерпел в результате взаимоотношений с другими людьми болезненное отделение от «Я». Она также подчеркнула, что Эдипова стадия, являясь первой групповой, т.е. подлинно социальной стадией, перерабатывает в фантазиях беременности более ранние стадии, и предмет фантазирования приобретает человеческие черты, черты ребенка, черты «Другого». К 9-11 годам у ребенка есть уже все психологические средства для того, чтобы стать матерью или отцом, чтобы психологически принять ребенка, - остается только освободиться от инцес-туозных объектов любви.
Наиболее крупное исследование психологического содержания беременности принадлежит Елене Дойч. В двухтомном труде «Психология женщины» она исследовала, в частности, связь детских переживаний и фантазий беремен-
ности у матери с самочувствием, эмоциональной жизнью и практическим поведением беременной, т. е. то, как «присутствие» проявляется в жизни и пренатальной общности.
Е. Дойч подробно описала и природу и содержание конкретных форм «присутствия» детского опыта матери в текущей беременности и попыталась увязать «присутствие» матери и «присутствие» плода. С точки зрения психоанализа, такой единицей совместного «присутствия» в докоммуникативном периоде вполне может выступать болезненный симптом. В некоторых из таких симптомов больше заметно присутствие эмбриона, например, в телесных симптомах (тошнота, отеки и т. п.) - они отражают переход «присутствия» ребенка в «присутствие» матери, т. е. их появление предшествует ощущению матери. Другие, эмоциональные: страхи, возбуждение, угнетенность и т. п. - отражают обратный переход, возникая вначале как некое общее эмоциональное беспокойство, которое лишь позже находит себе подходящий объект, различный в различных культурах. Так, в одних странах преобладает страх покалечения ребенка при родах, а в других - страх перед насилием. В этом классе симптомов ребенок вторичен, реактивен. Обращаясь к медицине, мать стремится избавиться от симптома, с которым, как считает Дойч, связан негативный опыт из ее собственного детства. Но тем самым она стремится сохранить беременность лишь как факт органический, но избавиться от субъективного мира беременности, отказаться от обратной связи, избежать осознания реальности данной беременности, отказаться от разведения прошлого и настоящего опыта. Стремление перепоручить медицине воздействие на свой субъективный мир означает одновременно отказ от исследования и переживания опыта данной беременности; откладывается превращение «больной» в мать. Это регрессивное решение влияет на поведение плода, который уже начал двигаться, хотя мать пока не замечает этого: его активность уже угнетается и селектируется посредством чувств, вынесенных из раннего детства матери.
Обнаружив чрезмерную склонность беременных к регрессивному оживлению своего раннего опыта, психоаналитики по-разному объясняли это явление. Ференци, например, пытался объяснить происходящее через извечную борьбу сил жизни и
смерти, внутриутробный младенец описывается им как «эндопаразит», эксплуатирующий тело матери. Одновременно возникал вопрос о том, что может уравновесить, окультурить разрушительные влияния, т. е., по сути, о пренатальном воспитании. Е. Дойч считала, что негативное влияние раннего детского опыта компенсируется «материнскостью» (Mothering), источник которой - в мазохистической любви, жертвенности и самоотдаче.
Внутри психоанализа проблема воспитания матери и плода так и не была разрешена, поскольку возник замкнутый круг понятий, в котором все позитивное имело биологическую природу и являлось только «культурной упаковкой» для выражения тех же разрушительных тенденций (например, «материнскость» Е. Дойч - окультуренный мазохизм).
Кроме симптомов, отражающих соприкосновение субъективности матери и «субъективности» внутриутробного младенца, существуют группы симптомов, за которыми стоит некая «недифференцированная субъективность»; в ней можно усмотреть присутствие только субъективного мира матери или исключительную «субъективность» ее неродившегося ребенка.
Первый вариант (группа симптомов, условно названная «отвержение») включает в себя ряд проявлений, начиная с откровенно злобного отвержения беременности и будущего ребенка и заканчивая таким образом жизни, когда женщина, вполне осознавая себя беременной и принимая беременность, тем не менее ведет себя так, как если бы она не была беременной, нередко подвергая опасности здоровье и жизнь будущего ребенка. Второй вариант, который мы называем «безмятежным симбиозом», характеризуется сверхзаинтересованностью в рождении ребенка: хорошее безмятежное состояние сопровождает всю беременность, отношение к будущему младенцу исключительно позитивное, но при этом будущая мать мало озабочена предполагаемыми потребностями ребенка, которого она вынашивает.
Очевидно, что в этом варианте чаще будет встречаться пассивная небрежность, скорее небрежное бездействие, приносящее вред или недостаточное для принесения заметной пользы (например у лежащей на диване с детективом в руках женщины ребенок как минимум недополучает сенсорной стимуляции). В этом варианте обособляющие тенденции накапливаются, откладываясь на послеродовой период. Ребенок, который не приобрел до рождения опыта взаимодействия с границами «Другого», поскольку знал лишь безграничное слияние, не вырабатывает и исходного доверия к миру. Он полон страха, ему нечего «сказать» матери своим поведением, потому что он и она - это один субъект, он не может коммуницироввть свой опыт, потому что его опыт не означен и не структурирован как «его».
И опыт «симбиоза», и опыт внутриутробного «отвержения» не дают сформироваться базисному доверию (Эриксон). Психодинамический подход связывает с нарушением базисного доверия нарциссическое развитие личности.
Обособление усиливается еще и тем, что у матери, пережившей безмятежную или отвергаемую беременность, нередко развивается послеродовая депрессия, ребенок вызывает разочарование, раздражение; подавление этих чувств обессиливает женщину и сокращает время и интенсивность контакта с младенцем.
Таким образом, «задача», которую докоммуникативный период ставит перед будущей матерью, состоит в том, чтобы постепенно выделить в своем субъективном мире место для своего ребенка.
Другой феномен, указывающий на интенсивную работу психики над образом «Я» и «Другой» - увеличение сновид-ческой продукции.
У беременных по сравнению с небеременными сновидчес-кая продукция увеличивается в десятки раз, сны становятся ярче, усиливается чувственный компонент, непосредственное переживание соучастия, более 40% сновидений касается ребенка - по сравнению с 1% в контрольной группе небеременных. Этот факт подтвержден Е. Дойч и М. Маркони, которая а своей книге «Девятимесячный сон» систематизировала сновидения пациентки в течение всей беременности. Яркость и необычное обилие сновидческой продукции, по нашим собственным данным, соответствуют снижению антирепродуктивных проявлений.
С увеличением объема сновидческой продукции уменьшается число жалоб на межличностные отношения, соматиче-
ские симптомы и снижение настроения. При исследовании явное содержание сновидений в 75% случаев отражало негативные события, дурные предчувствия и тяжелые эмоции, т. е. служило разрядкой стремления к отвержению. Сновидение перерабатывает опыт матери, осуществляет процесс «отвязывания» ребенка, которого она вынашивает, от символического ребенка внутри нее самой.
Описывая беременных, которые вели себя пассивно, относились пренебрежительно к своим потребностям, жили так, как будто беременности не существует, и не проявляли интереса к будущему ребенку, Е. Дойч высказала догадку о влиянии на беременность собственного эмбрионального опыта женщины. В семидесятые годы итальянский психоаналитик С. Фанти обнаружил у своих пациентов подобные феномены и обосновал существование еще одной стадии психического развития человека - эмбриональной.
Эта концепция дала возможность, во-первых, связать все последующие стадии с общим источником, и, во-вторых, выдвинуть идею о том, что женщина, забеременев, «вспоминает» и воспроизводит на органическом уровне свое состояние как плода, а в психологическом - состояние своей матери: здесь мы опять сталкиваемся с попыткой психоаналитиков развести аспекты бытия и сознания.
В рамках микропсихоанализа были разработаны специальные методики оживления, коррекции и интерпретации прена-тального опыта. В частности, пациент вместе с аналитиком рассматривает свидетельства жизни до его рождения (планы домов, фотографии родителей, кино- и фотоматериалы) и сообщает при этом о чувствах своих родителей и окружении до того, как он появился на свет. Вопрос о достоверности этого опыта для Фанти не имел значения - ему важно было лишь чувство достоверности у пациента.
Другой путь осмысления пре- и перинатального опыта предлагает С. Гроф через непосредственное переживание этого опыта в сеансе голотропного дыхания.
Примерно в одно время Гроф и Фанти поставили вопрос о том, какой конкретный механизм связывает пренатальный опыт с прижизненным. Гроф считает, что во время рождения закладываются системы конденсированного опыта, «трав-
матические воздействия более поздних ситуаций возникают в результате реактивации определенных сторон, психологического воспоминания процесса рождения». Ребенок, приобретающий во время рождения опыт избегания или сопротивления, аналогичным образом будет действовать в новых ситуациях. Человек приходит в жизнь с опытом рождения, а к рождению - с опытом присутствия в пренатальной общности.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ПРЕНАТАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
Вопрос о том, является ли вынашивание воспитанием, т.е. происходит ли при этом опосредованное включение будущего человека в общество, решался в разные элохи по-разному.
Первый этап, который мы будем называть семейным пре-натальным воспитанием или пренатальным воспитанием в малых сообществах, продлился в Европе до начала XVII века. Пренатальное воспитание не было частью общественной практики, не было массовым, государственным, а осуществлялось сообразно потребностям малых сообществ. В закрытых сообществах лидеры думали о будущих поколениях, проверяли и отбирали по тем физическим и нравственным критериям, которые вырабатывались в этом сообществе и поддерживали его целостность. Те, кто не проходил испытания, получали запрет на вступление в брак. В Древнем Китае, например, существовала система эмбрионального воспитания «тай-кье». Индийская традиция Чарака Сам-хита применяла прослеживание плода в течение третьего и четвертого месяца, а начиная с седьмого - ежемесячно. В дореволюционной России, особенно в северных регионах (Вологодская, Новгородская губернии) существовал свод правил и примет, регулирующих поведение беременной. Содержание пренатального воспитания состояло в передаче способов для саморуководства женщины во время беременности и родов, а с другой стороны, создавало некую временную общность и ставило женщину в особое положение в семье. При низком уровне развития медицины особый акцент делался на способности женщины родить самостоятельно, полагаясь на собственную интуицию и образ происходящего с ней, сформированный повитухой.
Второй этап в развитии пренатального образования наступил в XVII веке, «когда мужчина-медик основал акушерские училища, ввел в практику положение роженицы лежа на спине». С этого времени берет отсчет технологизированный «мужской» образ пренатального воспитания. Пассивность и зависимость женщины во время вынашивания и родов подвергали анализу с точки зрения различных концепций -этнографических, психоаналитических, культурологических. Важно отметить, что пренатальное воспитание прекратило свое существование как отдельная практика, на смену ему пришло родовспоможение с его собственным образом рождающегося человека как организма, как лишенного переживаний. Родовспоможение стало обязательной практикой, через которую проходили все женщины. Прочие практики являлись факультативными. В частности, когда в сороковых годах психоанализ проявил интерес к беременным, лишь очень небольшое число беременных имело возможность и пожелало посещать психоаналитические сеансы.
В нашей стране, начиная с пятидесятых годов, репрессивный стиль пре- и перинатальных отношений воспроизводили и поддерживали Школы будущей матери, которые открылись в этот период при каждой женской консультации и ставили целью передачу знаний о внутриутробном развитии. Действительным результатом взаимоотношений женщины с врачом (до настоящего времени занятия в таких школах ведут врачи-гинекологи) являлось принятие позиции «снизу», передача ответственности медицине, страх перед родами, беспомощность и непонимание связи с собственным опытом, утрата интуиции. Ребенок виделся как объект манипулирования. Поведение и чувства матери, направленные на будущего ребенка, складываются в соответствии со стереотипами общественного сознания. Эти стереотипы поддерживались законодательно и обеспечивали вовлечение и самой женщины, и ее ребенка в систему тоталитарных отношений, облегчали раннюю разлуку, делая ее безболезненной, и ранний переход к общественному воспитанию в детских садах и яслях.
Кризис «медицинского этапа» пренатального воспитания на Западе обнаружился на тридцать лет раньше, чем в на-
шей стране, - на рубеже пятидесятых-шестидесятых годов. Этому способствовали не столько мировоззренческие, сколько практические проблемы, упоминавшиеся в начале статьи. В поисках выхода прогрессивные медики обратились к гуманитарным областям - психологии и философии. Возникла нетрадиционная практика, в которой прежде всего была восстановлена фигура пренатального наставника, был сделан акцент на его индивидуализированной связи с будущей матерью, на создании специфической пренатальной среды, в которой происходила кристаллизация ее индивидуальности.
Возрождение пренатального воспитания как особой области образовательной практики относится уже к третьему этапу, который мы будем называть «альтернативным». Отсчет этого этапа следует вести с 1962 года, когда Мишель Оден организовал в акушерской клинике в Пицивьерсе (Франция) первый Центр пренатальной подготовки. В настоящее время во всем мире действуют различные центры пренатальной подготовки, существуют разветвленные службы «естественного деторождения», которые предлагают юридическое, медицинское, тренировочное, психолого-консультативное обслуживание. В Англии действует около десяти, в США около тридцати таких организаций, в Дании, Голландии такая служба - часть официального государственного пренатального сервиса. Некоторые организации, например, Международная организация домашнего деторождения, Международная ассоциация обучения деторождению, «Международное Возрождение» не только представляют собой мощное движение за улучшение детского и материнского здоровья, но и воспроизводят качественно иные по сравнению с традиционными «репрессивными» или «опекающими» связи в общности «мать-плод-прена-тальный наставник». Возрождение пренатального воспитания происходит и в рамках различных духовных и религиозных организаций. Следует отметить Национальную ассоциацию пренатального образования (ANEP) во Франции, строящую свою работу на идеях О. М. Айванхова о совершенствовании человека и фактически действующую благодаря поддержке Ассоциации Всемирного Белого Братства, Общество биогенетического здоровья в США, Мистическую школу сознательного зачатия и беременности.
Нетрадиционное пренатальное воспитание включает в себя, во-первых, подготовку к естественному рождению с целью смягчить критический разрыв для матери и ребенка и обеспечить «паузу», во время которой мать и ребенок приобретают возможность преодолеть психологическую разде-ленность (к конкретным техникам относятся «лотосовое» рождение - без обрезания пуповины, прикладывание к груди сразу после рождения, ритм обстановки рождения, максимально приближенный к ритму внутриутробной жизни, и т.п.). Второй важный момент - это развитие способности матери получать информацию о состоянии и поведении ребенка во время беременности (при помощи техник из арсенала различных духовных практик-медитаций, упражнений, музыки, манипуляций с освещением и т. п.). Третья часть пренатального воспитания - это целенаправленное формирование способности матери изменять свое эмоциональное состояние и передавать его ребенку. Четвертая составляющая пренатального воспитания касается тесного контакта будущей матери с другими беременными и с пренатальным наставником.
В отличие от Запада, где кризис в акушерстве был вызван противоречиями между высокоразвитой технологией и хронической нерешенностью репродуктивных проблем, в нашей стране кризис начался «сверху», вследствие резких перемен в самой социальной ситуации. Начиная с 1982 года, надвигается демографическая катастрофа, достигшая к 1990 году уровня депопуляции. В середине восьмидесятых годов женщины получили законное право не разлучаться с ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Внутренняя противоречивость ситуации обнаружилась тогда, когда матери, получив относительную свободу от материальных ограничений и социально культивируемого пренебрежения к беременности и раннему периоду жизни, предпочли в большинстве своем оставаться дома с ребенком. Оказалось, что физическое присутствие и гигиенический уход за «младенцем» не обеспечивают существования взаимобезопасной и взаимораз-вивающейся общности. Поскольку отсутствие пренатального опыта общения не осознавалось как источник проблем, последовало, с одной стороны, дальнейшее сокращение рождаемости, увеличившееся в связи с нарастанием социальных про-
блем, с другой - массовое обращение к различным нетрадиционным направлениям медицины, внутри которых и стало развиваться в нашей стране альтернативное пренаталь-ное воспитание.
К «медицинской» мотивации присоединилась «психологическая», поскольку поиск оздоровительных систем, внедрение в них и принципы оздоровления, предложенные Б. и Л. Никитиными, И. Марковским, требовали активного отношения и ответственности. Воссоздание пренатальной культуры в России можно датировать 1982 годом, когда И. Марковский прочел цикл лекций о водном рождении в клубе «Здоровая семья». Затем у И. Марковского появились последователи - Татьяна и Алексей Саргунас, ныне члены мировой организации «Аквакультура для Терапии, Экологии и Изучения» (WATER) и действительные члены организации «Водное рождение». С 1985 года началась работа по консультированию пар вначале по вопросам самостоятельного рождения и оздоровления, а далее все более смещаясь в сторону пренатальной подготовки, к 1986 году сложился Клуб здоровой семьи «Возрождения» при МЖК «Сабурово» в Москве. В начале 1990 года из «Возрождения» выделился творческий коллектив «Наутилус» под руководством М. Трунова и начал функционировать в составе малого предприятия «Экология семьи», а также творческий коллектив «Аква», директором которого стала Татьяна Саргунас - сначала в составе МП «Контекст», а с осени 1992 - как самостоятельное предприятие. Одновременно возникло ТОО «Стихиаль» (директор О. Тютин), которое совместно с научно-практической и социальной фирмой «Контекст» учредило Шелтозерский центр гуманистических новаций «Айно», опирающийся в работе на местные традиции (г. Петрозаводск).
На сегодняшний день существует свыше десяти организаций, занимающихся в числе прочего пренатальным воспитанием. Кроме упомянутых, можно назвать такие, как «Аквамарина» (Москва), «Афалина» и «Кенгуру» (Ярославль), «Дельфа» (Тверь), «Воскресение» (Москва) и другие. Для всех источником был клуб «Возрождение».
На начальных этапах своего развития нетрадиционное пре-натальное воспитание концентрировалось на самих родах и
находилось в конфронтации с официальной медициной. Это определяло личностные особенности участников, посещающих занятия:
В 1988-1989 годах в рамках исследования, проводимого клиническим отделением психопатологии младенческого возраста, Центром психического здоровья АМН СССР, обследовались супружеские пары, посещавшие занятия. Сохранившиеся протоколы позволяют говорить о преобладании тех же типов, о которых упоминали в интервью врачи из отделения патологии беременности. Эти типы получили условные названия «протестные» и «зависимые». Для женщин, обратившихся к нетрадиционному пренатальному воспитанию в 1985-1989 годах, сам факт обращения был протестом, внутри которого проявлялись такие качества, как ревностная приверженность именно этому типу пренатального воспитания. Из числа «выпускников» рекрутировались новые наставники, т.е. система воспроизводила сама себя. Второй тип - женщины, которые показали себя неуверенными и сомневающимися в своих способностях самостоятельно родить и воспитывать ребенка в первые месяцы, часто высказывали сомнения в действенности методов, применяемых пренатальными инструкторами, были критичны к новой информации (например, сомневались, действительно ли во время медитации они видят своего ребенка или это результат внушения) - не выталкивались системой, но именно для них и ради них лидеры пренатального воспитания совершенствовали методы передачи знаний и организации процесса понимания.
Таким образом, действительно произошел переход от отбора, характерного для закрытых, самовоспроизводящихся систем, к воспитанию, предполагающему открытость системы и постоянный приток новых людей, новых Знаний и методов.
На сегодняшний день можно отметить некоторое различие между существующими пренатальными центрами. Некоторые из них более закрыты. Отбор там осуществляется на основе приверженности к той или иной идеологии (например, «Воскресение» строит пренатальное воспитание на основе православия), иногда критерием отбора выступают условия контракта, по которым пренатальный наставник не обязуется выезжать на роды (например, в «Наутилусе»). Другие не
заявляют принципов отбора, но имеют отличия, благодаря которым будущая мама может осуществить выбор. Например, в «Стихиале» активно используются методы пренаталь-ного воспитания, восходящие к языческим культам народов Севера России и Карелии, и большое внимание уделяется проработке психологических проблем матери и отца. Эта организация чаще всего сотрудничает с психологами.
К открытым следует отнести центр родительской культуры «Аква», поскольку в работе «духовных акушерок» Татьяны Саргунас и Юлии Фокиной ярко выражены ненасильствен-ность, внимание к возможностям женщины, выбор для нее своеобразной «зоны ближайшего развития», обязателен момент укрепления уверенности через переживание будущей матерью ее собственного успеха и силы. Это особенно касается тех ситуаций, когда будущая мать открывает в себе самой способность к пониманию и позитивной интерпретации поведения своего ребенка и к разрешению актуальных проблем. Много внимания уделяется самостоятельной работе в семье, где постепенно фокусируется пренатальная ситуация. Пре-натальный наставник выполняет роль временного посредника в отношениях семьи с будущим ребенком, посредника, уступающего свое место по мере того как наполняется содержанием общность «мать-дитя». В каждой из упомянутых систем новые «духовные акушерки» рекрутируются из числа выпускников. Стать инструктором пренатальной подготовки означает прежде всего создать свою собственную концепцию внутриутробного воспитания человека.
Во всех центрах приблизительно одинаковое содержание. Курс включает в себя темы, связанные с перинатальным опытом самой беременной, при этом используются мягкие техники изучения собственного перинатального опыта; целый комплекс физических упражнений на основе йоги, мантры и медитации с целью представить себе своего ребенка, почувствовать его присутствие; будущие мамы под руководством пре-натального инструктора что-нибудь делают для будущего ребенка, например, вышивают «обережную» сорочку; в некоторых группах используется совместное пение, которое впервые применил Мишель Оден, указавший на связь между пением, дыханием и раскрытием родового канала во время родов.
К сожалению, опыт пренатального воспитания мало отражается в публикациях. Мы уже отмечали брошюру Т. и А. Саргунас, несколько публикаций в периодических изданиях.
В последние полтора-два года, несмотря на сокращение числа рождений, наблюдается приток пар в систему пренатального воспитания. Этому способствует то обстоятельство, что пренатальныё центры функционируют как хозрасчетные или на средства спонсоров, что позволяет им рекламировать свою деятельность в печати и на телевидении, увеличивается контакт с зарубежными центрами пренатального воспитания, появляются литература, видеокассеты, фотоальбомы. Одни системы все больше открываются, другие закрываются и концентрируют свой опыт.
Одновременно отмечаются попытки сотрудничества с медициной. Так, например, в ноябре 1992 года Центральный институт акушерства и гинекологии заказал Коммерческо-бла-го-творительному центру программу пренатального воспитания. Фирма «Нина-Благовест» (директор Н. А. Чичерина) предлагает программу пренатального центра, предполагается, что этот центр будет функционировать как отделение французской ANEP. Привлекательность его для населения состоит в том, что к участию привлекаются врачи. Рост массовости в сфере пренатального воспитания остро ставит проблему психолого-педагогической экспертизы и юстификации подобных инновационных проектов. Тем более, что при тиражировании, а также при перенесении опыта из другой культуры неизбежно происходит редукция личностного компонента в общности «будущая мать - пренатальный наставник». Период такого рода массовости еще не начался, но уже появились его признаки, например, союз с бюджетными структурами (женскими консультациями, Институтом акушерства и гинекологии, больницами и т. п.), отчуждение «педагогического коллектива» от воспитуемых в процессе работы, смещение акцента от изменения мировоззрения в самом процессе взаимоотношений к технологии воздействия, и главное, иерархическая модель, позиционное неравенство. (Позиционное неравенство отличается от ролевого, поскольку роль пренатального наставника еще не выкристаллизовалась, подобно роли учителя, она еще не обладает признаками роли,
усвоенными участниками воспитательного процесса, следовательно, на эту ролевую неопределенность будут мощно проецироваться все привычным отношения: «ребенок-родитель», «врач-пациент», «учитель-ученик». Для того чтобы сделать эти проекции осознанными и использовать их для осознания всеми участниками пренатальной общности своего опыта, необходима психотерапевтическая работа как с инструкторами, так и с беременными.) Если собственная позиция пренатального инструктора и педагога пренатального центра не рефлексируется, общность будет иметь тенденцию к регрессу, а не к развитию. Настало время тщательно готовить пре-натальных инструкторов, обеспечивать им доступ к научной информации и поддержку психологической науки.
Т. Саргунас, А. Саргунас
БЕСЕДЫ С И. ЧАРКОВСКИМ*
ПЕРВАЯ БЕСЕДА
Так получается, что в любой области, будь это искусство, техника и т.д., люди учатся на лучших образцах. Давайте посмотрим, что происходит с сенситивными людьми. Вот, например, моя первая жена была очень мнительная. Я как-то взял медицинскую энциклопедию и стал читать вслух, она вдруг говорит: «Ой! Здесь болит, ой, тут болит, и здесь, и тут». В общем, все что я зачитывал, все «болело». Потом я догадался через какое-то время и сказал себе «стоп». Я про себя читаю и спрашиваю: «А что еще болит?» И у нее начинает «болеть» все, то что в энциклопедии, т.е., она могла даже описывать историю развития этих «болезней». Вот, например, сенситив сидит перед больным человеком и «входит» в его состояние, и у сенситива начинает также «болеть» то, что и у больного, и, когда болезнь снимается у одного, автоматически проходит и у другого. Или же сенситив видит стрессовую ситуацию, которую этот человек пережил когда-то, например, кого-то били, кошку задавили машиной, ужас какой-то, тогда он понимает причину психической травмы, а следствие этого - болезнь. Все это приходиться «снимать». Теперь вот что получается, когда талантливые и восприимчивые, сенситивные юноши и девушки попадают, например, в медицинский институт, их сразу же заваливают патологией. У них еще не оформилось противоядие против патологической информации, а их уже учат патологии. Ко всему прочему, у них здоровье надорвано, экзамены ведь и т.д., надрывается и психика. Им ведь дают такой объем работы, который ни один нормальный человек выдержать не может. У них происходит энергетическое обе-
* Т. Саргунас, А. Саргунас. Аква. Беседы с И. Чарковским. - М. 1992.
сточивание, и далее они уже сами становятся распространителями патогенной заразы. Когда такие врачи смотрят беременную женщину, они видят заболевания, которые действительно могут начать развиваться, потому что они сами подвержены всем этим вещам. Они заранее программируют, планируют болезнь. Получаются страшные вещи, и волосы дыбом от этого становятся. Кстати, к этому я пришел не путем теоретических домыслов. Родителям же говорю, чтобы к врачам поменьше ходили, чтобы те не знали о Вас, ну если и знали, то так, потихоньку и боже упаси; чтобы ничего им не рассказывали, не показывали. Мне звонят порой и плачут, а я чувствую, что на ребенка навесили чужеродное поле, и когда оно снимается, ребенок сразу же перестает кашлять, орать и прочее. Я родителей ругаю и выясняется, что они были там-то, о том, о сем беседовали, то-то сказали и их здоровый ребенок контактировал с мамой, у которой больной ребенок. Такая мама страдает и мучается, и когда мать здорового ребенка рассказывает ей и показывает, что нужно делать, чтобы ребенок выздоровел, естественно, у той возникает инстинктивная зависть, разные ее оттенки, тут и начинается... У детей, особенно младенцев, очень незащищенное поле, они очень сильно подвержены таким воздействиям, мыслям, эмоциям, т.е. они сенситивны, и это я уже точно знаю. Кстати, их очень легко лечить, если иметь сильное и хорошее поле. Например, я просто «обрубаю» все эти связи, а родителям говорю, что все эти болезни -чушь собачья, что ребенок здоров, и тогда начинается закладка хорошей информации, и система начинает развиваться в нормальном направлении. Если мне доверяют мама и папа, я беру младенца и погружаю его в ледяную воду, в прорубь. Для многих это кажется совершенно невероятным, и, если ребенок после этого выздоравливает, то в дальнейшем начинают верить любому моему слову. На самом же деле, здесь никакого чуда нет.
Во что превратилась медицина? Огромная армия медработников учится на патологии, культивируя и развивая ее, и что с этим делать, неизвестно. Например, больница. Это не место для больного, и если туда положить человека еще более или менее здорового, то в больнице он начинает учиться
болеть. Режим там безобразный, и вместо того, чтобы культивировать двигательную активность, культивируется постельная пассивность. Если попадется среди врачей сострадательный и сенситивный человек, то он практически умертв-ляется очень быстро, или же черствеет.
В области педиатрии, врач посмотрел ребенка - «что-то, где-то там, вроде бы, неладно, давайте серию лекарств вгоним». Последствия такого «лечения» никого не волнуют. А я говорю: «Это живые люди, да Вы что, с ума сошли?». Телепатическое распространение этой патогенной заразы совершенно реально.
Теперь давайте посмотрим работу хороших сенситивов, которые действительно лечат. Они говорят, что это за ерунда такая, будете делать to-tq, то-то, тогда будете абсолютно здоровы. Если есть нарушения в поведении, обязательно скажут. Эти сильные люди снимают первопричины болезней, и здесь, действительно, идут чудеса. С младенцами дело обстоит гораздо проще. Как правило, очень трудно работать не с ребенком, а с родителями, и часто мешают выздоровлению именно они.
- Часто родители неграмотны - они сами не воспитаны?
Марковский. Неграмотны, это еще ничего, а вот когда очень грамотные, например, медики, тогда совсем плохо. Потому что они уже выучили и знают кучу разновидностей заболеваний, и какие «ужасы» ожидаются. И вот эти «ужасы» начинают интенсивно работать, и ребенок всему этому обучается, как у заик учатся заикаться, также и ребенок в обществе профессоров медицины... Конечно, есть исключения. Например, Бехтерев был могучий мужик, который ликвидировал многие первопричины болезней просто своим присутствием. Сейчас я расскажу историю. Так вот, к нам пришла соседка, ребенок у нее стал мочиться в детском саду. Мальчишкам скучно, вот они и бегали в тихий час в туалет, мол, можно пойти, и тут ничего не сделаешь. Воспитательницам в конечном счете надоело все это, и они говорят: «Мы Вам сейчас поза-шиваем эти дела». Понимаете? А девочке захотелось по-настоящему, но она уже боится. Я смотрю эту девочку и вижу яркий образ, что такое, даже передернуло, что все у нее там- нитками перешито вдоль и поперек. Потом, в ре-
зультате подобного страха уже идет нарушение функций мочевого пузыря и т.д. Женщины вообще сенситивны, особенно в период беременности. Если она что-то услышала, какую-то информацию, раз! - и на себя это наложила и «отрабатывает». Поэтому-то роддом в современном состоянии является источником смертельной опасности для женщин, особенно сенситивных, потому что они легко внушаемы, открыты. Там лежат и бабы, которым на все и на всех наплевать, такая заложила себе за воротник и будет с трупами рожать, наплевать. Есть и тонкие, здесь уже другое дело. Теперь о детях. Наташа, например, рассказывала, что ребенок боялся родиться, потому что боялся женщины «с черными глазами», однако эта женщина не принимала роды, а была старшей в обслуживающем медперсонале. Наташа почувствовала, что ребенок упирается и не хочет рождаться, а на него жмут со всей силой. Одним словом, постановка медицинской практики должна подвергнуться резкой критике, и нужно искать выход из тупика.
Теперь о спорте. В спорте имеются образцы для подражания. Один что-то толкнул, другой кого-то ударил, бросил, третий сколько-то пробежал, то есть, существует модель, по которой можно строить себя, и такая модель реально работает. Множество людей, которые раньше мало,что могли делать, вдруг начинают бегать. Старики бегают, те, которые ходить не могли, а теперь по 10 километров пробегают. Почему? Потому что все бегут, создается мощное общее биополе, они к нему подключаются, потом опыт этот переносят в повседневную жизнь, и организм переходит на более высокий уровень.
С младенцами получаются такие же чудеса. Сначала я брал в высшей степени развитых младенцев, хорошо тренированных. Потом добивался максимального проявления их возможностей, далее по их примеру, по отснятым кинофильмам, обучал других. Родителям говорил, что у них точно такие же дети, хотя, конечно, такого исходного уровня другие дети не имели, но, тем не менее, получались чудеса. Почему? Потому что у младенцев такие мощные резервные возможности, что даже обыкновенные дети подтягивались до уровня хорошо тренированных детей, потому что женщины в период
беременности видели крепких, здоровых детей и ориентировались именно на них.
Например, женщина не знала, что у нее дела, конечно, хуже, более того, что она «ни в какие ворота не лезет», но, по своей «безграмотности и невежеству», в отличие от профессора педиатрии, который знал, что дети это делать не могут, и делать это нельзя, воспринимала все как норму. Женщина начинала работать, тренироваться и у нее все получалось, отсюда пришло открытие внутриутробного психического тренажа. То есть, младенец, который там еще сидел, в утробе, уже знал, к чему готовиться, потому что женщина полностью включилась в эту программу, и ребенок сразу же выходил на определенный уровень.
Теперь относительно родовой деятельности. Необходимо выбрать женщин, которые смогли бы продемонстрировать образцовые роды, чтобы это все красиво и правдиво заснять на киноленту. Больше того, на первых порах можно это даже немножко улучшить с помощью искусства кино и т.д., для того, чтобы дать идеальную модель, программу, которая должна быть нормой, к которой нужно стремиться. Ведь женщине на самом деле, не нужно знать никаких патологий, ей это не пригодится, кино же имеет огромную силу. В дальнейшем можно показать следствия таких программ, т.е. ребенок будет сильный и красивый, потому что мама в период беременности занималась правильными движениями, дыханием и т.д., и вследствие таких тренировок создала такого ребенка. Здесь не открывается чего-то такого нового, все давно уже найдено, и эти программы уже сейчас работают практически. Уже много женщин, которые родили, так сказать, «по кинофильмам». Например, муж никогда в родах не принимал участие, вообще о родах ничего не знал и был художником или музыкантом, и тем не менее успешно принимал роды у своей жены. Вследствие этого ребенок родился без стрессов, это видно, он хорошо раскрыт.
- Что подразумевается под словом «раскрыт»?
Марковский. Когда берешь его в руки, а он измученный, или, например, когда ребенок спит, и «весь мир его» или наоборот, он забитый, напряженный. При погружениях
под воду эта тоже хорошо видно. Это чувствуется сразу, хотят трудноописуемо, трудно подбирать терминологию.
Так вот, одна семья, они этнографы, занималась усиленно дыханием, для родов подобрали определенную музыку с определенной ритмикой, очень интересной. У них ребенок ногами выходит. Муж принял его, развернул как надо, даже травм никаких не было.
- Они рожали в воде?
Чарковский. Да. Об этом случае мне сообщили потом, я их не знал. Они как-то были на моей лекции и видели фильмы о родах в воде. Там ведь все так просто, что даже акушерка ничего не делает, дети сами рождаются.
- Акушерки и так ничего не делают.
Чарковский. Нет, почему же, они мешают иногда, например, при нормальных родах. Важно то, что женщина в воде может принять любую позу. Когда у Вас начинает болеть зуб, Вы начинаете бегать, искать что-то, и здесь женщина инстинктивно, находит удобную позу, нагнется туда, руки так, ноги сюда. Случалось, когда женщина рожает в воде, а ей предлагали покинуть аквариум. Попробовала и сразу же «ой-ой» - обратно в воду, в воде, без всяких объяснений, просто лучше. У меня такие случаи были, например, был и глубокий аквариум с теплой водой, высотой где-то метр двадцать, кажется.
- Вы говорите, «был»?
Чарковский. Утащили его. Так вот, когда женщина покидала аквариум, схватки становились болезненнее. Буквально, минуты три побыла «на суше» и сразу обратно, потому что боль снимается значительно, то есть, схватки в воде значительно менее болезненны.
ВТОРАЯ БЕСЕДА
Окружающая действительность, школьные занятия, кружки всякие, так сказать, вся эта бестолковая суета очень сильно мешают развитию детей. Для сенситивных детей, естественно, общество должно создавать такие же условия, как скажем, для музыкантов, для каких-то философов и т.д., с тем чтобы этим детям общество не мешало в развитии сен-
ситивных способностей, ведь наши школы и университеты, они практически уничтожают эти способности, а не развивают их. Вот такая социальная проблема существует для детей, рождающихся под водой, и ее нужно обозначить.
Удивительно, что такие дети контактируют не только с дельфинами, китами, но у них очень сильные контакты и с птичками, с насекомыми, с цветами, с деревьями и т.д. То есть, эти рождающиеся существа очень сильно чувствуют окружающий мир, они чувствуют, когда совершаются какие-то злодеяния против Земли-планеты, и, конечно, болезненно реагируют.
Теперь мы можем перескочить на диагностику. Вот эти дети, скорее еще внутриутробные плоды, информируют будущую мать о каких-то несчастьях, которые случаются, например, с дельфинами. Таких случаев очень много. В какой-то период времени ребенок начинает чувствовать, и тогда мать через него начинает видеть. Конкретный случай: какое-то судно отлавливает дельфинов (их отлавливают с нехорошими целями), просто люди, которые это делают, делают не то, что нужно. И вот группа дельфинов попадает в сеть, и мать, которая медитирует, начинает это видеть. А сигнал дал плод, и она это знает, потому что с ним общается. Тогда она звонит отцу, и они думают; что же сделать. И тогда она видит это судно, которым управляет один человек, и в какой-то момент она воздействует на него так, что он немного теряет сознание и освобождает цепь, этот трос, и дельфины в этот проход выходят. Причем отец может это не видеть, но он обладает большей энергетикой, а управляют им плод и мать.
Скажем, есть такие случаи. Вот эта женщина рожала в воде. Они художники и, кстати сказать, они помогали Дже-ри, они видели все это, в Ленинграде это было. Они очень активно помогают развитию таких способностей. Так вот мама рассматривает различные картины, и в какой-то момент она чувствует, что рассматривает уже не сама, а в зависимости от того, что хочет ее будущий ребенок. Вот она останавливает внимание на египетских пирамидах, и ребенок может полчаса, час тихонько «сидеть». А когда, например, она
смотрит современную живопись, то он бунтует, ему она не нравится. Или этот плод в какой-то момент...
- Простите, я не понял. В это время кончаются шевеления? Марковский. Тут даже не шевеления. Мать практически его видит и чувствует его состояние. Я тут должен сказать, что большинство родителей, дети которых занимаются такими делами, не хотят, чтобы их имена были широко известны, потому что это создает на какой-то период сложность, даже большую опасность.
Вот еще один случай с этой же семьей. Однажды отец идет домой (очень много таких случаев), вдруг возвращается и поворачивает за угол, не зная почему (здесь идет влияние плода), видит: цветы продают. Покупает хризантемы и приносит их домой. Когда он их принес, мама говорит, что хотела как раз позвонить, чтобы он купил хризантемы, потому что ребенок хочет, чтобы были хризантемы. Он ставит их в вазочку, и... плод наслаждается цветами. То есть, практически, он управлял поведением отца таким образом.
Есть еще девочка, которая родилась тоже в воде, ей сейчас 4 годика, и мы ее назовем, например, Маша, тогда ей было 2 годика, а ее братику 7-9 лет. Братику не разрешали ходить через улицу. И вот сидит Маша и сообщает: «Сережа пошел к Володе». Значит, Сереже будет нагоняй, потому что Володя живет через улицу, потому что ему запрещено туда одному ходить. Или скажем, Маша с мамой едут домой, ей здесь уже 2 с половиной годика, она и говорит: «А бабушка уже приехала». Как раз в это время мама думает: «Хорошо бы приехала бабушка, чтобы мы успели телевизор посмотреть или что-нибудь еще там». Машенька телепатически улавливает мысли. Есть еще дети, рожденные под водой, и они, будучи постарше, бывают обычно возмущены, почему мама говорит им два раза одно и тоже, то есть мама сначала подумала о чем-то (ребенок уже «слышит»), а через некоторое время она уже говорит. Но с возрастом эта система перестает работать, и механизм отключается.
То есть, я хочу сказать, что современное образование мешает развитию таких парапсихических способностей. Да, кстати сказать, мама этой девочки недавно звонит вся в слезах и говорит, что ее ребенка в детском саду считают ненор-
мальным, потому что она, Машенька, практически ни с кем не разговаривает, отворачивается от воспитателей, они ей просто не нравятся, или она не знает, о чем с ними можно разговаривать, потому что она видит, что там нет никакого содержания. Сложностей с такими детьми много.
Эти дети не только родились в воду, но и научились под водой задерживать дыхание на 1,5-2 минуты, кто и побольше, т.е. овладевают дыханием, пранаямой. Нужно сказать о тренировках таких детей. Если мама во время беременности занимается задержками дыхания, то она уже рождает натренированного ребенка, и далее после рождения тренировки должны продолжаться. Ребенок должен научиться нырять и сосать под водой. Для того, чтобы мама была готова к этому, она должна во время беременности четко представлять, как ребенок после рождения может ее сосать под водой, больше того, она должна сама нырять и сосать под водой соску, да-да, совершать сосательные движения под водой. Можно сосать молоко, соки, тогда ребенок в утробе поймет, что это можно делать. Такая внутриутробная тренировка имеет огромное значение, ведь в зависимости от того как мать настроена и какое дала ему образование, ребенок легко или более трудно входит в эту методику. Причем нужно знать, что это делается не только для физкультуры, но и для раскрытия внутреннего видения, «третьего глаза», т.е. тех способностей, которые сейчас называются «паранормальными». Тренировку можно осуществлять и с помощью тренажеров, которые, я надеюсь, будут в ближайшее время изобретены. К настоящему времени эти тренажеры не изобретены лишь потому, что человек, например, не изобретает специальных скороварок, чтобы жарить тараканов. Многие не понимают необходимость тренировать детей по данной методике. Мы изобретаем всевозможную ерунду, а такие вот нужные вещи почему-то не делаем. Такие тренажеры, все-таки, необходимы, но их нужно сочетать с духовным развитием, с пониманием подсознательных моментов, с желанием человека плавать и задерживать дыхание.
Есть самые элементарные вещи. Допустим, сначала новорожденный плавает при поддержке кругами по ванне. В определенном месте закрепляем душик, из которого льется
водичка. После того, как ребенок освоил это упражнение, можно переходить к погружениям круглосуточно и даже во сне. Ребенок осваивает пранаямы, и задержка дыхания все увеличивается и увеличивается. Но для того, чтобы ребенок самостоятельно погружался под воду, он должен погружаться вслед за движущейся соской. Сосочка .прикрепляется, как показано на этом рисунке, и ребенок плывет за ней. Если он не плывет за ней, тогда она фиксируется на резиночках. Но я еще раз хочу сказать, что тренажеры не достаточны для проработки подсознания.
- Они будут вредны? Чарковский. Да.
- Может сейчас вообще не нужно говорить о тренажерах и использовании их для неподготовленного ребенка?
Чарковский. На какой-то период у меня тоже был такой взгляд, но то, что делают сейчас с детьми без тренажеров, в миллион раз хуже. Карусель или «американские горки» -это ведь тоже тренажеры, они тренируют вестибулярный аппарат. Мы трясемся в автобусе, здесь тоже своеобразный тренажер. Весь мир - это тренажер. Тренажеры можно осуществить таким образом, чтобы они обеспечивали столь постепенную последовательность упражнений и столь длительную их повторяемость, что даже малоспособный ребенок высоко продвинется. Если мы сотни раз будем проводить ребенка под душиком, и на него сотни раз будет литься водичка, с ним ничего страшного не случится. Конечно же, если ребенок плачет, то все эти упражнения прекращаются. Повторяю, очень важно научиться ребенку есть в воде. К сожалению, большинство родителей не может осилить тренировку с едой, им кажется, что еду нужно «предоставить ребенку, как дар», а не как поощрение за его активность. У меня подходы совершенно другие. Почему я так много нырял и «мучил» детей? Не потому что у меня садистские наклонности, а потому что знал, что в ряде случаев все это является единственным шансом при спасении ребенка от тяжелейших недугов, включая и черепно-мозговые травмы, пневмонии, различные отиты, так как задержка дыхания являлась спасительной для ребенка. Однако, здесь важно не
только количество погружений, ребенок еще ориентируется на то, кто его погружает. Поэтому мама, обучающая своего ребенка всем этим вещам, должна уметь медитировать. Если во время купаний мама представляет себя дельфином, то тем самым она подключает информационные потоки дельфинов к ребенку, который воспринимает уже их опыт, и ему есть у кого поучиться. Если же мама лишает ребенка связи с дельфинами и замыкает связь на самой себе, то она автоматически замыкает его на свою собственную патологию.
ТРЕТЬЯ БЕСЕДА
Вы родили ребенка, в условиях силы тяжести его мозг будет раздавлен. Женщина в период беременности уже конструирует мозг ребенка и уже заранее создает ограниченные программы. Понимаете? А у нас работают инстинкты запрета на водную среду, страх. Первый глупый вопрос, который вы задали: «А зачем ребенка кормить в воде?». Я сейчас скажу «зачем». Вот вы имеете шарик, воздушный шарик, и вы его, фу! - надуваете водой. На суше он пук! - и лопнул, а в жидкости вы его можете кидать, двигать, и ничего с ним не случится. Вы попробуйте это сделать. Точно так же и ребеночек, когда, вы его в жидкости кормите, он может в 1,5 раза больше есть, но нужно его кормить не для того, чтобы у него рос живот, а для роста мозга. Когда мы его рождаем, у него четверть веса - это мозг. Вы можете родить ребенка, по своим потенциям превышающего Леонардо да Винчи. Но для того, чтобы это случилось, необходимо большую часть времени находиться беременной женщине в воде, так, чтобы она сама быстрее приобщалась к Аква-культуре. Вы можете медитировать в ванне, представляя, как Ваш ребенок там развивается. Вы должны прорабатывать водные программы, представлять, что ребенок рождается со способностью к динамике сосудов. Ведь при погружении ребенка под воду (родившегося ребенка) происходит спазм сосудов и кислород питает только мозг, появляется способность несколько минут находиться под водой. Находясь там, он активно усваивает пищу, его кишечник вырабатывает необходимое
количество кислорода, и он может свободно там находиться. Когда ребенок поднимется на поверхность и вдохнет... все в общем получается, как у китообразных, понимаете? Все эти механизмы в человеке давно заложены, они просто не включены в работу. Так же, как в нас заложено много всего, например, писать картины, сочинять музыку и т.д., а мы реализовываем только такие программы, как, например, за «чекушкой» очередь отстоять.
Находясь в состоянии невесомости, ребенку легче включить плавательные механизмы, переработку пищи и вырастить больший мозг, и комплексы координации быстро включаются в наземные условия. Происходит мобилизация функций мозга. Здесь не только идет мощное развитие мозга, он активно строит ткани организма и может, как говорится, хорошо себя обслужить.
Ребенок рождается с мозгом, скажем 400 грамм, а у взрослого человека он 1,5 килограмма, то есть мозг вырастает в 3 раза, но он может вырасти и в 4 раза, если мы сможем создать условия для такого бурного строительства. Многие спрашивают: «Зачем нам такой большой мозг?». Те, которые так говорят, пусть остаются такими, какими являются, и мы с ними дискутировать не будем. Понимаете, животный мир так устроен - у кого больше относительный размер мозга, тот более гениален, и человек, по сравнению с обезьяной, - гений. И существа, прошедшие программы, которые я предлагаю, будут гениальными по сравнению с нами. Вы ничего не слышали о детях «по Хейнсу»?
Например, Вам сказали, что Ваши кости могут быть гибкие, эластичные, и вы это приняли, поверили в это, и у Вас эта программа включилась и начала работать. Ваши тазовые кости действительно становятся более эластичными. Если же таз эластичный, то головка, которая будет проходить, может иметь больший размер мозга, и мозг не будет ущерблен. Если Вы будете сосредотачиваться на вашем будущем ребенке, то у него вместе с вами заработают другие программы и... поезд пойдет не в тупик, а по другому пути, важно вовремя стрелку перевести, и он пойдет по пути развития большего мозга. Да, об этих программах Вы не рассказывайте кому попало «налево и направо», потому что Вам их быстро заменят.
Животные, которые живут по этим программам, имеют возраст в 1,5-2 раза больший. А у детей, обучающихся по таким программам, раскрываются парапсихические возможности. Вы скажете: «Зачем, мол, это? Ребенок будет страдать». Ничего подобного! Например, сравниваешь поэтов, музыкантов, шизофреников, которые страдали от, якобы, наличия таких способностей. Нет. Они просто энергетически очень загрязнены, у них и энергетика слабее. Дело вот в чем: развитие таких способностей должно быть гармонично связано с развитием общей энергетики. Ведь алкоголики видят сцены из Темного Мира и впоследствии сходят с ума, но эти сцены так же реальны, как, скажем, крокодилы, змеи и т.д. Алкоголики слабее энергетически. Но ведь есть и Высшие Сферы, и сильный гармоничный человек, спускаясь вниз не боится подобных сцен, он обладает определенной энергией, он защищен.
Относительно же вышесказанных программ, их не нужно обсуждать с людьми, которые далеки от всего этого. Их уровень пока недостаточно высок, и они будут автоматически мешать, не отдавая себе в этом отчета. Все эти «водные программы» открываются людям, духовный опыт которых немножко выше. Если Вы, например, курице скажете, что лучше нестись в воде, то она в это не поверит, и кошка тоже не поверит.
Значит так... что Вам нужно делать. Первое - больше ныряйте, задерживайте дыхание; второе - пытайтесь увидеть своего будущего ребенка, его формирование, и все, что увидите, записывайте. Очень важно делать записи. Когда Вы пишите, Вы фиксируете это в ментальном плане, бумажку Вы можете сжечь, а план этот останется. Когда же Вы зафиксировали свои успехи на листке, считайте, что Вы зафиксировали это в Общем Плане. Такой труд не пропадет даром. Может, у Вас есть какие-то вопросы. Вы не стесняйтесь.
- Мне хотелось вот что спросить. Вот закладывается у ребенка энергетика, и нужно довести это до конца. Будет в нем все заложено, а куда же это будет направлено?
Чарковский. Вас беспокоит, что Вы не сможете выполнить всю программу?
- Нет. Я беспокоюсь вот за что... Когда в человеке много
заложено, но не направлено в нужном направлении, то это может принести вред и ему, и окружающему, если не помочь ему воспитанием каким-то. Ведь это же страшно на самом деле.
Чарковский. Ну, здесь страшного-то ничего нет. Все будет так, как должно быть.
- Не то, что страшно, но если в нем будет заложена огромная энергия...
Чарковский. В Ваших возможностей сделать так, чтобы он родился с большими потенциями и организовать его формирование таким образом, чтобы он и в социуме должно их проявил. Понимаете, если человек с большой энергетикой, с крепкой волей...
- Волей-неволей все проявится, а в хорошем ли? Чарковский. В хорошем.
- Но ведь он будет развиваться по другой программе, чем...
Чарковский. Понимаете, Вы даете жизнь новому человеку, а не рожаете для самой себя исключительно.
-Сможем ли мы понимать друг друга?
Чарковский. А почему же не сможете? Тянитесь к нему и учитесь у него. Если Вы к нему будете прислушиваться, и он Вас будет понимать. Практически, дети нас образовывают. Они ведь воплощаются с новыми программами, и мы не должны им мешать. Нам нужно и самим дальше развиваться, давая то, что можем дать. Понятно?
- Понятно.
Чарковский. Так вот, если ребенок знает, что Вы ему обеспечите роды в воде, то у него происходит большее питание мозговой ткани, и мозг начинает развиваться лучше, чем если бы он рождался в условиях наземной среды. Если у Вас есть контакт с дельфинами, то они обеспечивают пребывание вашего ребенка в жидкостной среде во время родов и далее. Можно родить ребенка с большим мозгом, и его череп может не быть таким жестким. Когда Вы рожаете ребенка в жидкость, он может позволить себе не иметь жесткий череп, ведь жесткий череп труднее родить. Так получается, что если мы с вами сидим в воде, то наше тело практически ничего не весит, и мы можем родить хоть кита. Однако, для нас вода - это сразу же - акулы, пираньи, крокодилы и т.д., страх в общем. Но когда мы выходим на контакт с дельфинами, то практически все страхи, связанные с водой.
снимаются, больше того, они как бы берут нас в свою стаю, и мы можем даже получать информацию о жизни Океана.
ЧЕТВЕРТАЯ БЕСЕДА
Погружения ребенка под воду начинаются с того момента, как Вы его родили. Или же Вы осваиваете погружения с грудью, но обычно у женщин не хватает на это терпения. Тогда делается специальная соска, которую вам уже нарисовали, делается шапочка для ребенка, как у велосипедистов, и эта сосочка на резиночках привязывается к ней. Сейчас я скажу, для чего это все нужно. Во время погружений под воду у ребенка наступает гипоксическое состояние, и он компенсирует это тем, что пьет молоко из бутылочки с соской. Ребенок голоден, у него пищевой центр возбужден, тогда Вы его сажаете в воду и начинаете погружения. Он, конечно, же испытывает некоторые неприятности, но они компенсируются сосанием молока, вашего молока, и тогда он не будет орать. Потом вырабатывается рефлекс. На животных показано, что ныряние без еды приводит к гораздо меньшим успехам, примерно 30 % успеха, с едой же - 100 % будет. Но женщины не соображают и ничего не хотят понимать, здесь они ведут себя, как самки, и работают на древних инстинктах, которые от животных идут, они сами не знают, почему они не могут понять таких простых вещей. Поэтому здесь мужик должен все подготовить.
Дети, которые ныряют с такими сосками, могут к 4-6 месяцам затаивать дыхание на несколько минут, на 3-4 минуты, но поскольку мужики ничего не делают, а женщины подобны стаду баранов, особенно, если эти стада возглавляют какие-нибудь академики...
Нужно знать, что сейчас рождается новое поколение детей, именно через это поколение идет новая информация.
Так вот, когда Вы сделаете эту сосочку и привяжете ее к шапочке и т.д., и когда Вы будете погружать ребенка под воду, тогда он будет делать глотательные движения под водой. Когда головка ребенка проходит в очередной раз под душиком, то ребенок инстинктивно задерживает дыхание. Если же он вдохнул в это время, то несколько капель водички ничего ужасного не сделают. Пресная вода попадает
в носоглотку и вызывает легкое раздражение, поэтому ребенок начинает плакать, но будучи голодным, вместо того, чтобы орать, он будет мирно сосать свою сосочку с молочком, и скандала не будет. Если этого не делать, а делать так, как все делают, то купание не будет доставлять удовольствие никому. Ну, один раз так искупали, ну, два, три, десять раз, потом... стресс. Короче говоря, ребенку все это не нравится и это отпечатывается в психике.
Потом, мамы выдумывают различные глупости, мол «соски не нужно, мы мол грудью кормим». Грудью так грудью, хорошо, сидите в воде. В конечном итоге и грудью не кормят, потому что понимаете, «там холодно», некогда им и т.д. Если грудью кормить, то мама должна в воде кружиться, вертеться, плавать, нырять. С соской же все гораздо проще. Проводки под душиком нужно выполнять сотни раз, и этот нехитрый тренажер нужно сделать быстро, пока ребенок не вырос. Обычно, люди долго собираются, а потом начинают задавать глупые вопросы, и приходится тратить кучу времени на повторение одного и того же и для каждого в отдельности. Вот Вы говорите, что ваши друзья знают эту систему, это хорошо, но тогда нужно приходить сюда уже подготовленными, как, например, к министру приходят...
Да, когда Вы начинаете погружать ребенка под воду, тогда начинает действовать соска, и он получает пищу. В конце концов, ребенок начинает понимать, что только под водой он что-то получит. Когда он становится постарше, он уже сам начинает нырять за соской. Всему этому можно научить ребенка в ванне. Ясно? Иначе разговаривать не о чем, потому что уровень понимания, какой у вас всех, меня не устраивает. Ну ладно, еще раз о методике. Все очень просто. Вы сотни, сотни раз делаете проводки под душиком, затем сотни погружений под воду в один заход. Дети вообще могут нырять круглые сутки при определенной подготовке. Ребенку Вы должны внушать, что погружения подводу -благоприятная йоговская пра-наяма. Монахи ведь молятся 23 часа 50 минут в сутки. Десять минут спят, а остальное время посвящают Богу. Также можно войти в определенный уровень вибраций, и тогда ребенок ныряет круглые сутки. Например, тибетцы закладывают молитвы в барабаны, можно заложить молитву в своего
ребенка, тогда свободно можно его погружать, поднимать, погружать, поднимать, тогда ребенок выходит на ритмические задержки дыхания, на высокие уровни сознания.
Все эти занятия проводятся параллельно с медитациями на дельфинов. Вы представляете, что ребенок - это дель-финчик, что вода имеет синее свечение (Вы должны учиться видеть воду). Зачем это нужно? Например, заходит бабушка, одним словом человек, который против таких занятий, который боится всего этого, тогда он начинает бессознательно отравлять эту воду своими отрицательными эмоциями, и вода, которую Вы видели золотой, станет отравленной, когда, например, неподготовленный человек будет смотреть на ныряющего ребенка. Этот человек наваливает весь негативный опыт отношениям воде, который был принят им по наследству, а положительного у него нет, и он отравляет эту воду. Ребенок, находясь в такой воде, может заболеть вследствие психической отравы. Вода накапливает энергетику, и когда Вы будете купать ребенка, то его поле должно быть защищено вами. Никто не должен знать о детях, которые ныряют с задержкой дыхания по несколько минут.
У вас сейчас вырабатывается и молоко, и Вы можете его наполнять энергетикой определенного качества, подходящей для перечисленных программ. Даже сейчас, мы с вами общаемся, и ребенок уже знает, какая жизнь ему предназначена. Вы сейчас сами должны нырять с соской и сосать под водой соки; морковный, капустный и т.д. Вы задерживаете дыхание и представляете, что ребенок ваш тоже это делает, и он будет это делать, он обучается уже сейчас. Эти последние 2 месяца он будет тренироваться, и когда родится, родится, например, уже перворазрядником, которого можно взять в мою «сборную». А если Вы родите новичка, то я с ним работать не буду, времени не будет заниматься, поезд уже ушел. Так как Вы путешествовали во время беременности в горах, на ребеночка шла космическая информация, он более просвещен, вообще у него будут хорошие потомки, просто замечательные.
Когда Вы будете работать в ванне, Вы можете представить серебряную купель, и вода, которая идет через кран, будет насыщаться космической энергетикой. Это очень важ-
но, потому что в такой воде ребенок может нырять очень долго, при условии, если Вы ее подготовите должным образом. Далее будете переходить к прохладной воде. Например, если Вы почитаете Библию, крещение проводилось в освященной холодной воде. Ледяная вода имеет отличную структуру. Жрецы в древности вылечивали- многих погружением в ледяную воду на значительное время. Происходит вхождение в состояние анабиоза. Когда ребенок погружается в такую воду, душа его покидает тело и отправляется в путешествие, потом она возвращается обратно. Эти состояния очень важны для ребенка. Накапливается опыт вхождения в эти состояния и выхода из них, опыт же проявится в дальнейшем в более старшем возрасте. Одним из опытов вхождения в такие состояния является опыт йогов, но можно это практиковать гораздо раньше, пока ребенок не утратит этих возможностей в результате нашего дикого образования, которое ломает все напрочь. Такие способности должны быть нормой, а пока они для нас являются чудом. Помню случай на Севере. Приехала пара молодая, поговорили, выпили, ну и ушли потом, Бог с ними. Потом через 5 часов родители их прибежали, мол, пропали они. Их нашли, замерзли они, не дошли до дому. Женщина была беременна, потом отогрели ее и ничего, родила, все нормально, она была образованная советская женщина, член профсоюза... Я вот о чем хочу сказать, есть такие аборигены Австралии и т.д., они собирают всяких червячков, еще что-то там такое. Вот заморозки стукнули, кто-то прилег и замерз (ледок там), потом солнышко пригрело, все оттаяло, встал и дальше пошел. То есть, у них нет страха перед замерзанием, они не знают его, у них все хорошо: упал и заснул, как и мы - выпьем, выйдем куда-то и упадем. Так что, если Вы будете заниматься купанием в холодной воде, Вы должны знать, что ребенок входит в такие состояния и также выходит из них. Европейские дети это тоже могут, если европейский родитель не испорчен. Это оккультные состояния, и наука, которая поумней, изучает их. В глубокой древности погружение в ледяную воду являлось средством для вхождения в эти состояния, и такой путь более оправдан, потому
что он не разрушает тело. Погружая ребенка в ледяную воду, можно видеть своим внутренним зрением эти необычные процессы.
ПЯТАЯ БЕСЕДА
Во время беременности информация о том, что ребенок будет рожден в водную среду, неполностью овладевает плодом. Ведь у него, у плода, есть, как у нас с вами, инертность. Он не воспринимает такую информацию на все 100 %, у него всегда есть выбор: или так, или иначе. Допустим, происходит внутриутробная мутация, реализуются программы закладки большего мозга, и выскакивает такой мутант. В случае гравитационного удара он погибнет и не выживет. Но проработка вот таких программ, которую мы с Вами осуществляем, в общем все это прокладывает дорогу тем будущим женщинам, матерям, эмбрионам и плодам, которые учатся на Вашем опыте и видят, что можно это сделать. Тем самым будет наращиваться общее биополе, общий эгре-гор. Тогда можно будет с такими предпосылками размахнуться на больший мозг. Люди решили: «Ага, если мы родим в воде, значит сразу родим гения». В принципе это возможно, но, как правило, такие психически продвинутые гении нежизнеспособны, и общество их быстро ломает, и это, как правило, сумасшедшие. Если же иметь большие и настоящие цели, то срывов не будет и все трудности можно переносить довольно легко.
Кстати сказать, к родам в воде, вообще к родам, нужно готовиться заранее. Например, Вы женаты и планируете малыша. Во время родов головка малыша трудно, туго прорезывается. Так вот, в древнееврейских семьях девочкам растягивали промежность. Она становилась гибкой и эластичной. Вы думаете, почему евреи такие умные? Вся техника настолько проста и элементарна, до безобразия. А сколько несчастных женщин рвутся во время родов? Но вот возьмите узбечек, у них нет разрывов, потому что они сидят вот так, со скрещенными ногами, почти в «лотосе».
- Вы сказали, что в еврейских семьях девочек таким массажем готовят к деторождению. А может, это связано и с другим? Нам известно, «то еврейские парапсихологи «рабо-
тают» на свадхистане-чакре. Поэтому, растягивая промежность девочкам, они готовят таким способом агентуру еврейского парапсихологизма для соответствующей деятельности.
Марковский. Может это и так, но эта профилактика не исключает лучшие роды. Дело вот в чем. Я просматривал нашу литературу, нашу организацию и т.д., все сделано для того, чтобы ребенок рождался с травмой. Как будто специально! Потому что уже хуже ничего придумать нельзя. Нужно за это дело браться самим, так как нелепо думать, что кто-то позаботится о том, чтобы мои дети рождались здоровыми. Никто не думает, всем на это наплевать.
- А Вы?
Марковский. Вы напрасно думаете, что я могу что-то изменить. Я могу ругаться, чтобы люди начали шевелиться. Нужно знать точно, что вся эта деятельность не случайна, и так само- собой все это бы не выстроилось. Где-нибудь да было бы нарушено, если бы не какая-то сила.
- Может быть проблема в обслуживании. Обслуживать же всех очень сложно?
Марковский. Нет! Обслуживать всех не нужно. Вот Вас не нужно было обслуживать, Вы сами родили, и Вы не одни такие.
- Расскажите, пожалуйста, о Крещении.
Марковский. Например, есть разные случаи. Находят детей, которые сутки пролежали в ледяной воде, потом их смогли оживить. Был случай, когда женщина закрыла своего ребенка в холодильнике, а потом отец положил его в чемодан, унес за город и бросил. Какой-то пьяница обнаружил и побежал в милицию. Ребенок в замороженном состоянии находился около суток. Но нашлась женщина-врач, которая его оживила. В прошлом знахари оживляли детей, погружая их в ледяную воду, прорубь. Для чего они это делали? Бывает, ребенок рождается с накрученной на него порчей, навешенной темными людьми. Тогда его вводили в состояние анабиоза, этим занимались знахари. Потом они «раскручивали» эти влияния, распутывали связи и убирали их, ребенок в это время находится в анабиозе. Когда знахарь справляется со своей задачей, то уже после он оживляет ребенка, вдувает свою психическую энергию. Эти вещи я видел, когда еще ребенком
был, прабабка у меня занималась подобными делами. Тогда я задался вопросом: оживляют ли своих детенышей самки животных? Можно научить самку нырять в прорубь за едой. В результате таких плаваний у нее сильно повышается энергетика. Когда она плавает со своим детенышем, он входит в состояние анабиоза. Если после этого Вы будете обогревать его батареей или феном, он не оживет. Когда же мать его начинает облизывать, то тогда он оживает. Это подтверждено экспериментами. Есть люди, которые могут входить и выходить из анабиоза, пользуясь специальными методами, они имеют доступ в свою потустороннюю жизнь. Крещение, про которое Вы спрашивали, связано как раз с этим, но так как это - таинство, то мы знаем о нем лишь миллионную часть. Но мы знаем совершенно точно, что на высоких уровнях культуры детей погружали под воду надолго. Для разного уровня посвящения Крещение проводилось по-разному.
Мне написали об одном случае. Женщина не хотела иметь ребенка и всячески его вытравливала, но он родился. Она его стала купать в ледяной веде для того, чтобы он подхватил воспаление легких. Она его купала-купала, а он не заболеет никак. По ее соображениям это были сверхкупания, но ребенку было как раз. Он становился здоровее и здоровее. То есть, если бы она его так не купала, то он мог бы стать инвалидом, дебилом или еще...
- Здоровым преступником?
Чарковский. Не знаю, но это уже другой вопрос. Так вот, такие охлаждения стимулируют деятельность надпочечников - жизненно важных желез внутренней секреции, что ведет к улучшению общего состояния. Дело в том, что женщина, которая оживила ребенка после милиции, не совсем обычная. Многие врачи обладают сенситивными возможностями, но сами не знают об этом. Они делают все то, что и другие врачи, но у одних дети умирают, а у других нет. Они делают какие-то процедуры, но ребенок выживает благодаря мощному полю этих врачей. Вы знаете больше о такой системе знаний, чем медики, но их большинство, и они не активно этим пользуются. Ясно? Теперь, я Вас хотел взять в Ленинград, но смотрю, Вы недостаточно готовы. Надо гото-
вить себя - не просто купаться в ледяной воде с детьми, а нужно быть психически подготовленным.
- Родители должны сами купаться в ледяной воде, чтобы они знали эту «петрушку»?
Марковский. Необязательно. У меня есть такие родители, которые не знают, но готовы и купают своих детей. Холоднея вода замедляет дыхание, плюс гипоксия. За счет этого ребенок очень быстро входит в анабиоз, как рыбки и лягушки. По он не просто засыпает, а переходит в другие состояния. У ребенка пробуждается память опыта прошлых жизней и своего внутриутробного существования. В психическом отношении внутриутробный период более важен, чем вся последующая жизнь. Человек в этот период своего развития медитирует постоянно, у него огромный мозг, он получает уже обработанную пищу и находится в состоянии близком к невесомости. Матка является как бы резонатором связи с Космосом, и через таких детей идет новая информация, новые идеи и программы на родителей. Когда женщина имеет ребенка, тогда она имеет посвящение. Младенцы посвящают родителей. Мадонна, богородица и т.д., все эти вещи не случайны. У многих народов, если женщина еще не родила, значит ее ранг ниже. Женщина-мать - это более высокий духовный уровень. Женщина при родах получает посвящение. Но при родах с травмой память положительного опыта всех этих состояний отшибается. Ребенок, предчувствуя это, практически готовится к смерти перед рождением. Он попадает в каторжные условия. Иногда дети не хотят рождаться, они упираются и им не хочется, вследствие этого тяжелые роды. В случае рождения в водную среду опасений умереть нет. Есть постепенный, плавный переход. Ребенок располагает предшествующим наработанным опытом рождения других. Причем такой опыт мог быть не опубликован в газетах и журналах и т.д., но плоды, которые развиваются следом, информацию опытов собирают телепатически. Далее, идет дискуссия между матерью и плодом. Плоды считывают эмоции матерей и оценивают их способность к родам. Они стимулируют роды в воде. Давайте еще поговорим о холоде, о погружениях в прорубь...
- В связи с последними ленинградскими событиями?
Марковский. Ленинградские события случились потому, что там появилась почва для произрастания этих вещей. Важность ленинградских событий в том, что это стало достоянием широкой аудитории, и это уже не задушить. Культурный уровень, все-таки, растет, несмотря ни на что. Появляется все больше людей, которые учатся управлять определенным видом энергий, людей определенного духовного уровня, способных нести на своих плечах Культуру. Нельзя сказать, что мы такие же, как, например, в 13-м году.
Так вот, погружение новорожденных в прорубь существовало испокон веков, но это не отмечено в печати, хотя известно. Мы все время с наукой ругаемся, но необходимо идти на сближение, необходима поддержка. Ведь среди ученых есть достаточное количество умных людей, контакт с ними необходим. Такие исследования нужно запустить в различных институтах. Вот Александр Ильич, профессор, скоро академиком будет наверно, так вот он считает чрезвычайно важным развиваться а условиях холода. Так же, как человеку нужно бегать, голодать, так же нужно и подвергаться воздействиям холода. Это необходимо исследовать на животных. Собаки, живущие в деревнях, спят на снегу, и доживают до 23. Домашние собаки живут мало. И мы ведь с Вами тоже домашние. Я адаптировал ряд животных к холодной воде, и, что выяснилось. Они прогрессируют. Новорожденные входят в состояние анабиоза и выходят из него легче, чем взрослые.
Теперь, Леша, почему я на Вас все время ругаюсь. Дело в том, что у детей формируется боязнь к воде, но она может быть индивидуальным опытом, а не опытом видовым, и эта боязнь может быть скомпрометирована. Ребенок не будет боятся воды, если он получает в воде подкрепление. Дети могут научиться спать в воде. Но дети спят в воде тогда, когда создается дельфинье биополе. Я рассказывал, что если сильные женщины и мужики заплывают с ребенком в открытое море ночью, даже хорошо тренированнный младенец не спит - страшно. А с дельфинами спят. Биополе дельфина снимает страх, и, когда дельфины берут ребенка в свою стаю, стрессов никаких нет. Когда беременная женщина ходит с младенцем, у дельфина есть связь с ним. Живот не мешает,
связь идет насквозь. У дельфинов развиты те системы, которые у нас еще недоразвиты, например, видение внутренних органов и т.д. А младенец, находящийся в стадии водоплавающего существа, понимает язык дельфина лучше, чем матери. Мать зачастую тянет ребенка в другую сторону, так как мы не можем, иногда, найти общий язык со стариками (хотя говорим на одном языке). У Вас с Таней это не удалось, она, все-таки, на дельфинов не вышла, поэтому роды получились не экстракласс. Однако, сам факт родов в воде - величайшее дело. Когда человек входит в контакт с дельфинами, контакт устанавливается и дельфины берут его под свою опеку, тогда женщина может родить в воде. Когда женщина может родить в воде, тогда пересматривается программа ребенка. Он рождается с плавательными рефлексами, задерживает дыхание и может сосать маму под водой. Между прочим, я на Вас кричу, а Вы знаете почему? У Вас не проработаны эти системы, и Вы внутренне, подсознательно, упираетесь и ищите все возможные случаи, чтобы не выполнять эти программы: книга написана неубедительно, папа на работе, бабушки нам мешают и т.д. В общем, случаи всегда находятся.
Дальше происходит следующее. Мы приходим к кому-нибудь в гости, и ребенок нас боится. Да? А у меня уже есть наблюдения, что женщины, которые родили в воде и проработали эти программы, их дети чужих не боятся, они подходят к чужому, как к своему папе, то есть, они любят всех. У таких детей включены те программы, которые есть у дельфинов. А дельфины дружелюбны, даже если человек их истязает, гадости делает, убивает на глазах у всех. Дельфины не могут враждебно отвечать на это, несмотря на то, что они энергичные, сильные, они ведь не идиоты, у них память колоссальнейшая. Наши «родные» мартышки, они то и дело одно и то же бубнят, а дельфины... Когда дельфину дали задание ни разу не повторить одного и того же элемента в движении, а все время новые комбинации, он не сделал ни одного повторения, то этот... Он был в восторге.
- Кто, Джон Лилли?
Марковский. Нет, не Лилли, Лоренц был в восторге, лауреат Нобелевской премии. Речь идет о том, что у них колоссальнейшая память.
- Но ведь дельфины не вегетарианцы? Марковский. Да, они едят рыбку, а мы едим друг друга,
понимаете? Вы съедаете рыбку, она в Вас прорастает, она выходит на более высокий энергетический уровень. Рыбка должна быть счастлива от этого. Также, если Вы яблочко едите, без особой разницы. А дельфины вынуждены есть рыбку, и тут уж их нельзя обвинить в этом. А у народов острова Пасхи есть интересные легенды и мифы, там умершие дети превращались а рыбок определенной породы, и их никто не ел. Там были ясновидящие, которые говорили: «Это -Ваши дети». Население не ело этих рыбок, хотя все занимались рыболовством. Но когда культурный уровень упал, они стали есть эту породу рыб, в которых заложена эта информация, то есть стали кушать детей.
- У австралийцев немного иначе. Для того, чтобы родился ребенок, нужно было отцу поймать рыбку, чтобы будущая мать ее съела и поместила у себя в животе.
Марковский. Это очень интересно. В книге «Мифы и легенды острова Пасхи» есть следующее: ребенок умер, и женщина положила его на берег, его взяла волна, и он закричал: «Мама!» Мать подбежала и вытащила. Когда вытащила, он снова стал умирать, она положила его обратно в воду, он снова закричал. На третий раз он ожил окончательно. Таких легенд очень много, они повторяются у разных народов. Другой вариант легенды, когда женщина много раз подносила ребенка к воде, а потом он на глазах превращается в рыбку, и потом, скажем, этих рыбок есть не стали. Таких легенд много, и они связаны с оживлением через водную среду.
Мы поговорим еще немножко о дельфинах. Я хотел бы, чтобы Вы проработали чуть-чуть эти программы в себе. От дельфинов ребенок наследует высокие нравственные, духовные качества. Если взять крыс и посмотреть на их жизнь, то им несчастным, действительно нужно быть агрессивными, потому что иначе им придет конец. Хищники, хорек, например, тоже несчастны. Пойдём выше, выше... Если сейчас трудящийся будет слишком добрый, его съедят его же, если можно так сказать, «братья по разуму», и все на этом кончится. Теперь еще выше. Эволюция вида. Вид сам себя уничто-
жит, если это качество, например, агрессивность, оставит в себе. Лоренц и другие исследователи искали, каким образом можно снять агрессивность с человека. Вы знаете, что Макбет всех детей отравила, Эдип убил отца и т.д. Эта свистопляска идет с давних времен, и сейчас, также, все «прекрасно». Государства уничтожают государства. Дали автомат - хорошо, танки - хорошо, газовые камеры - хорошо, а атомную, водородную, нейтронную бомбу? Все. Кончилась эволюция вида. Есть ли выход из этого всего? Есть! Дельфины снимают агрессивность, потому что не обладают ею, они даже не убивают своих преследователей. Дельфины могут оказать решающее влияние на эволюцию человечества.
- Необходимо быть рядом с дельфинами? Марковский. Не обязательно. Они выходят на связь на
значительном расстоянии, они медитируют.
- Нужно принять, что дельфины - не животные, а существа высокого интеллекта.
Чарковский. Да. Они существа с высоким уровнем иерархии, у них колоссальнейшая связь с Космосом, и космическая информация идет через них мощным потоком. Еще вот что. Все колдуны, знахари, маги имели своих животных, через которых получали знания определенного качества, они через них работали (носорог, крокодил, змея и т.д.). Есть данные, что женщины, которые рожали в воде, приезжают к морю, на юг, и если у них проработаны некоторые программы, то дельфины приплывают к их детям. Например, входит в море одна женщина с ребенком, она плохо видит и не поймет в чем дело. Ее чуть не сшибают мужики, а толпы народа бегут на берег. Оказалось, что дельфины заплыли за буйки (чего обычно не случается) и приветствуют ребенка, которому помогали и которого программировали. У них был с ним контакт, когда она родила его в Москве. Многие женщины приезжают на юг на неделю, почему? Их что-то тянет туда. Дети ведут их к своим дельфинам, чтобы им всем можно было встретиться. Такие дети обладают большей энергетикой, большими психическими данными и физическими тоже. Если пойдет «атомная реакция», и эти программы освоят все больше и больше людей, то такие дети смогут взять верх над этой гонкой вооружений. Поэтому создание такой Новой Расы является исключительно важным.
В. Рыжков
КРИЗИС БЕРЕМЕННОСТИ1
Ряд ученых говорят в своих работах по психологии об «утробном влиянии» и что его след остается в детях. Многие такого рода интуитивные мысли основаны на действительных наблюдениях. Например, дети, рожденные вне брака, часто несчастливы, особенно в обществе, которое пристально следит за соблюдением морали.
Психологи на практике столкнулись с пренатальными ин-граммами, записями боли и бессознательного состояния, и инграммами рождения, как с фактами живой природы. То, что психологи «старой школы» проходили по поверхности этих инграмм и проникали в пренатальную область без особого успеха, еще не значит, что пренатальные инграммы невозможно обнаружить, просто в них не видели большой ценности и мало о них задумывались. Проблема была более сложной: трудности заключаются в нахождении реактивного банка, закупоренного «бессознательностью», в которую никогда прежде не проникали с осознанием самой этой «бессознательности». Открытие реактивного банка привело к открытию пренатальных (внутриутробных) инграмм, которые сильно отличаются от «пренатальной памяти».
Дальнейшие исследования показали, что клетки эмбриона фиксируют его ощущения. Потом обнаруживалось, что фиксация начинается уже в клетках зиготы, то есть с момента зачатия. Тот факт, что тело содержит память о зачатии, которое является действием выживания высокого уровня, имеет очень мало общего с инграммами. Большинство пациентов очень удивляются, когда обнаруживают себя плавающими по каналу или ожидающими соединения с чем-то. Просто существует память.
* 6. Рыжков. Практическая психология женских кризисов. - СПб. 1998.
Те, кто считают, что было бы прекрасно возвратиться в утробу матери, должны рассматривать утробную жизнь более внимательно. Но жизнь в утробе не производит впечатление рая, даже если она представлена поэтически. Действительность показывает, что три человека и лошадь, собравшиеся в одной телефонной будке, имели бы немногим меньше места, чем эмбрион. В утробе матери неудобно и опасно. Мама чихнет, а зародыш получает удар, который погружает его в «бессознательность», Мама слегка задевает угол стола, и голова ребенка оказывается вмятой внутрь. Мама страдает запорами, и при ее потугах ребенка сплющивает. Папу одолела страсть, и ребенок во время полового акта чувствует себя словно в работающей стиральной машине. Мама закатывает истерику - ребенок получает инграмму. Папа бьет маму - ребенок получает инграмму. Будущий старший братик прыгает на мамином колене - ребенок получает инграмму. И так далее.
Нормальные люди имеют десятки пренатальных инграмм. Их может быть больше двухсот. И каждая из них аберрирующая, каждая содержит боль и «бессознательность».
Инграммы, полученные зиготой, являются потенциально наиболее аберрирующими, так как они полностью реактивны. Те, которые получены эмбрионом (после трех месяцев), сами по себе были бы достаточными, чтобы отправить людей в сумасшедшие дома. Инграммы, полученные утробным плодом, аберрируют довольно сильно.
Зигота, зародыш, плод, младенец, ребенок, взрослый - это все один человек. Время считается великим лекарем. На сознательном уровне это может быть истиной. Но на реактивном уровне время-это ничто. Инграмма, независимо от того, когда она получена, настолько сильна, насколько она рести-мулирована, т.е. происходит реактивизация памяти прошлого из-за условий и обстановки в настоящем времени, в большой степени похожих на обстоятельства прошлого.
Отсюда следует, что ребенок в утробе матери не имеет малейшего представления о смысле сказанных слов. Будучи организмом, он познает, что некоторые вещи обозначают определенные опасности. Но этим ограничивается значение записей. Ум должен более или менее сформироваться до того,
как инграмма начинает оказывать действие на аналитическом уровне.
Пренатальный ребенок, конечно, в состоянии испытывать ужас. Когда родители или гинеколог, делающий аборт, пытается до него добраться, чтобы уничтожить его, он испытывает страх и ощущает боль.
Однако этот ребенок имеет некоторое преимущество. Окруженный амниотической жидкостью, получающий питание от матери, легко реформируясь физически в стадии роста, ребенок «ремонтирует» громадное количество повреждений. Способность к восстановлению в утробном состоянии тела наиболее высока. Повреждение, которое искалечило бы новорожденного младенца на всю жизнь и убило бы взрослого, запросто исправляется плодом в животе матери. Конечно, повреждение оставляет инграмму, она подробно записана со всеми данными, речью и эмоциями, но умертвить эмбрион трудно, и это главное.
Общество, которое подавляет секс как зло и которое настолько ненормально, что каждая женщина может сделать аборт, обрекает себя на постоянно увеличивающееся количество безумных. Это научный факт, что попытка сделать аборт - наиболее важный фактор патологии. Ребенок, от которого хотели избавиться, обречен всю жизнь жить со своими убийцами, он их реактивно узнает как убийц на протяжении своего болезненного и незащищенного детства! Он необыкновенно привязан к бабушкам и дедушкам, до ужаса напуган наказаниями, легко заболевает и болеет более долго. Не существует гарантированного метода аборта. Пользуйтесь противозачаточными средствами, а не вязальными спицами или спринцовкой для контролирования количества населения. Если ребенок уже зачат, то независимо от морали и материальных условий, будущие отец и мать, замышляющие избавиться от ребенка, идут на убийство, которое редко удается, А если оно не получилось, закладывают фундамент для детства, наполненного недугами и болью. Тот, кто замышляет аборт, действует против всего общества будущего, любой судья или врач, рекомендовавший аборт, должен быть моментально лишен положения и практики независимо от «причины» рекомендации.
Многие миллиарды долларов, которые ежегодно тратит Америка на содержание сумасшедших домов и тюрем, тратятся прежде всего из-за попыток абортов, сделанных сексуально ненормальными матерями, воспринявшими беременность как проклятие.
Роды - это одна из самых примечательных инграмм с точки зрения инвазивности. Мать и ребенок получают одинаковую инграмму, которая отличается только местом расположения боли и глубиной «бессознательности». Все, что доктора, сестры и другие люди говорили матери во время родов и сразу после них, записывается в реактивном банке, создавая идентичные инграммы у матери и ребенка.
Если врач зол или в отчаянии, эмоциональный тон родов может вызвать серьезные осложнения. И вообще, если доктор разговаривает, его слова воспринимаются в полном, реактивном значении и матерью, и ребенком.
Ребенок, к несчастью, вынужден принимать драматизации от своих родителей. Исключительно замечательное зрелище представляет ребенок-клир: он - человек! Одно чувство дружеского расположения к людям может провести его сквозь любые неприятности. Испорченный ребенок - тот, с решениями которого никогда не считались, тот, у кого украдена независимость. Ласка не может испортить ребенка так же, как ведро бензина не в состоянии погасить солнце.
Начало и конец «детской психологии» заключаются в том, что ребенок - это человек, он имеет право на чувство собственного достоинства и самоопределение. Ребенок аберрированных родителей - проблема, вызванная инвазивностью аберрации (отклонение от рационального поведения) и тем, что ему отказано в праве драматизировать или противоречить. Чудо заключается не в том, что дети - это проблема, а в том, что они действуют нормально, потому что из-за инвазивностью, наказаний и запрета самоопределения современным детям отказано во всем, что необходимо для создания рациональной жизни. А ведь они - будущая семья и будущая раса.
Цикл жизни, который считается «нормальным» (современный средний уровень) или психозным, описать просто. Он начинается с большого количества инграмм перед рож-
дением, и их становится больше в зависимом и беззащитном состоянии ребенка после рождения. Различные наказания записываются как локи, т. е. аналитические моменты, которые рестимулируют ощущения прошлого, являются включениями для инграмм. Входят новые инграммы, которые втягивают в действия более старые. Собирается больше и больше новых локов. Болезни и аберрированность действий устанавливается окончательно к 40-50 годам.
И отнюдь не влияние «биологической любви» заставляет мать играть такую важную роль в жизни человека. Просто мать механически является общим знаменателем всех пре-натальных инграмм ребенка. Такие инграммы гораздо более серьезны, чем полученные после рождения. Любая такая инграмма содержит мать или мать вместе с другим человеком, но мать в ней всегда присутствует. Поэтому ее голос, ее высказывания, ее действия оказывают огромное влияние на еще не родившегося ребенка.
Неправда, что эмоции передаются эмбриону через пуповину, как предполагают люди, когда слышат о прена-тальных инграммах. Эмоции передаются другим типом волн {скорее электрическим, чем механическим). Какой это тип -неизвестно. Поэтому каждый, кто проявляет эмоции вблизи беременной женщины, передает их непосредственно ребенку. Эмоция матери таким же образом воспринимается реактивным умом ребенка.
Не имеет значения, обладает эмбрион аналитическими способностями или нет - это не влияет на его восприимчивость к инграммам. Ведь пренатальная инграмма -это всего лишь инграмма. Только когда ребенок получает удар или испытывает боль вследствие высокого давления крови, или оргазма, или из других источников, он впадает в «бессознательное» состояние. Будучи «без сознания», он получает все ощущения, слова из окружения матери в виде инграмм. Мощь аналитического мышления не имеет с ними ничего общего. Если ребенок «не аналитичен», это не предрасполагает его к инграммам. Если ребенок испытывает боль или он «без сознания», то он, скорее всего, получит инграммы. Наличие или отсутствие «аналитической силы» не влияет на то, будет ли ребенок получать инграммы.
Утренняя рвота, кашель, все монологи (мать разговаривает сама с собой), шум улицы, домашние звуки и т. д. -все доходит до ребенка, находящегося в «бессознательном» состоянии, когда он физически травмирован. Ранить ребенка очень просто. Он не защищен сформировавшимся костным скелетом, не обладает свободой передвижения. Вот он там. Когда что-то ударяет или давит на него, его клетки и органы оказываются травмированными. Проведите простой эксперимент, и вы поймете, какое большое значение имеет мобильность. Лягте на кровать, опустите голову на подушку, попросите кого-нибудь положить ладонь на ваш лоб. Поскольку вы не мобильны, давление ладони на лоб будет значительно большим, чем если бы вы стояли. Ткани тела матери и жидкость, которой окружен ребенок, создают незначительный буфер. Во время травмы околоплодная жидкость матери, будучи несжимаемой средой, сжимает ребенка. Положение ребенка далеко не безопасно. Когда незадолго до родов мать нагибается, чтобы завязать шнурок на ботинке, ребенок может получить серьезные повреждения.
Напряжение при поднятии тяжестей беременной женщиной особенно опасно для ребенка. Если случайно мать налетит на угол стола или на какой-нибудь другой предмет -это может размозжить ребенку голову. Но его способность «восстанавливать» свой организм, как уже отмечалось, превосходит все известное в этом роде. Голову ребенка может сплющить, но чертежи все еще там, вместе со строительным материалом, поэтому возможна починка. В принципе ребенок может пережить любые самые серьезные травмы. Вопрос только в том, будут ли эти травмы иметь высокие аберрирующие свойства как инграммы.
Если муж разговаривает во время полового акта, каждое слово будет инграммным. Если он бьет мать, то эти побои, как и все, сказанное им и ею, становятся частью инграммы.
Если женщина не хочет ребенка, а мужчина хочет, ребенок позже будет реагировать на него как на защитника и может даже получить нервное расстройство в связи со смертью отца. Если женщина хочет ребенка, а мужчина - нет, то расчеты на предмет защитника меняют полярность. Это также относится к случаю, когда присутствует попытка или угроза аборта, если она содержится в инграмме.
Если мать получила травму, а отец проявляет сильное волнение по поводу ее благополучия, инграмма включит все это в свое содержание, и ребенок получит инграмму сочувствия. Следовательно, отныне лучший способ выживания для него - патетическое поведение во время собственных травм и даже попытки сделать так, чтобы с ним происходили травмы.
Беременная женщина должна быть окружена заботой общества, которому небезразлична судьба будущего поколения. Женщине надо помочь встать, если она упала, но молча. Нельзя ожидать от нее, что она будет носить тяжести. Не требуйте от нее участия в половом акте, ибо во время беременности половой акт - это инграмма в ребенке.
Существует огромное количество беременностей, о которых никто не догадывается. Насильственный половой акт, использование растворов для спринцевания и противозачаточных средств (которыми пользуются женщины, не знающие о своей беременности), напряжение мышц живота во время испражнений, падения и несчастные случаи могут объяснить большое количество выкидышей, которые происходят в период до первой менструации после зачатия. В самом начале развития зародыш не очень жизнеспособен, и его можно серьезно травмировать действиями, которые мать посчитала бы за пустяки. После первой пропущенной менструации опасность выкидыша уменьшается, и его можно ожидать, только если ребенок является генетическим уродом или произведена попытка аборта. Генетические отклонения больших размеров являются такой редкостью в процентном отношении, что ими можно пренебречь.
Внутриутробная мембрана, за которой находится жидкость и развивающийся зародыш, может быть неоднократно повреждена, и жидкость выйдет после первой пропущенной менструации, а ребенок все равно выживет. 20-30 попыток аборта -это не так уж необычно для аберрированной женщины, и каждый раз можно повредить мозг и тело ребенка.
Ребенок до рождения не зависит от стандартных восприятий своих органов чувств. Инграммы - это не воспоминания, а записи на клеточном уровне. Поэтому ребенку не нужны барабанные перепонки, чтобы записать инграмму.
Известны кейсы, где механизмы звукозаписи, которые уже развились у ребенка, были уничтожены попытками абортов. Инграмма все равно была записана. Клетки восстановили слуховой аппарат, который должен был стать источником звука в стандартных банках, и подшили свою информацию в реактивный банк.
Следовательно, мать должна чрезвычайно хорошо к себе относиться, окружающие должны относиться к ней очень внимательно и быть хорошо информированы о необходимости сохранять тишину во время стрессовых ситуаций и несчастных случаев. В связи с тем, что нет возможности определить точно, когда началась беременность, а также в связи с высоким потенциалом аберрации в инграммах зародыша на начальной стадии развития, совершенно очевидно, что общество обязано улучшить отношение к женщинам, если оно хочет сохранить психическое здоровье детей.
Женщины до какой-то степени потеряли свою ценность в нашем обществе по сравнению с другими обществами в истории человечества. Их все время побуждают к соревнованию с мужчинами, что абсолютно бессмысленно. Уровень деятельности у женщин и у мужчин одинаково высок. Большое количество современных катаклизмов нередко возникает из-за неспособности понять важность роли женщины как женщины и разграничить сферы деятельности женщин и мужчин.
Поразительный научный факт - самые здоровые дети рождаются у самых счастливых матерей. Например, роды для клированной матери - несложное дело. Только инграммы родов у матери делают их трудными. Клированная мать не нуждается в анестезии. И это хорошо, так как анестезия производит ошеломляющий эффект на ребенка, и инграмма, когда она рестимулирована, развивает в ребенке тупость. Счастливая женщина имеет очень мало неприятностей с родами. И даже несколько инграмм, которые все же возникают, несмотря на все предосторожности - ничто, если общий тон матери достаточно высок.
Существует три типа любви между мужчиной и женщиной: первый подходит под закон дружбы и является нежностью, с которой люди относятся друг к другу; второй - это половой выбор и является настоящим притяжением взаимной сексу-
альности между партнерами; третий - это принудительная «любовь», не продиктованная ничем более разумным, чем отклонения от норм поведения.
Обычно в супружестве реактивных умов обнаруживается, что когда оба партнера очищены от аберрации, жизнь становится более чем терпимой, так как люди часто испытывают естественное расположение друг к другу, даже если сексуального притяжения между ними не было. Восстановление супружества путем клирования партнеров может не привести к той великой любви, которую воспевали поэты, но оно, по крайней мере, может привести к высокому уровню уважения и сотрудничества в достижении общей цели - сделать жизнь достойной жизни. И во многих супружествах после того, как партнеры стали клирами, под грязными лохмотьями аберрации было обнаружено, что они действительно любили друг друга.
Андре Бертин
ВОСПИТАНИЕ В УТРОБЕ МАТЕРИ*
ВОСПИТАНИЕ В УТРОБЕ МАТЕРИ, ИЛИ РАССКАЗ ОБ УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ
Приводя своего очередного ребенка в детский сад и беседуя с воспитателем или заведующей, которых матери знают уже на протяжении многих лет, они, как правило, сообщают им сведения, касающиеся младенчества, родов или беременности. Я часто отмечала взаимосвязь между определенными событиями, происходившими во время беременности, или самочувствием матери в этот период и какими-то отклонениями, чем-то необычным, по их собственному мнению, в характере или поведении ребенка.
Результаты исследований, проведенных за последнее девятилетие учеными разных специальностей, подтверждают наличие этой взаимосвязи и указывают на ее важность.
В 1982 г., оставив основную работу, я установила тесный контакт с врачами, медсестрами педиатрических отделений, акушерами, преподавателями учебных заведений различного уровня и родителями, наблюдавшими вышеуказанную взаимосвязь в процессе профессиональной деятельности или непосредственно в рамках семьи. Мы пришли к выводу о необходимости создания Национальной ассоциации пренаталь-ного воспитания (НАПВ), которая должна была стать мостиком между проводимыми исследованиями и супружескими
парами и матерями.
Ассоциация несет ответственность за распространение информации путем организации конференций и симпозиумов, целью которых является ознакомление с ней специалистов, работающих с будущими родителями, молодых людей или лиц,
А Бертин. Воспитание в утробе матери. Ленинград. 1991.
не получивших знаний подобного характера в процессе обучения.
Кое у кого разговор о пренатальном воспитании может вызвать чувство удивления и даже тревоги - неужели дело дошло до того, что уже устанавливаются какие-то нормативы и разрабатываются программы, регламентирующие развитие эмбриона и плода? Конечно, нет. Нормативы и программы имеют отношение к обучению, а не к воспитанию.
Воспитание можно определить как «предоставление подходящих условий и средств, способных обеспечить формирование и развитие человека». Действительно, мы воспитываем живое существо, подразумевая под этим его формирование и развитие в процессе развертывания движения жизни внутри него самого. Это имеет место благодаря тому физическому, эмоциональному и ментальному материалу, который оно получает извне, т. е. из окружающей среды.
После рождения ребенка процесс воспитания характеризуется тремя последовательными этапами - впитывание информации, подражание и личный опыт. В период внутриутробного развития опыт и, вероятно, подражание отсутствуют. Что касается впитывания информации, то оно максимально и, как мы увидим далее, протекает на клеточном уровне.
Ни в один из моментов своей дальнейшей жизни человек не развивается столь же интенсивно, как в пренатальном периоде, начиная с клетки и превращаясь всего через несколько месяцев в фактически совершенное существо, обладающее удивительными способностями и неугасимым стремлением к знанию.
Мы не можем отрицать важность воспитания ребенка, особенно в первые годы жизни, равно как и эффективность самовоспитания, когда взрослый человек берет на себя ответственность за собственное развитие путем упорной работы над собой. Однако мы уверенно заявляем, что ни первое, ни второе не оказывают того фундаментального воздействия, которое присуще пренатальному воспитанию.
Новорожденный уже прожил девять месяцев, которые в значительной степени сформировали базу для его дальнейшего развития.
Пренатальное воспитание несет в своей основе мысль о
необходимости предоставления эмбриону и затем плоду самых лучших материалов и условий. Это должно стать частью естественного процесса развития всего потенциала, всех способностей, изначально заложенных в яйцеклетке.
Нам часто задают один и тот же вопрос: для кого предназначен процесс воспитания - для матери или для ребенка? Ответ прост: для обоих. Результатом существующего симбиоза является следующая закономерность: все, через что проходит мать, испытывает и ребенок. Мать - это первая вселенная ребенка, его «живая сырьевая база» как с материальной, так и с психической точек зрения. Мать является также посредником между внешним миром и ребенком. Человеческое существо, формирующееся внутри матки, не воспринимает его напрямую. Однако оно непрерывно улавливает ощущения, чувства и мысли, которые вызывает у матери окружающий мир. Это существо регистрирует первые сведения, способные определенным образом окрашивать будущую личность, в тканях клеток, в органической памяти и на уровне зарождающейся психики.
Этот факт, заново открытый недавно нашей наукой, на самом деле стар как мир. Женщина всегда интуитивно ощущала его важность. Это все больше начинают понимать и отцы. Для древних цивилизаций значимость периода беременности была абсолютно непреложной истиной. Египтяне, индийцы, кельты, африканцы и многие другие народы разработали^свод законов для матерей, супружеских пар и общества в целом, которые обеспечивали ребенка наилучшими условиями для жизни и развития.
Более тысячи лет тому назад в Китае существовали пре-натальные клиники, где будущие матери проводили период беременности, окруженные покоем и красотой.
Научные исследования современности, проводимые в четырех различных областях, сконцентрированы на возможных факторах, играющих роль в воспитании плода еще в утробе матери. К ним относятся :
- сенсорные способности плода, изучаемые специалистами самого разного профиля;
- эмоциональный след, обнаруженный психологами и психоаналитиками;
- способность элементарных частиц, составляющих атомы, молекулы и живые клетки, записывать информацию как область интересов физиков;
- действие морфогенетических полей, выдвинутое в качестве гипотезы одним из английских биологов.
УДИВИТЕЛЬНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СПОСОБНОСТИ ПЛОДА
Группа французских специалистов различного профиля опубликовала результаты исследования, свидетельствующие о наличии у плода активной сенсорной системы. Напомним, что органы чувств и соответствующие центры мозга развиваются уже к третьему месяцу. На протяжении последующих шести месяцев они совершенствуются и специализируются в соответствии с выполняемыми функциями.
Зрение, которое невозможно без света, находится в состоянии временного бездействия. Плод просто воспринимает слабый оранжевый свет, да и то лишь при непосредственном освещении живота матери. Обоняние, функционирующее только при наличии воздуха, также бездействует до момента рождения.
Вкус уже хорошо развит, плод даже демонстрирует предпочтение одного другому. Ежедневно он поглощает определенное количество амниотической жидкости. Добавление к ней сахара путем введения его раствора заставляет плод с «жадностью» проглатывать двойную порцию. При использовании горького раствора количество потребляемой жидкости крайне мало. Более того, удалось получить изображение плода с гримасой недовольства, являющейся следствием отрицательных вкусовых ощущений. Внутриматочная жидкость подвержена влиянию всего, что съедает и выпивает мать. Это способствует привыканию плода к вкусу той пищи, которую он будет потреблять после рождения и которая характерна для региона проживания родителей. Приведем пример, когда малютка-индианка была удочерена супругами из Парижа в возрасте трех месяцев. Начав получать твердую пищу, она упорно отказывалась от риса, приготовленного по различным рецептам европейской кухни, однако с удовольствием ела рисовое блюдо, потребляемое в пищу ее матерью во время беременности.
На сегодняшний день наиболее широко изучены чувствительность и слух. Говоря о чувствительности, мы имеем в виду кожный покров. Кожа плода подвергается непрерывному воздействию мышц матки и брюшной стенки. Франц Вельдман, врач из Дании, разработал метод установления связи с плодом на эмоциональном уровне. Гаптономия дает возможность поддерживать глубокий контакт между отцом, матерью и плодом через брюшную стенку.
Что касается слуха, имевшего, по мнению наших предшественников, тесную связь с мудростью, поскольку в его основе лежит только восприятие, то здесь есть много моментов, способных вызвать неподдельное изумление.
Внутреннее ухо, воспринимающее звуки и передающее сигналы в мозг, формируется в конце шестого месяца. Однако Жану Фейжу удалось получить выраженные моторные реакции в ответ на раздражитель у плода в возрасте пяти месяцев. Доктор Томатис описывает случай с Одилью, маленькой девочкой, страдавшей аутизмом (погружение в мир личных переживаний). Ему удалось снять развившиеся нарушение путем использования английского языка в проводимых беседах. Дело в том, что мать девочки, работавшая в начале беременности в фирме по импорту-экспорту, использовала для общения исключительно английский язык. Вполне возможно, что плод воспринимает вибрации всеми своими клетками непосредственно с момента зачатия, сохраняя всю информацию в памяти.
Мари-Луиза Аучер, певица, ставшая впоследствии преподавателем, пришла к исключительно интересному выводу после наблюдения за семьями профессиональных вокалистов, постоянно упражняющихся дома. Матери, имевшие сопрано, рожали детей с хорошо развитой верхней частью тела. Они без труда могли поставить пальцы в положение, которое наблюдается при щипке (большой палец находится напротив всех остальных). Это свидетельствовало о раннем развитии сенсомоторной координации. Напротив, дети отцов с глубоким басом появлялись на свет с хорошо развитой нижней частью тела. Они рано начинали ходить. Однако гораздо более интересным фактом, нежели это до некоторой степени эфемерное свидетельство раннего развития, является то, что
и впоследствии они оставались неутомимыми ходоками.
Пытаясь понять данный феномен, Мари-Луиза Аучер организовала проведение работ в ряде университетов и больниц Парижа, в которых приняли участие известные специалисты. Они были поражены влиянием звуков, составляющих гамму, и их соотнесенностью с определенными участками основного энергетического меридиана, хорошо известного специалистам в области акупунктуры.
Бесспорным фактом является существование вибрационного резонанса между звуком и определенным позвонком, а также парой симпатических и парасимпатических ганглиев. При стимуляции одной из энергетических точек, одного из нервных центров, данный процесс распространяется также и на области, которые они иннераируют. Это приводит к динамизации всей ЦНС, включая мозг
На основании своих наблюдений Аучер пришла к выводу о важной роли звука. Работая в так называемом «поющем» родильном доме Мишеля Одена, она проводила занятия по хоровому пению, которые посещали будущие отцы, матери, а также их дети, если таковые уже имелись.
Аучер считает, что «хоровое пение улучшает самочувствие и укрепляет нервы матери, которая производит на свет здоровых, спокойных ребятишек, способных быстро и легко адаптироваться в самых различных ситуациях». Последнее - признак устойчивого психического равновесия, качество огромной важности для мира, в котором они будут существовать.
Если отцы регулярно разговаривают с плодом во время беременности, то почти сразу же после рождения ребенок будет узнавать их голос. Часто родители также отмечают, что дети распознают музыку или песни, услышанные в пренаталь-ном периоде. Причем они действуют на малышей, как прекрасное успокоительное средство, и могут быть успешно использованы при сильном эмоциональном напряжении.
Что касается действия голоса матери, то оно настолько велико, что доктору Томатису удается снимать напряжение у детей и взрослых и возвращать им состояние равновесия простым прослушиванием его записи, сделанной через жидкую среду. В данном случае пациенты воспринимают голос так,
как воспринимали его , находясь в утробе матери и плавая в амниотической жидкости. Этот возврат к пренатальному периоду, характеризующемуся безопасностью, дает возможность как молодым, так и пожилым пациентам установить новый контакт с первичной энергией и устранить нежелательные явления.
Плод также воспринимает музыку, которую слушает мать во время концерта. Он избирательно реагирует на его программу. Так, Бетховен и Брамс действуют на плод возбуждающе, тогда как Моцарт и Вивальди успокаивают его. Что касается рок-музыки, то здесь можно сказать только одно: она заставляет его просто бесноваться. Было замечено, что будущие матери часто вынуждены покидать концертный зал по причине непереносимых страданий, испытываемых от бурного движения плода. Таким образом, они должны слушать иную, более структурированную музыку.
Постоянное слушание может стать подлинным процессом обучения. В своем интервью телевидению американский дирижер Борис Брот ответил на вопрос о том, где он научился любить музыку, следующим образом. «Эта любовь жила во мне еще до рождения». Знакомясь с определенными произведениями впервые, он уже знал партию скрипки еще до того, как переворачивал страницу партитуры. Брот не мог объяснить причину этого явления. Как-то раз он упомянул об этом при матери, которая в прошлом была виолончелисткой. Она посмотрела свои старые программы и обнаружила, что сын знал наизусть именно те произведения, которые она разучивала, будучи беременной.
Это доказывает существование процесса непрерывной регистрации и запоминания. О подобном феномене рассказывали Рубинштейн и Менухин. Если бы только мы могли спросить об этом Моцарта!
Никто не возьмет на себя смелость утверждать, что мать, часто слушавшая музыку или много игравшая на каком-то музыкальном инструменте во время беременности, обязательно произведет на свет композитора, музыканта-виртуоза или певца. Несомненно одно — он будет восприимчив к ней и к различным звукам. Кроме возможного формирования определенных способностей, мать безусловно привьет ребенку
вкус к музыке, что значительно обогатит всю его последующую жизнь.
Однако развивающееся существо запоминает не только сенсорную информацию, но и хранит в памяти клеток сведения эмоционального характера, которые поставляет ему мать.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СЛЕД .
Психологи и психиатры выявили наличие еще одного существенного фактора: качества эмоциональной связи, существующей между матерью и ребенком. Любовь, с которой она вынашивает ребенка; мысли, связанные с его появлением; богатство общения, которое мать делит с ним, оказывают влияние на развивающуюся психику плода и его клеточную память, формируя основные качества личности, сохраняющиеся на протяжении всей последующей жизни. Опрос 500 женщин показал, что почти 1/3 из них никогда не думала о вынашиваемом в чреве ребенке. Дети, которых они произвели, имели при рождении вес, не достигавший средних показателей, у них чаще наблюдались различные серьезные нарушения в работе пищеварительного тракта и нервные расстройства. В раннем возрасте такие дети плакали намного больше. Они также испытывали определенные трудности в процессе адаптации к окружающем и к жизни, к сожалению, у ученых пока еще не дошли руки до изучения их реакций в возрасте полового созревания и в период зрелости. Таким образом, матери расплатились за незнание того факта, что питательной средой для развития являются их собственные чувства и мысли, а потребность в любви возникает еще до рождения.
В июле 1983 г. доктор Верни, психиатр из Торонто, организовал проведение Первого американского конгресса по пре- и перинатальному воспитанию, в работе которого участвовали многие специалисты из европейских государств и Канады. Был сделан ряд интересных сообщений о взрослых, причиной страдания которых была сохранившаяся в подсознании информация о событиях, происходивших с матерью во время беременности. Рассмотрим в качестве примера случай с мужчиной, который испытывал внезапные приливы жара, сопровождающееся страхом смерти. Психиатр ввел его в гипнотическое состояние и прокрутил в обратном
порядке всю его предыдущую жизнь. Вспоминая девятый, восьмой месяцы внутриутробного развития, этот человек чувствовал себя абсолютно нормально. Когда подошла очередь седьмого месяца, его голос вдруг резко прервался, лицо исказила гримаса ужаса, появилось ощущение внутреннего жара. Психиатр прекратил работу, сняв гипнотическое воздействие. Беседа с матерью поставила все на свои места. Женщина призналась, что на седьмом месяце, будучи в состоянии депрессии, она пыталась прервать беременность, парясь в горячей ванне. С тех пор прошло 30 лет, мать забыла о трудных временах. Однако клеточная память сына сохранила не только ощущение чрезмерного жара, но и мысль о смерти, которая присутствовала в сознании матери. Именно это и явилось причиной страдания уже взрослого человека.
Для того чтобы понять сущность подобных феноменов, обратимся к исследованиям, проведенным доктором Левиным, специалистом в области хирургической стоматологии из Манчестера. В течение ряда лет он собирал молочные зубы, которые затем изучались с помощью электронного микроскопа.
Зубы - это архив нашего организма. Подобно геологу, определяющему возраст пласта, мы можем точно датировать временную принадлежность каждого слоя эмали. Доктор Левин был первым специалистом, обратившим внимание на сероватую линию, которую он назвал неонатальной. По его мнению, она является отражением родовой травмы. Отсутствие неонатальной линии в ряде случаев свидетельствует о том, что рождение происходило в самых благоприятных условиях. Однако, к сожалению, это лишь исключение, а не правило.
Слои эмали, расположенные ниже этой линии, отражают период, предшествовавший рождению. Доктору Левину удалось выявить некоторые часто встречающиеся аномалии, а иногда и четко видимые пустоты. Что же блокировало процесс формирования молочных зубов и, возможно, мягких тканей и органов на более или менее продолжительный период? Доктор Левин пригласил для совместной работы психолога, в обязанности которого входило проведение бесед с матерями маленьких пациентов. Итогом исследований стал вывод о
существовании четкой взаимосвязи между вышеуказанными аномалиями и сильным стрессом, пережитым матерями во время беременности.
При стрессе наш организм, в частности, наши надпочечники начинают вырабатывать катехоламины, или так называемые стрессовые гормоны, которые помогают нам справиться с возникшей ситуацией. Эти гормоны проникают через плацентарный барьер и оказывают воздействие на плод, формируя физиологическое состояние, отражающее состояние матери. Однако оно гораздо сильнее и имеет большую значимость, поскольку у взрослого человека за время его жизни развиваются защитные реакции, отсутствующие у плода.
Однако если здесь, в этом зале, сегодня присутствуют беременные женщины, то им° не следует испытывать особую тревогу по этому поводу, поскольку речь идет об очень сильном стрессе. Мы не берем в расчет быстро проходящее чувство тревоги, например, из-за вмятины в крыле автомобиля. Ребенок подвержен воздействию только сильного стресса, глубоких и длительных переживаний. К ним можно отнести, к примеру, плохие взаимоотношения между супругами, которые, повторяясь, превращаются в застывшую модель общения. Кроме того, следует помнить, что будущие матери обладают тем, что доктор Верни называет защитным щитом, предохраняющим ребенка любовью к нему. Она способна прикрыть плод от вредного воздействия даже в очень тяжелых, экстремальных ситуациях.
В тех случаях, когда мы испытываем чувство радости, счастья, процветания, наш мозг секретирует эндорфины, или гормоны «счастья». Они способны сообщать ощущение покоя или радости бытия плоду. Если он часто испытывает эти состояния в утробе матери, то они запоминаются и, вероятно, определенным образом окрашивают характер будущего мужчины или женщины.
На конгрессе в Торонто была также рассмотрена проблема обратного действия, т.е.- плода на мать. Например, считается, что беременность при диабете характеризуется определенной степенью риска. Однако в ряде случаев наблюдалось улучшение самочувствия женщин, что было обуслов-
лено секрецией инсулина из поджелудочной железы плода. Специалисты в области гомеопатии отмечают влияние беременности на общее состояние здоровья матери. Наблюдения за ребенком после рождения свидетельствуют о наличии тесной взаимосвязи между этим фактором и состоянием плода. Это подтверждается восстановлением естественных реакций у матери после родов.
Имеет ли место обратное действие на психологическом уровне? Определенные факты позволяют дать утвердительный ответ на этот вопрос. Мы здесь можем привести (как ради развлечения, так и в качестве информации к размышлению) случай с матерью Наполеона. Именно и только во время этой беременности у нее появилась страсть к военному делу, посещению полей сражений, разработке стратегических планов, которая прошла сразу же после рождения будущего императора. Я не рискну комментировать этот факт, а просто сообщаю вам о нем в том виде, как он описан историками.
СХОДСТВО МЕЖДУ ПЕРИОДОМ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ И ПРОЦЕССОМ ГАЛЬВАНОПЛАСТИКИ
Период внутриутробного развития подчиняется основным законам любого процесса формирования, воспитания, взращивания (питание, дыхание и т.д.) или процесса обмена информацией.
Предположим, что мы хотим нанести покрытие на печатную схему для компьютера. Мы укрепляем ее на катоде (-), который является принимающим полюсом батареи. На аноде (+) или излучающем полюсе той же батареи устанавли-
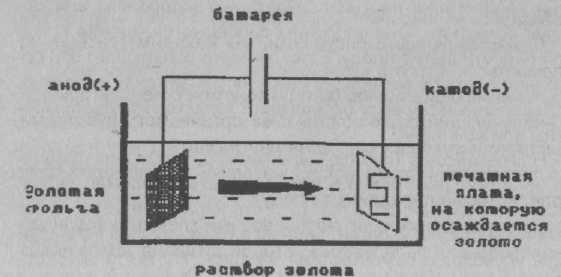
вается пластина из золотой фольги. После этого катод и анод погружаются в раствор соли золота. Под воздействием тока, генерируемого источником питания, происходит высвобождение ионов золота из раствора, которые оседают на схеме. Регенерация раствора осуществляется за счет пластины из золотой фольги. Таким образом, имеет место перенос ионов золота с фольги (+) на печатную схему (-) через присутствующий раствор.
Приведенный выше рисунок свидетельствует о том, что эти же процессы протекают и во время беременности.

Выше мы привели еще один, менее технический рисунок, который стал эмблемой Национальной ассоциации пре-натального воспитания.
Ознакомившись с рисунками, мы находим здесь те же элементы:
принимающий полюс (плод и генетические факторы);
излучающий полюс (мать с ее организмом, чувствами, мыслями и духовностью, если она развита);
проводящая среда (кровь матери и ее энергетическое поле, которые передаются плоду);
источник энергии, питающий все эти элементы (солнце -универсальная батарея, без которой жизнь на земле невозможна).
Таким образом, мы видим, что жизненные силы работают на всех уровнях.
1 Организм ребенка полностью формируется из материалов, которые поставляет организм матери. Свойства первого обусловлены составляющими этого материала.
2 Эмоции матери передаются плоду посредством гормонов и по энергетическим каналам, оказывая либо положительное, либо отрицательное влияние на его психизм.
Работы специалистов в области теоретической медицины, объясняющие пути записи информации на клеточном уровне, позволяют также предположить, что психологическая среда матери влияет на внутренние свойства клеток ребенка.
ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ
Жан Шарон, французский физик, считает, что элементарные частицы, составляющие атомы, молекулы и живые клетки, подчиняются как законам физики, так и основным законам физиологии. Они способны хранить в своей памяти информацию об окружающей среде, а также воспроизводить ее по собственному желанию и передавать какие-то сведения другим частицам. Запись информации, запоминание и передача - свойства психики. Жан Шарон утверждает, что каждая элементарная частица имеет своего «психического двойника».
Следовательно, информация, носителем которой он является, определяет вибрационные характеристики элементарной частицы.
Дэвид Бом, работавший в Англии с Эйнштейном, Джеффри Чью и Фритджоф Каира из США, а также многие другие ученые доказывают верность этого постулата с помощью математических расчетов. Информация о психике, мыслях и чувствах матери, получаемая формирующемся существом, определяет вибрационные свойства его клеток. Таким образом, все, через что мы проходим, записано в хромосомах клеток. В частности, это касается половых клеток, составляющих генетический капитал ребенка.
ВЛИЯНИЕ МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
Дальнейший свет на происходящее проливают исследования Руперта Шелдрейка, английского биолога, работающего в содружестве с различными специалистами. Он отметил, что изучаемые физиками четыре разновидности полей не могут объяснить причины появления и постоянства форм как живой, так и неживой материи. Согласно теории формативной причинности существует еще одно, пятое поле, которое Шелдрейк называет морфогенетическим. Именно оно генерирует волны, определяющие поле объекта.
Существующие формы имеют устойчивую взаимосвязь с соответствующей энергетической компонентой вышеуказанного поля, характеризующейся определенной вибрацией. По мнению Шелдрейка, мысли и чувства - это энергетические формы, находящиеся в постоянном резонансе с волной соответствующей длины, которая является одной из составляющих космического поля, пронизывающего каждого из нас. Таким образом, любой поступок, любая мысль или чувство связаны с волной вполне конкретной формы. Энергетический обмен осуществляется по бороздкам, называющимся креодами (creode). При неоднократном повторе этого обмена бороздки углубляются и придают определенную устойчивость как полю, так и состоянию сознания, постепенно моделируя психику и даже физическую структуру, о чем свидетельствует психоморфология.
СОЗНАТЕЛЬНОЕ, ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЛОДУ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Все сказанное выше свидетельствует о том, что беременная женщина, как никто другой, является средоточием различных энергий, структурирующих материю.
Она носит в себе проект нового существа. Поступки, мысли и чувства женщины являются причиной образования или притяжения вполне определенных типов энергии. Она может либо отмахнуться от этого факта, либо принять решение приложить, по возможности, все силы, чтобы направить свою психическую или физическую энергию по наиболее удобному для ребенка руслу. Данное решение также
касается окружающих людей как членов семьи, так и общества в целом.
Внутриутробный период развития подобен процессу гальванопластики. Если будущая мать знает об этом и старается исключить из своей жизни все негативные моменты, то она как бы привносит в свое тело, сердце и сознание «кусочек золотой фольги». Другими словами, она предоставляет формирующемуся ребенку наилучший физический материал и самую качественную информацию, существующую на сенсорном, эмоциональном и ментальном уровнях. При тесном содружестве с природой женщина становится еще одним сознательным создателем ребенка, которому она предоставляет наилучшие шансы из всех существующих
Не слишком ли честолюбивые устремления? Да - если рассматривать проблему с точки зрения цели, и нет - если иметь в виду простоту и легкость средств ее достижения. Здесь нет четко разработанных и обязательных методов, поскольку это противоречило бы самой сути воспитания, которое можно рассматривать как пробуждение. Будущая мать просто источает любовь, задействует свой творческий потенциал. Здесь нет также и готового перечня рецептов. Мы просто пытаемся дать почувствовать дух, атмосферу, которая может быть создана, и выдвигаем несколько предложений, касающихся физического, эмоционального и ментального уровней.
Физический уровень. Рассмотрим идею сознательного отношения к питанию. Мы все знаем о важности выбора здоровой, полезной пищи и сбалансированного меню. Однако механизм приема пищи ведет лишь к потреблению химических элементов, которые всасываются в желудке и пищеварительной системе. Однако в летнее время фрукты, овощи и злаки накапливают значительное количество солнечной энергии, которая может быть утилизирована в процессе тщательного и медленного пережевывания. Об этом говорят все специалисты по диетпитанию. Кроме того, вы сами наверняка не раз убеждались в эффективности подобного потребления пищи. Когда вы немного устали, попробуйте съесть какой-нибудь, даже не очень сладкий фрукт, например яблоко, и к вам вернется энергичность. Пищевые про-
дукты требуют переваривания, только тогда содержащиеся в них вещества попадут в ваши клетки. Солнечная же энергия, проникающая через рот и передающаяся непосредственно нервной системе, принесет вам немедленное чувство облегчения. Глубокое дыхание поможет удержать и распределить эту энергию. Наконец, если будущая мать испытывает в процессе еды радость, чувство благодарности к природе за ее бесценные дары, то она приносит тем самым огромную пользу ребенку как в эмоциональном, так и в физическом плане. Кроме того, она воспитывает в нем положительное отношение к пище.
Эмоциональный уровень. Эмоции и пространство характеризуются очень тесной взаимосвязью. Несчастье, душевная боль вызывают ощущение сжатия сердца, нехватки воздуха. Такие отрицательные эмоции, как страх, ревность, злоба, приводят к появлению чувства тяжести, плохого самочувствия и закрепощения. Радость заставляет наше сердце петь. Например, когда мы влюблены, нам легко и хорошо. Кажется, что за спиной выросли крылья, нас переполняет энергия, мы готовы обнять весь мир. Очень полезно культивировать в себе подобное состояние счастья и внутренней свободы, передавая его ребенку, который зафиксирует в своих клетках это ощущение неизбывной радости.
Музыка, пение, поэзия, искусство, природа помогают достижению данного внутреннего состояния и воспитывают в ребенке чувство прекрасного. Здесь важную роль начинает играть и отец. Отношение к жене, беременности и ожидаемому ребенку - главный фактор, формирующий у него ощущение счастья и силы, которое передается ему через уверенную в себе и спокойную мать.
Однако жизнь иногда нарушает эту идиллическую картину, поскольку в ней могут иметь место стрессы (например, автомобильная катастрофа), серьезные ситуации (увольнение с работы отца) или тяжелая утрата близких. Что же следует делать в этих трудных обстоятельствах? Самое разумное -попытаться справиться с ними. Матери обладают тем, что доктор Верни называет защитным щитом ребенка: любовью к нему.
Многие женщины говорят о том, что во время беременности у них появлялся рефлекс защищать своего ребенка, как существо, уже рожденное. По этой причине они сознательно подавляли в себе все нежелательные эмоции. Эти будущие матери разговаривали с ребенком, объясняли ему происходящее, успокаивали его. В это время ребенок "записывал" на клеточном уровне информацию о том, что в жизни есть взлеты и падения, которые можно всегда преодолеть. Таким образом, закладывалась основа сильного, выносливого человека.
Ментальный уровень. Женщины обладают хорошо развитым воображением. Они могут успешно использовать его при формировании ребенка. Людям с богатым воображением часто сопутствует выражение "без царя в голове". В подобном контексте оно обозначает пустую мечтательность или необузданную фантазию, выраженные в большей или меньшей степени. Однако мы имеем в виду воображение творца, творческий потенциал нашего сознания. Если воображение направлено на такие категории, как красота, интеллигентность, доброта, мудрость, то оно способно творить чудеса.
Например, мать может работать с яркими цветами, т.е. носить с собой предметы или листы бумаги, окрашенные в разный цвет, использовать их в интерьере. Кроме того, она может рассматривать семь цветов спектра, образующихся при преломлении луча солнца в призме, и мысленно представлять себе, что они вливаются в клетки ее будущего ребенка. Это наиболее чистые и мощные по своему воздействию цвета, потому что свет - это жизнь.
Каждый из семи цветов связан как с психическим, так и с физическим планами. Таким образом, беременная женщина, работающая с данными цветами, способствует их совершенствованию и у себя, и у ребенка.
Она может также попытаться зримо представить себе те качества, которые она хотела бы видеть в ребенке. Будущая мать с помощью воображения может нарисовать себе картины проявления этих качеств в детском возрасте, в период полового созревания и в момент зрелости. При этом не следует сосредоточиваться на половой принадлежности, которая формируется в момент зачатия. Подобная визуализация -
это осознанное влияние на силы подсознания з целях их активизации и воплощения в жизнь.
Однако здесь следует проявлять большую осторожность, чтобы избежать навязывания каких-то своих скрытых желаний. Дети не должны быть средством компенсации неудач родителей или достижения их амбициозных притязаний. Они -свободные существа, обладающие правом на собственную жизнь. Главная задача заключается в том, чтобы заложить в них основу высоких качеств общего характера, которые дети смогут развить в последующем.
Несмотря на занятость, матери и отцы должны находить время (лучше всего какой-то конкретный час) для «свидания» со своим будущим ребенком, разговора с ним. Именно в этот момент они могут рассказать ему, с каким нетерпением ожидают его появления на свет и какой он здоровый, красивый, благородный, великодушный и сильный...
Хотим подчеркнуть, что природа отблагодарит мать за ее сознательные усилия. Форма благодарности может быть самой различной и проявляться:
1) в значительном уменьшении трех отрицательных моментов, присущих беременности, т.е. чувства усталости, беспокойства, страха. Под влиянием положительных мыслей они могут исчезнуть полностью оставив вместо себя ощущение уверенности, радости и гордости;
2) естественным завершением осознанной и полной светлых ощущений беременности будут {при отсутствии каких-то неожиданностей) роды, проходящие также осознанно, под контролем и с чувством радости и полного единения с ребенком;
3) ребенок, выношенный подобным образом, будет легко поддаваться воспитанию и, по всей вероятности, обладать всеми свойствами, которые могут удовлетворить родителей;
4) мать также только выиграет от осознанного отношения к формированию ребенка, поскольку она будет как бы вновь воссоздавать и самое себя как с точки зрения тела, так и состояния сознания. Это будет настоящий ренессанс.
Национальная ассоциация пренатального воспитания занимается распространением накопленных знаний на протяжении пяти лет. Некоторые пары, уже имеющие детей, вы-
разили желание попробовать себя в новой роли сознательных творцов. Позднее они рассказывали нам, что испытали необычное и неизведанное ранее, что их последний ребенок сильно отличается от всех остальных детей и что взаимоотношения между ними и им складываются значительно легче, хотя они более глубоки по содержанию. Кроме того, эти пары утверждают, что они сами многому научились, а их жизнь стала богаче и насыщеннее.
Итак, я изложила наиболее важные моменты, касающиеся периода внутриутробного развития. Если я не очень утомила вас, то мне хотелось бы сказать несколько слов и о зачатии, истинном моменте зарождения нового существа.
ЗАЧАТИЕ
То, что я собираюсь сейчас сказать, еще не подтверждено результатами лабораторных исследований. Далее вы поймете, почему. Однако наши знания об энергетических полях и записи информации на клеточном уровне позволяют нам по крейней мере задуматься об этом.
Каждая клетка воспринимает доходящую до нее информацию и передает ее другим клеткам. Если это так, то зародыш, появляющийся в момент оплодотворения, будет хранить все полученные им данные и затем передавать их образующимся клеткам, т.е. всему организму ребенка.
При совокуплении мать и отец испытывают достаточно сильные ощущения и чувства, генерируя мощное поле, которое заставляет вибрировать каждую клеточку их тела, включая гаметы, образующие при слиянии зародыш. Эта вибрация имеет исключительно важное значение. Давайте рассмотрим два экстремальных случая.
1. Представим себе пару, которая в один из субботних вечеров после хорошей выпивки, ссоры, а может быть, и драки ищет примирения в спальне. Они сильно рискуют создать существо, предрасположенное к похотливости и насилию, поскольку ему передаются вибрации родителей.
2. На противоположном конце шкалы расположим пару, вступающую в половой контакт, испытывая глубокое чувство любви друг к другу и полностью осознавая важность переживаемого момента. До этого они читали, рассматривали раз-
личные работы по искусству, слушали хорошую музыку, что повлияло на качество их вибраций, которые стали намного сильнее тех, что были присущи им от природы. Данная пара имеет все шансы на рождение ребенка, не обладающего пороками.
Народная мудрость гласит, что дети любви - прекрасные дети. Когда наступает посевная, садовники отбирают семена и готовят почву. Думающие люди, желающие зачать ребенка, убедятся в качестве «семян», постараются подготовить почву наилучшим образом, т.е. будут вести здоровый образ жизни и достигать определенного психологического настроя. Они могут также попытаться «оросить» почву с помощью гомеопатии и установить, насколько это возможно, преграду на пути наследственных нарушений.
В момент зачатия мать и отец «играют одинаково важную роль. Однако на протяжении последующих девяти месяцев «главной исполнительницей» становится мать. Слова «мать», «матушка» и «материя» имеют один корень, потому что в древности уже хорошо сознавали, что именно женщина и только она обладала властью над живой материей ребенка.
Эта власть настолько велика, что она может уменьшить влияние негативных и усилить воздействие положительных элементов в генетическом капитале.
Мы все разделяем ответственность за то, что природа возлагает на женщину, родителей. Мы все - партнеры, несущие определенную степень ответственности за приходящего в этот мир ребенка. Мы обязаны помогать ему и его родителям, пробуждая общественное сознание и заставляя работников социальных служб реагировать на происходящее путем принятия соответствующих мер.
Если бы вместо увеличения числа тюрем и больниц правительство всех стран попыталось устранить или смягчить последствия убогой и тяжелой жизни, обратившись к первопричине и больше заботясь о беременной женщине, которой следует разъяснить ее роль и создать условия, необходимые для реализации возложенных на нее задач, то мы могли бы получить более хорошие результаты при меньших финансовых затратах.
Всего через несколько поколений нам удалось бы значительно уменьшить число детей с физическими недостатками, а также преобразовать в лучшую сторону физический статус и психику как мужчин, так и женщин. И тогда каждый, став сильнее, устойчивее и увереннее в себе, более открытым для других людей и проявлений самой жизни, может надеяться на создание светлого мира на планетарном уровне, где любой человек найдет свое место и будет счастлив.
Мечта... Но она может стать реальностью завтра, если каждый мужчина, каждая женщина, любой специалист, направят свои усилия на ее конкретное воплощение.
В. Лосева, А. Луньков
СТРАХИ ВОКРУГ БЕРЕМЕННОСТИ*
СТРАХИ ПЕРЕД БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Почти каждая женщина, готовящаяся стать матерью, может испытывать многообразные, хотя в то же время и типичные, страхи. К наиболее распространенным относятся боязнь выкидыша, страх родить ребенка с физическими или психическими отклонениями, страх-перед самими родами, страх перед сексом в период беременности, страх перед движениями плода или же, наоборот, перед отсутствием таковых. Врачи в женских консультациях часто оставляют женщину наедине с ее страхами, а иногда даже способствуют их усилению, говоря: «Вы не должны волноваться, так как Ваши волнения могут повредить развитию плода». В результате женщина не перестает испытывать страхи, но пытается их просто подавить, что, естественно, плохо получается. В итоге она испытывает чувство вины за свой страх, что не улучшает ее состояние. И круг замыкается...
Страхи до беременности встречаются реже и могут возникать в случаях, когда беременность планируется. Но, несмотря на это, мы хотели бы рассмотреть и те, и другие страхи, поскольку ориентация «планирование семьи» становится все более распространенной. Наша задача дать будущей матери информацию и рекомендации, которые позволили бы ей самостоятельно разбираться в своем состоянии и находить из него положительный выход.
Итак, чего же может бояться будущая мать еще до того, как почувствует себя беременной?
Об этих страхах говорят редко, поскольку считается, что потребность иметь детей - естественное биологическое стремление женщины. Возможно, такие страхи не встреча-
* Психологическая консультация. 1997. № 1.
лись бы вообще, если бы женщина была только частицей природы, только «организмом», «особью», но не личностью. Однако вся предыстория личностного развития будущей матери может привести к тому, что наступление беременности она будет рассматривать не как удовлетворение своих потребностей, но какжизненный кризис. А кризис, как известно, связан с повышением неопределенности будущего, неуверенностью в себе при столкновении с этой неопределенностью, недоверием к своим силам и возможностям.
Но кризис, вместе с тем, это и возможность выработать новое, более зрелое отношение к жизни, основанное на доверии к себе и возросшем самоуважении, и, как ни странно, почувствовать даже лучше, чем до наступления кризисной ситуации, поскольку реальный положительный опыт преодоления трудностей дает новую внутреннюю опору. Но в любом случае наступление кризиса говорит о нежизнеспособности прежних, не всегда осознанных жизненных установок.
Эти установки, заставляющее женщину бояться беременности, имеют два основных источника: воспитание в родительской семье и, как ни парадоксально, послушное усвоение некоторых предрассудков, кочующих по психолого-педагогическим и популярным медицинским изданиям под видом «научных истин». Наверное, настал момент перечислить эти ограничивающие представления и рассказать будущей матери, почему они не верны и, несмотря на это, столь живучи.
Итак, сначала приведем типичные установки, которые будущая мать могла усвоить от своих родителей.
«Прежде, чем заводить детей, надо прочно стоять на ногах в материальном и профессиональном отношении».
Пропаганда такой установки позволяет родителям до бесконечности продлевать у дочери ощущение собственной незрелости и нереализованности. Ведь критерий зрелости, на котором основана подобная директива, достаточно расплывчат, и родители получают возможность бесконечно поднимать планку от «окончания института» до «защиты диссертации» и далее. А критерий стабильного материального положения определить в наше время еще труднее. Кроме того, в такой, установке есть и скрытый смысл. После рождения ребенка
никакой профессиональный рост уже невозможен, а материальное положение, скорее всего, улучшаться уже не будет. Поэтому положение необходимо как бы только для того, чтобы его «сохранить», хотя такая установка - наилучший путь к потере профессиональных навыков, так как невозможно сохранить что-либо, не развиваясь хотя бы в плане поддержания интересов к жизни за пределами семьи.
«Ты сама еще ребенок; как же ты можешь воспитывать детей?»
Первая часть этой фразы - безусловная истина для каждого из нас, поскольку мы храним в себе внутреннего ребенка всю жизнь. А вот вторая часть фразы присоединена к первой исключительно в целях манипуляции и управления для демонстрации родительского превосходства. Было бы нелепо предполагать, что наилучшими матерями становятся те, кто утратил контакт со своим внутренним ребенком, игнорирует его существование или жестко подавляет его. Именно контакт с нашей внутренней детской частью позволяет нам чувствовать нужды реального ребенка, ставить себя на его место и развивать в себе то, что называется материнской интуицией. А признание права на некоторые «детские желания» у себя самой позволят избежать излишней критичности и бессмысленной требовательности к маленькому ребенку. Кроме того, именно в ходе воспитания своего ребенка все мы получаем как бы шанс пройти вместе с другим существом по всем стадиям развития, не только помогая ему взрослеть, но и одновременно осознавая при этом как воспитывали нас самих. Это позволяет самим родителям освободиться от негативных установок, вынесенных из собственной родительской семьи, делая многое по-новому, не так, как их родители. Именно в реальном опыте взаимодействия со своим ребенком мать только и может стать зрелым человеком, ведь, помогая другому, мы помогаем и себе тоже.
Напомним, что нельзя выработать у себя нужных качеств «заранее», «впрок», не ставя себя в те ситуации, где они могут понадобиться.
«Ты - эгоистка, а мать должна уметь жертвовать всем ради детей».
Повторение таких фраз родителями приводит к тому, что
женщина, обнаружив в себе любое, самое невинное желание будет рассматривать это как признак неспособности быть матерью. Ведь скрытый смысл этой фразы - «мать должна полностью забыть о своих желаниях и стать орудием исполнения желаний ребенка». Если довести эту мысль до логического конца, то самой лучшей матерью является самая несчастная, самая неудовлетворенная, самая «жертвенная». Но в этом случае ребенок научится как раз двум вещам, вряд ли «запланированным» матерью при его воспитании: либо тому, как самому «стать несчастным», но уже без посторонней помощи, либо тому, как эксплуатировать «жертвенных», то есть тех, чей уровень самоуважения зависит исключительно от количества и масштаба принесенных жертв.
Кроме того, жертвенная мать формирует у ребенка чувство вины, не всегда осознанное. Это может сделать его «козлом отпущения» в кругу сверстников. Приведем конкретный пример.
На консультацию пришла мать с пятилетним сыном. Она жаловалась на то, что ребенка в детском саду «все бьют», «сваливают на него все проступки, а он не может постоять за себя или хотя бы сказать, что он не виноват».
Первое, что бросилось в глаза - это разительный контраст между внешним видом мальчика и матери. Мальчик был одет в очень дорогие, «фирменные» вещи и пугливо прятался за спину матери. Она же была одета подчеркнуто бедно и старомодно, на лице у нее застыла маска несчастное™, но при этом говорила она с большим напором и в интонации речи чувствовались большие претензии к миру в целом. Она как бы говорила не только словами, но и всем внешним видом: «Я всем пожертвовала ради него».
А как Вы думаете, уважаемый читатель, может ли ребенок пяти лет понять, почему окружающие люди, видя его вместе с матерью, смотрят на нее с состраданием? Единственная мысль, которая автоматически приходит в его голову: «Ее все жалеют, потому что я плох, во мне что-то не так». Естественно, что постоянное «беспричинное» чувство вины приводит к готовности принять любое наказание. Ведь, как известно, наказание снижает чувство вины и приводит к некоторому облегчению.
Оборотной стороной медали здесь является бессознательный расчет такой матери: «За то, что я тебе отдала всю свою жизнь, ты мне отдашь свою. Ты же видишь, насколько мир опасен для тебя, поэтому только со мной ты сможешь чувствовать себя в безопасности». Такому ребенку будет трудно в дальнейшем создать свою семью, поскольку он будет воспринимать это как измену матери.
Поэтому для любого ребенка, начиная с четырех-пяти лет, важно видеть, что мать может получать удовольствие от удовлетворения своих желаний, не связанных с ним. Именно через пример матери он получает право тоже получать удовольствие от удовлетворения своих желаний, не связанных с нею, и не испытывать при этом чувства вины.
«Не торопись заводить детей. Поживи в свое удовольствие» .
Скрытый смысл этой фразы - «когда появятся дети - удовольствия кончатся». Или: «Наличие детей только отнимает силы, но не прибавляет их». Особенностью матерей, сообщающих своим дочерям такую директиву, является то, что они часто рассказывают им, как они волновались и беспокоились, сколько тревог и страха они вынесли, пока дети были маленькими. Как говорится, это правда, но не вся правда. Такие матери почему-то упорно «не помнят» о том, получали ли они что-то от существования ребенка, кроме тревог и беспокойства.
Когда их дочери становятся постарше, такие матери продолжают управлять ими через предъявление собственной тревожности и беспокойства и нередко вместо поддержки в важный момент жизни дочери лишь усиливают у нее чувство страха. Например, дочь готовится к экзамену, а мать пьет валерьянку, приговаривая: «Я так волнуюсь за тебя».
Если в предыдущем случае семейное воспитание осуществлялось в основном через чувство вины, то в этом все многообразие эмоциональной жизни сводится к страхам и избавлению от них.
Дочь тоже обучается «тревожиться за мать» и за других близких. Поскольку «количество» тревоги, которое может выносить отдельный человек, ограниченно и все оно уже аккумулировано вокруг матери, то единственным способом, за-
щищающим от роста тревоги, является не иметь близких вообще. Поэтому появление ребенка - это появление нового повода для страха, а если детей не будет, то и страха не будет.
Дочь уже убедилась, что у матери нет других радостей, кроме «спокойствия», когда на какое-то время для страха нет поводов. Тогда «пока нет ребенка, я ничем не беспокою свою мать». Может быть, это имела в виду мать, когда говорила: «Поживи в свое (и мое) удовольствие».
Разумеется, все описанные директивы даются родителями своим дочерям с благими намерениями, а не с целью нанести им вред. И мы совсем не стремимся дать будущим матерям повод для обвинения будущих бабушек и «разборок» с ними. В самом деле, какие бы директивы Вы ни получали в детстве, если Вы их осознали и нашли им альтернативу, вреда они Вам не принесут. Думать по-другому - значит признавать бесконечность власти родителя над нами. А это, в свою очередь, приводит к нереалистичной гиперответственности за всю жизнь будущего ребенка. Или: «Если все мои проблемы и трудности связаны с тем, как меня воспитывали, то и все проблемы моего ребенка будут связаны с тем, как я его воспитаю». Или, что уж совсем нелепо: «Если все несчастья ребенка - по моей вине, то и все счастье - благодаря мне». А это не просто чрезмерное самомнение, это отрицание за ребенком права на свободу саморазвития. Так же как Вы в состоянии переосмыслить свой детский опыт, так и он будет в состоянии переосмыслить Ваши ошибки.
Поэтому настоящая подготовка к материнству состоит не в том, чтобы послушно следовать зачастую нереалистичным требованиям родителей, врачей, педагогов и других «просветителей», а в том, чтобы заново переосмыслить свой собственный, пусть и небольшой, жизненный опыт. И вообще, работа ума - наилучшее средство против страхов.
СТРАХИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Итак, женщина почувствовала себя беременной и столкнулась с новым для себя комплексом переживаний. Эти переживания проистекают из двух источников: с одной стороны, развивающийся плод уже с первых дней беременности оказыва-
ет влияние на эмоциональный мир матери, а с другой, мать часто оказывается во власти эмоций, обусловленных ее собственными представлениями о беременности и родах, а также влиянием на нее близких.
То, что эмоциональное состояние матери влияет как на процесс беременности, так и на роды, было известно уже первобытному человеку. И дело не в том, чтобы повторять эту банальную истину еще раз, а в том, чтобы дать будущей матери конкретные советы, как сохранить благоприятный душевный настрой на всех этапах беременности и максимально использовать уникальные возможности этой жизненной фазы не только ради обеспечения благоприятных условий для развития плода, но и для собственного личностного роста и развития супружеских отношений.
Надо сказать, что современной женщине труднее сохранить эмоциональный настрой в ходе беременности, чем женщине из архаического племени, слабо затронутого современной цивилизацией. И дело не в том, что у женщины, «близкой к природе», беременность и роды всегда протекают без осложнений. Если бы это было так, то в традиционной медицине всех народов не было бы разработано столько средств помощи беременной и рожающей женщине. Дело в другом. Отсутствие медицинской технологии и инструментария побуждало людей больше доверять естественным силам природы, разрабатывая особую культуру психологической поддержки и самоподдержки беременной женщины. Можно сказать, что ставка на медицинскую технологию ослабила способность женщины доверять своей интуиции и опираться на внутренние источники энергии. А это, в свою очередь, усилило чувства неуверенности, тревоги и беспомощности и связанной с ними вины. Ведь в наше время все знают об отрицательном влиянии негативных эмоций матери на развитие плода. Добавьте сюда еще усилия санпросвета, издающего для женских консультаций плакаты устрашающего содержания, и Вы поймете, что современной женщине сохранить душевное спокойствие во время беременности становится все труднее. Но и это еще не все.
На будущую мать обрушивается такой поток медицинской информации, содержащей в основном ограничения, которые
трудновыполнимы в реальности (особенно касающиеся питания, физических нагрузок и образа жизни), что, продолжая привычный способ существования, она неминуемо оказывается во власти чувства вины, не вполне осознавая, что полностью выполнить все медицинские рекомендации не может ни одна женщина. Сразу напомним, что даже если Вы в чем-то совершили ошибку или оказались во временной стрессовой ситуации, то важно быть убежденным в том, что у плода имеется достаточно защитных сил, чтобы нейтрализовать негативные последствия. И Ваша вера в это -лучшая поддержка для него.
Надо сказать, что природа предусмотрела систему многоступенчатой защиты беременной женщины и плода от влияния временных негативных факторов. Но вот об этом-то беременная женщина, как правило, и не узнает.
Такую информацию не почерпнешь в женской консультации. Ее можно получить в группах подготовки к родам, клубах сознательного родительства, а также в недавно вышедших книгах. Например, таких, как: Дассано-Марконе М. «Девятимесячный сон: Сны в период беременности». - М., 1993; Бертин А. «Воспитание в утробе матери». - М., 1992; Дик-Рид Г. «Роды без страха». - СПб., 1996.
А теперь вернемся к страхам и другим отрицательным эмоциям, возникающим во время беременности. Все, наверное, слышали фразу, что мать и плод находятся в неразрывном единстве и все, что испытывает мать, непосредственно передается плоду. Отсюда часто делается вывод, что тревожность и страхи матери всегда передаются плоду, который страдает от этого. К счастью для них обоих, это не всегда так, как показали исследования последних лет, проведенные микропсихоаналитиками С. Киссинджером, С. Фанти и др.
Дело в том, что представление о симбиотическом единстве матери и плода, беспроблемном «рае» внутриутробного существования оказалось несоответствующим действительности. С первых часов своего существования Эмбрион представляет собой самостоятельное существо, а не часть материнского организма. Он обладает особым составом белков и вызывает со стороны организма матери естественную реакцию отторжения, как и против любого инородного тела.
Но у Эмбриона достаточно защитных сил, чтобы противостоять этому отторжению. Поэтому микропсихоаналитики заменили понятие «внутриутробного симбиоза» на понятие «внутриутробной войны», в которой периоды перемирия, достижения временного равновесия постоянно нарушаются периодами дисбаланса в силу самого роста плода. В периоды нарушения равновесия, когда плод растет особенно интенсивно, проявляя свою активность и жизнеспособность, мать может испытывать приступы беспричинной тревожности, раздражительности, подавленности, агрессивности, что является отражением в ее бессознательном иммунных и нейрохимических реакций, связанных с «победой» плода.
Иными словами, когда мать не может найти в реальной жизни причин для своего беспокойства, эта причина может быть обнаружена в весьма положительных для развития плода факторах его роста.
Поскольку мать считает такие свои состояния «беспричинными», то она опасается делиться ими со своими близкими и врачами, боясь услышать, что «Вам нельзя волноваться, так как этим Вы вредите Вашему будущему ребенку». В итоге она пытается подавить эти страхи, отчего они, конечно, не исчезают, а становятся более длительными, хроническими, создавая пониженный фон настроения, чувства вины и подавленности. Хотя минимума позитивной информации о причинах ее беспокойства достаточно, чтобы ее успокоить.
Беременные женщины часто спрашивают: «Все говорят разное, а кому доверять - я не знаю». Здесь работает общее правило, относящееся не только к периоду беременности, но и ко всей последующей жизни. Доверять можно тому, кто вселяет уверенность и готов тебе помочь, а не тому, кто вселяет в других беспомощность и страх.
Это касается и повседневного общения беременной женщины. Ей желательно избегать людей и разговоров, вызывающих отрицательный настрой и тревожное фантазирование. Кстати, навык ставить фильтр для защиты себя от негативной информации и людей, желающих вызвать у Вас отрицательные чувства и состояния, необходим не только беременной, но и любому человеку. А развитие в себе способности к позитивному творческому воображению, беэуслов-
но, окажет положительное влияние на развивающийся плод. Поэтому многие специалисты по пренатальнои психологии и педагогике рекомендуют беременной каждый день, хотя бы по несколько минут, представлять себе позитивные моральные и психологические качества будущего ребенка или обсуждать это с мужем. При этом не рекомендуется представлять себе ребенка определенного пола или внешности, а думать о достоинствах, которые украсят любого человека независимо от его пола, профессии и интересов.
Как показали последние исследования, тренировка позитивного воображения оказывает благотворное влияние не только на ход беременности, но и на процесс родов, здоровье матери и ее отношения с ребенком в дальнейшем.
Но существуют стрессы, которые действительно могут негативно отразиться на развитии плода. Это относится прежде всего к хроническим конфликтным ситуациям в семье, причем именно к тем, где женщина чувствует себя жертвой, а не просто активно отстаивающей себя стороной. Если уж конфликта невозможно избежать во время беременности, то желательно, чтобы женщина в них помнила о необходимости активной защиты себя и будущего ребенка, а не занимала пассивно-страдающую позицию ради «мира любой ценой». В таких ситуациях часто может быть полезна помощь психолога-консультанта или совместное с мужем посещение групп по подготовке к родам.
Часто возникает вопрос о допустимости интимных отношений в период беременности или даже в период грудного вскармливания. Конечно, каждая пара решает этот вопрос индивидуально, но укажем сразу, что утверждения о «вреде» для плода интимных отношений между будущей матерью и отцом беспочвенны. Если, конечно, нет серьезных медицинских противопоказаний, круг которых невелик.
Важно, чтобы будущая мать отчетливо понимала, что ее ответственность за развитие плода велика, но не абсолютна. Иллюзия полного контроля над развитием плода мало чем ему может помочь, но легко спровоцирует у матери чувство вины и сомнения в правильности своих действий. Известно, что человек может только предполагать, а вот кто располагает - это каждый решает для себя сам. Кто верит в медицину, а кто во что-то еще...
СТРАХИ ПЕРЕД РОДАМИ
Выше мы показали, что далеко не все страхи беременной женщины относятся непосредственно к ситуации родов. Некоторые из них связаны с опасениями своей несостоятельности в роли матери и обусловлены особенностями семейного воспитания, другие же относятся- к самому периоду беременности и вынесены из чтения научно-популярных книг, авторы которых соревнуются в способах запугивания будущей матери, пытаясь создать у нее чувство, что она отвечает абсолютно за все в развитии будущего ребенка. Удивительно, что авторы мало или ничего не говорят при этом о природных защитных механизмах как самой матери, так и ее будущего ребенка, позволяющим нейтрализовать негативные факторы внешней среды и внутреннего состояния. А ведь именно такая информация не только помогает снизить тревожность, но и развивает доверие к высшим силам природы, освобождая тем самым от излишней, обессиливающей гиперответственности.
Существует психологический закон: взятие на себя излишней ответственности за то, на что мы повлиять не можем, лишает даже имеющихся сил, а принятие адекватной ответственности за то, что находится в пределах нашего контроля, соединенное с умственными и активными действиями, умножает силы. И здесь нельзя не вспомнить основоположника философии и практики естественных родов английского акушера Грантли Дик-Рида, который писал: «Многие трактуют роды и материнство как чисто механическое, материалистическое зрелище, без духовных ассоциаций... Мое учение абсолютно противоположно этому. Я верю в закон природы и силу Бога. Я не воспринимаю человека как всевластное существо, на самом деле я осознаю себя как малую частицу взаимосвязанного Целого. Для меня рождение нового человека - это событие, больше всего приближающее человечество к духовному и метафизическому миру. Это момент, когда появляется новая жизнь, а с нею и новые возможности. Когда я вижу ребенка, рожденного счастливой, здоровой матерью, т.е. становлюсь свидетелем лучезарного сияния, которое уносит ее в мир загадочный, только ей принадлежащий, я говорю себе:
«Только идиот думает, что он может сделать что-либо без ведущей руки Господа».
В современном общественном сознании странным образом сосуществуют две противоположные точки зрения. Первая из них состоит в том, что роды - естественный процесс и что женщина самой природой создана для материнства. Другая же состоит в том, что для их нормального протекания требуются сложнейшие формы медицинского вмешательства. И при этом мало кто прямо формулирует вопрос - могла ли природа сделать так, чтобы для реализации ее же законов требовались столь искусственные средства? Дело, конечно, не в отсутствии внешней помощи рожающей женщине, которая существует столько, сколько существует человечество, а в том, чтобы эта помощь была согласована с законами природы, а не «преодолевала» их за счет будущего здоровья матери и ребенка.
Сам характер помощи, оказываемой при родах, отражает установки цивилизации относительно ценностей и смысла человеческой жизни. Если воспринимать роды как чисто физиологический процесс, то, естественно, в родильном учреждении будет создана обстановка максимально приспособленная для применения медицинских процедур и минимально - для проявления человеческого участия и поддержания эмоционального благополучия. Поэтому сама атмосфера медицинских учреждений, насыщенных медицинской аппаратурой и инструментами, о назначении которых женщина может только догадываться, провоцирует у нее чувство напряжения, беспомощности и страха. «Если все это тут находится, то оно возможно понадобится мне, значит, я нахожусь в предельно опасной ситуации». Только для незначительного количества женщин, свято верящих в чудеса современной медицинской технологии, созерцание подобной обстановки повышает чувство безопасности. Для большинства же более приемлемой оказывается обстановка, приближенная кдомаш-ней, которая создается во всех наиболее современных родильных центрах по всему миру.
В современном обществе женщина может выбирать условия, в которых она проживет столь значимый момент своей жизни. Монополия государства на доступ к человеческому
телу, к счастью, закончилась. И здесь существуют различные возможности: роды в традиционных условиях родильной палаты, вызов врача на дом, роды в присутствии мужа или других близких, готовых оказать эмоциональную поддержку, выбор форм и объема медицинского вмешательства, помощь духовной акушерки, а также другие варианты, соответствующие национальным, религиозным или иным ценностям и традициям.
Поэтому, если страх перед родами связан с неприятием какой-то конкретной обстановки, то его вполне можно преодолеть за счет поиска альтернативных вариантов для себя. Важно, чтобы будущая мать остановилась именно на наилучших для нее условиях.
Но в каких бы условиях ни протекали роды, этот процесс потребует от женщины большого напряжения, и поэтому ей стоит заранее эмоционально и интеллектуально подготовить себя к деятельному участию в нем. Кстати, такая позиция противостоит самоощущению пассивной жертвы и позволяет эффективно преодолеть напряжение и страх.
При этом страх перед болью является наиболее распространенным и типичным. Этот страх выступает в двух основных формах: как страх перед неизвестностью у впервые рожающей женщины и как страх повторения ужасных переживаний при повторных родах, если первые происходили при недостаточно благоприятной обстановке.
И в том, и в другом случае способ противодействия будет одинаковым - начать надо с интеллектуальной подготовки и с самообразования. Желательно посещать курсы или прочитать книги, в которых процесс родов описывается как естественный и позитивный для женщины. Особенно рекомендуем книгу Г. Дик-Рида «Роды без страха» {СПб., 1996), которая разошлась миллионными тиражами по всему миру и помогла тысячам женщин, в том числе и тем, кто уже имел негативный опыт первых родов. Важно освоить методы мышечного расслабления и правильного дыхания, которые пригодятся Вам в любом случае, в какой бы обстановке не начались роды, а знание того, что происходит на каждом этапе родов, позволяет правильно интерпретировать свои ощущения и избавит от чувства неопределенности.
Доказано, что эмоция страха приводит к мышечному напряжению, а мышечное напряжение усиливает боль и само по себе является ее источником. Вот почему овладение навыками мышечного расслабления является столь важным -только тогда женщина сможет помочь сама себе, а это дает ей чувство уверенности и контроля над ситуацией.
Нам могут возразить, что даже в Библии есть слова, указывающие на неотвратимость боли и мук при родах. Ведь в Книге Бытия 3:16 Господь говорит Еве; «...умножу скорбь твою в беременности твоей, в муках будешь ты рожать детей». Современные библиографические исследования древнееврейских и греческих манускриптов показали, что слово, переведенное в данном случае как «мука», еще 16 раз используется в Библии в значении «труд, работа, усилие», а для обозначения «боль, мука» используются другие слова. В переводах, очевидно, сказалось собственное отношение переводчиков к родам, как к мучительному процессу.
Г. Дик-Рид доказал, что при правильном отношении к родам они могут превратиться для каждой женщины и ее семьи в радостное и торжественное событие.
Р. Равич
КАК РОДИТЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА1
Женщина, ожидающая ребенка, должна понимать всю меру ответственности, которая лежит на ней в этот период. В равной степени это относится и к членам ее семьи, особенно мужу, если он хочет иметь крепкое потомство. Конечно, необходимо сразу же обратиться в женскую консультацию и встать на учет, но исключительно важно осознать, что без участия самой женщины в процессе подготовки к здоровым родам никакой самый замечательный акушер-гинеколог не сможет предотвратить патологию. Родить здорового ребенка - это совместная задача, в решении которой врач участвует как советчик и помощник, но делать все для своего будущего ребенка должна сама женщина. Она должна постоянно следить за собой, ее здоровье должно быть в наилучшем состоянии, максимально приближенном к норме. Для здоровой женщины беременность и роды - естественный процесс, это не болезнь, сопровождаемая плохим самочувствием, а особое состояние, требующее серьезного и ответственного отношения.
Знаменитого немецкого врача в начале века молодая женщина спросила: «Профессор, что мне делать, чтобы у меня родился здоровый ребенок?» Посмотрев на нее, он ответил: «Вы опоздали на 25 лет». Вопрос о том, как конкретно следует заботиться о здоровье девочек, чтобы готовить их к предстоящему полноценному и здоровому материнству, выходит за рамки этой работы, здесь мы хотим обсудить - что должна знать и что должна делать взрослая женщина, чтобы ее беременность прошла без осложнений, и как она должна готовиться к рождению ребенка в современных условиях. Круг обсуждаемых вопросов включает психологическую подготовку, рациональное питание, физическую активность, движение и отдых, психофизическую установку и другие факторы, важные для обеспечения здоровья беременной женщины.
'Семья и школа. 1998.
ПРАВО РЕБЕНКА - БЫТЬ ЖЕЛАННЫМ
Стала банальной истиной идея теской взаимосвязи психического и физического состояния человека, но ни в один период жизни психосоматика не играет такой существенной роли, как во время беременности. Уравновешенное, оптимистическое настроение женщины значительно облегчает течение беременности. Главное условие спокойного состояния - это желание женщины иметь ребенка. Неотъемлемое право каждого ребенка - право быть желанным. Ребенку необходима мать, иначе он не может выжить, но и женщине, чтобы полностью ощутить себя женщиной, необходимо стать матерью, испытать все радости, страдания и трудности, без которых ее жизнь неполна. Даже в тех случаях, когда обстоятельства складываются против рождения ребенка (а обстоятельства всегда препятствуют всему новому), женщина должна тщательно взвесить все доводы. Ничто не может повлиять на ее будущую жизнь, психику и здоровье так отрицательно, как первыйаборт.
Если женщина решилась завести ребенка, очень важно с первых же дней радоваться ему. Желанный ребенок всегда здоровее, крепче, радостнее смотрит на жизнь, увереннее себя чувствует, он доброжелателен к людям и жизни, настроен на победу, и все это потому, что его мать с улыбкой приветствовала его первые толчки и с надеждой ждала его появления. Для женщины с доминантой здоровой беременности гораздо легче отказаться от вредных привычек, перестроить свой режим, с легкостью отрешиться от излишних развлечений, потому что на первом месте для нее в иерархии жизненных ценностей - здоровье и благополучие ее будущего ребенка.
И наоборот - если женщина ведет себя до последних дней беременности как ни в чем не бывало, не собирается прекращать ни курение, ни всевозможные развлечения, хождения в бесконечные гости с выпивкой и обжорством, если она совсем не обращает внимания на состояние своего здоровья... за все это, в конечном счете расплатится ребенок. Иногда дети страдают всю жизнь из-за преступного легкомыслия матерей. Самое важное - с первых же дней беременности соблюдать
правила гигиены. Именно так можно обеспечить уже в первые месяцы формирование здорового и полноценного эмбриона, начинать заботиться о своем здоровье в конце беременности, когда плод уже практически вызрел,- пожалуй, поздновато. По мнению многих специалистов, даже отпуск был бы крайне важен как раз в самом начале беременности - именно с точки зрения охраны здоровья и матери и ребенка.
Проведенные в лаборатории возрастной физиологии и патологии под руководством профессора И.А. Аршавского опыт с кроликами показали, что экспериментально вызываемые неврозы у на ранних стадиях беременности приводили к тому, что потомство рождалось с серьезными дефектами конечностей, заячьей губрй, пороками сердца и пр. Если же неврозы вызывались на поздней стадии беременности, это приводило к рождению физиологически незрелых, ослабленных особей. Именно физиологическая незрелость является основным поставщиком таких будущих заболеваний, как рак, сердечно-сосудистые и другие недуги! (И.А. Аршавс-кий). В детстве такие физиологически незрелые дети часто болеют, хуже развиваются, подвержены простуде и более ослаблены, чем их сверстники.
Когда ребенок уже зачат, мы не можем изменить его наследственные характеристики, но мы можем приложить максимум усилий для благоприятного течения беременности. Одним из необходимых и существенных условий надо признать здоровый психологический климат в семье. Новую зарождающуюся жизнь надо встречать и приветствовать с радостью и надеждой. Если же во время беременности, особенно на ранних стадиях, в семье возникает нервная, напряженная обстановка - то ли из-за нежелательного «прибавления», то ли в связи с бытовыми трудностями и перегрузками,- у женщины может появиться угроза выкидыша, которая отнюдь не всегда обусловлена только физиологическими причинами. Чаще всего это проявления ярко выраженного эмоционального стресса. Поскольку нервная система - самое уязвимое место у современного человека, будущая мать должна сделать все возможное, чтобы с самого начала охранять нервную систему ожидаемого ребенка.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ МАЛЬЧИКОВ, БУДУЩИХ ДЕВОЧЕК И БУДУЩИХ МАТЕРЕЙ
«Стресс и угроза выкидыша при беременности мальчиками отмечались в 2 раза чаще, чем при беременности девочками. Если учесть, что мальчиков, больных неврозами, в два раза больше, чем девочек, это указывает на большую чувствительность мальчиков к стрессу вообще и на относительно меньшую биологическую выносливость». Очень многие женщины мечтают родить мальчика, тем важнее их мобилизация на положительные эмоции, на радостное ожидание, на преодоление страха. «Отрицательное отношение к беременности и несоответствие пола ребенка ожидаемому родителями - пишет А. И. Захаров - встречалось в 68% случаев и часто имело последствием заболевание детей неврозом страха. Таким образом, невроз страха в большей степени, чем остальные неврозы, является откликом на нежелательность детей и патологию их вынашивания».
В первые три месяца беременности женщина должна прислушиваться к себе и делать то, что диктует ей тело. Например, токсикоз - первый сигнал протеста организма против нездоровой диеты, лекарств, алкоголя, сигарет, консервов. Беременная женщина, сознательно относящаяся к зреющей в ней новой жизни, должна постоянно помнить, что формирующийся эмбрион исключительно чувствителен к химикатам и вредным веществам.
В последние годы доказано также пагубное влияние рентгеновского и радиационного облучения на плод. Поэтому женщины должны знать, что «просвечивание» следует делать только при крайней необходимости, лишь по назначению врача и как можно ближе к сроку родов.
Необходима разработка специального курса занятий с беременными, рассчитанного на все девять месяцев. Главный элемент, который необходимо включить в такой курс,- преодоление страха. По большей части страх - следствие того, что женщина, впервые собирающаяся рожать, прислушивается к россказням, на которые так охочи досужие старушки. Страх приносит не только неприятные психические переживания, ко может и физически наносить серьезный вред ор-
ганизму. Недаром Конрад Лоренц писал: «Страх во всех видах является, безусловно, важнейшим фактором, подрывающим здоровье современного человека, причиняющим ему повышенное артериальное давление, сморщивание почек, ранние инфаркты и другие столь же прекрасные переживания» (К; Лоренц. «Восемь смертных грехов человечества»). Знание истинных фактов, правильная психофизическая подготовка к родам позволят женщине почувствовать уверенность в своих силах, осознать, что она делает все необходимое, чтобы обеспечить малышу наилучший старт в жизни.
Исследования показали, что у неподготовленных женщин вследствие страха, обладающего парализующей силой, замедляется и затрудняется сам процесс родов, так как специфические мускулы, которые заранее не были натренированы на расслабление в нужный момент, сжимаются и как бы «заталкивают» ребенка обратно. Поэтому так важно заранее обучать женщин умению расслаблять и напрягать нужные мускулы, довести аутотренинг до автоматизма; это поможет в первую очередь избавиться от страха. Современные женщины так увлеклись эмансипацией, что совершенно забыли ту великую истину, что материнство и отцовство - замечательная профессия. Чтобы стать и быть достойной матерью в наше сложное и стремительно меняющееся время, необходимо много знать и многому учиться.
Именно поэтому главное для беременной женщины - положительная установка, внутренний наказ, задание на вынашивание и рождение здорового ребенка. Радостное ожидание нового человека, пожалуй, не менее важно, чем соки, фрукты и витамины.
Если женщина нервничает, устала, возбуждена, ей нужно лишний раз отдохнуть, полежать или же пройтись по свежему воздуху, послушать успокаивающую музыку, полюбоваться на красивый закат. Вообще в период беременности следует использовать любые средства, чтобы хоть как-то облегчить себе жизнь, снимать напряжение и усталость - не прибегая к лекарствам, особенно психотропным. Неоценимую помощь здесь может оказать аутотренинг.
Психическая саморегуляция особенно важна в период подготовки к родам и во время самого процесса родов. Украин-
ский институт усовершенствования врачей с целью обезболивания родов включил в комплекс ранней дородовой подготовки программу аутогенной тренировки. Эффект был потрясающим: из 180 родов 178 прошли совершенно безболезненно.
Женщина, ожидающая ребенка,- это мост между прошлым и будущим, и вся ее воля должна быть мобилизована на веру, надежду и любовь к этому будущему. Женщина в течение всей беременности должна разговаривать со своим малышом (не обязательно вслух), гладить его, успокаивать, если он слишком «брыкается».
Чтобы избежать в дальнейшем проявлений ревности и соперничества со стороны старших детей, те должны заранее знать о том, что семья готовится к приему нового члена, они должны принять участие в заботах о матери во время ее беременности. Замечательно, если мать позволяет погладить ей живот, особенно когда уже чувствуется, как ребенок толкается внутри. Приучение старшего ребенка заранее к будущему малышу служит не только профилактикой невротических реакций, но и одной из самых эффективных форм полового воспитания, когда девочка с детства осознает свою предназначенность для продолжения рода, а мальчик - свою ответственность перед женщиной.
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ БУДУЩЕЙ МАТЕРИ
Будущая мать должна помнить, что рождение ребенка - естественный, нормальный процесс, для которого ее организм будет прекрасно подготовлен, если она сумеет правильно выполнять свои обязанности по отношению к нему и тем самым по отношению к своему будущему ребенку. Если женщина свою часть работы сделает хорошо, Природа вершит остальное и таким образом обеспечит безопасные и легкие роды.
(Маргарет Брэди. «Как легко родить здорового ребенка»).
1. Положительный эмоциональный настрой на здоровую беременность и благополучные легкие роды, на крепкого, физиологически зрелого ребенка.
2. Создание благоприятных условий для рождения ре-
бенка, психологических, эмоциональных, социальных, физических и экологических.
3. Употребление здоровой, естественной, натуральной пищи с максимальным насыщением витаминами, микроэлементами, минеральными солями, соки, фрукты, овощи, нерафинированные крупы и хлебобулочные изделия из нерафинированной муки, орехи, мед, молочнокислые продукты, яйца, мясо, рыба, свежая и сухая зелень, бобовые и пр., цветочная пыльца, апилактоза. Стремление максимально избегать вредной для женщины и ее будущего ребенка пищи - соль, рафинированный сахар, копчености, солености, маринады, консервы, безалкогольные напитки, продукты, содержащие консерванты и химические красители, продукты из рафинированной муки, рафинированные жиры.
4. Добиваться регулярной и эффективной работы всех органов выделения (кожа, легкие, печень, почки), без лекарств очищающих организм от продуктов метаболизма.
5. Избегать вредных привычек: употребления алкоголя, курения, наркотиков, пассивного курения (как минимум за год до зачатия).
6. Активно пользоваться естественными друзьями человека: солнцем, воздухом, водой в разумных количествах. Здоровый сон, здоровая одежда, обувь.
7. Ежедневная физическая активность, ходьба, посильная гимнастика, массаж и самомассаж для оптимальной психофизической подготовки к мягким родам.
8. Занятия аутотренингом и медитацией - чтобы овладеть умением расслабляться, это потребуется в процессе родов. Обучение навыкам снятия стрессов и умению полноценно отдыхать.
9. Предродовое воспитание будущего ребенка: медитация, речевое общение, красивая классическая музыка, красивые картины, красивая природа, красивая и умиротворенная домашняя обстановка, чтение детских стихов и пр.
10. Участие мужа: забота, помощь, внимание, разговоры о будущем ребенке, совместные прогулки и совместный отдых на свежем воздухе, обучение мужа приемам массажа и помощи беременной жене, совместная психофизическая подготовка к мягким родам, участие мужа (по возможности) в
процессе родов; импринтинг (первое запечатление новорожденного) включает механизм безоговорочной любви со стороны отца.
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ЕЩЁ НЕ РОЖДЁННОГО РЕБЁНКА
Развитие ребенка от слияния двух микроскопических клеток до полностью сформировавшегося миниатюрного человеческого существа, активного, энергичного, барахтающегося или умиротворенно плавающего в жидкой прена-тальнои среде и чувствующего себя комфортно и в полной безопасности,- одна из великих тайн жизни
Рост идет гигантскими темпами. На 12-й неделе плод достигает всего 9 сантиметров в длину, на 20-й - 20 сантиметров, на 28-й - 35 сантиметров. Это начало жизнеспособности, если ребенок рождается преждевременно, его уже можно выходить. На 40-й неделе от макушки до пят его рост составляет в среднем уже 50 сантиметров.
К третьему месяцу внутриутробного развития у нерожденного ребенка развиваются все системы, необходимые для жизнеобеспечения после родов. Остальные шесть месяцев эти системы созревают и учатся работать совместно под руководством главного «компьютера», управляющего жизнедеятельностью человека, - его мозга. К концу беременности у ребенка даже появляются подкожные жировые отложения, обеспечивающие ему сохранение тепла.
Хотя кажется, что именно в последней трети беременности ребенок растет быстрее всего, на самом деле это обманчивое впечатление. По сути - первый месяц самый активный: в это время рост увеличивается в 10 000 раз! На втором месяце - только в 74 раза. В последние месяцы скорость развития снижается до 0,3. В среднем вес ребенка в момент рождения колеблется от 3 до 3,5 кило: при этом мальчики чуть тяжелее, девочки. Конечно, есть множество факторов, влияющих на вес ребенка: уровень достатка семьи и тем самым питание матери, расовые признаки, рост и вес родителей, количество детей, рожденных прежде, физическая активность матери, предрасположение к крупным детям - все имеет значение.
Самое поразительное - это тот неоспоримый, доказанный наукой факт, что не рожденный ребенок, находящийся в чреве матери, уже обладает чувством прикосновения, слышит, реагирует на большое давление, громкие звуки, сосет и глотает и даже улыбается!
Еще древние целители хорошо знали, что не только у новорожденного, но и у еще не родившегося ребенка имеется сознание, но только сейчас чудеса медицинской техники позволили изучить тайную жизнь младенца в чреве матери. Выяснилось, что младенец может чувствовать и понимать свои чувства, ощущения и эмоции-и все на гораздо более ранних стадиях внутриутробного развития, чем еще не так давно считалось.
Исследования показали, что к шестой неделе эмбрион уже может двигаться, брыкается, отец или мать наклоняются к животу и говорят: «Умница, толкайся еще, хороший ребенок» или что-то вроде этого.
Существуют около дюжины различных программ образования нерожденного ребенка. Разработаны даже специальные пояса для беременных, в которые вмонтированы пленки с записями, которые, по утверждению изобретателей, дают возможность парам рожать «эмоционально уравновешенных детей с высоким уровнем коэффициента интеллектуального
развития».
Сюзан Лудингтон-Хоэ, директор Ассоциации стимулирования образования младенцев, в книге «Как иметь более умного ребенка» подчеркивает: если и нельзя пока считать полностью доказанным, что специальные пренатальные занятия улучшают интеллект ребенка, бесспорно, однако, что эти занятия значительно укрепляют эмоциональную связь матери и отца (если он принимает в них участие) с ребенком. Такие дети более активны, они улыбаются, садятся, начинают ходить и говорить раньше, и у них более глубокие узы любви с родителями.
Каковы бы ни были жизненные обстоятельства, домашние дрязги, конфликты и взаимоотношения, отсутствие денег, трудности с продуктами - каков бы ни был наш тяжкий быт, все-таки, будущие мамы, прошу вас, пожалуйста, выкраивайте каждый день хоть несколько минут, чтобы подумать о веч-
ном, о доброте, послушать красивую музыку, доставить себе маленькое удовольствие, порадоваться какому-нибудь пустяку: красивому облаку, детской улыбке, смешному котенку - всякая радостная и добрая минута многократно усилится и станет частью существа вашего будущего ребенка.
Разговаривайте с ним, посылайте ему ваше тепло, вашу улыбку, вашу нежность. Представляйте себе его - как он растет в вашем гостеприимном доме. Вот у него впервые забилось сердце: пожелайте ему крепкое и выносливое сердце. Вот он толкается - «Смотри, у меня уже есть ножки и ручки». В ответ пожелайте ему, чтобы ноги его держали крепко на земле и руки были умелыми. Каждый день хоть пять минут представляйте себе своего ребенка, разговаривайте с ним, сосредоточивайте на нем все свои мысли, всю свою любовь.
Этот тайный диалог идет на самом деле все время: обмен чувствами и ощущениями. Просто мы, в силу своего неумения сосредоточиться, не можем это почувствовать как следует. Но если будущая мать, ежедневно сосредоточиваясь на мыслях о своем ребенке, прислушивается к нему, проникает мысленно в его тайную жизнь, концентрирует на нем все свое внимание, тренирует свое воображение, разговаривает с ним, передает ему свое тепло, ласку и нежность, то она создает глубочайшие взаимоотношения со своим будущим ребенком, устанавливая с ним пренаталь-ные узы любви.
Имеется колоссальное количество доказательств того, что эмоциональная жизнь матери сильно влияет на плод. «Это совершенно точно: эмоции беременной женщины в форме химических элементов и гормонов посылаются к нему через кровообращение матери, через плаценту в кровообращение плода» (Эшли Монтегю).
Беременная женщина должна понять удивительный факт: плод - это активная личность. «Это совсем не инертный пассажир, плод в значительной степени командует беременностью. Именно плод гарантирует успех эндокринной системы в процессе беременности и вызывает многочисленные изменения в физиологии материнского организма, чтобы приспособить его в качестве подходящего для себя дома. Именно плод решает, как ему лучше лежать и каким образом выхо-
дить на свет. Даже в процессе родов плод не является полностью пассивным - как его механистически относящиеся к родам профессионалы сравнивали с пастой, которую выдавливают из тюбика, или пробкой, которая вылетает из бутылки с шампанским» (Альберт В. Лили).
Сондра Рэй в книге «Идеальное рождение» советует. «Прикасайтесь к своему животу и говорите: «Детка, слушай внимательно. Я - твоя мать, говорю тебе: иди путем красоты, божественности и правды в своей жизни. Я хочу, чтобы ты был прекрасным физически, эмоционально, интеллектуально и духовно. Ты должен всегда пытаться быть добрым, любящим и полезным людям. Ты должен быть смелым и бесстрашным. Не позволяй другим людям неправильно обращаться с тобой. Что бы ни случилось в твоей жизни, ты будешь радостен, ты должен быть всегда радостен и всегда распространять радость вокруг себя. Ты будешь смелым и бесстрашным в работе по созданию нового мира».
Может быть, вы, юная мама, придумаете другие слова, но попробуйте каждый день выкроить тихую минуту сосредоточения и разговаривать со своим будущим ребенком. Тогда после рождения ваш эмоциональный контакт будет приносить вам глубокое удовлетворение и радость.
В равной степени это относится к будущему отцу. Если муж хочет, чтобы ребенок не плакал, услышав незнакомый голос после рождения (а исследования показали, что новорожденный резко пугается и плачет, услышав чужой мужской голос), он должен класть руку на живот жены каждый день и говорить: «Привет, малыш, я - твой папа, жду тебя с радостью, мы будем друзьями», или что-нибудь вроде этого. Изучая новорожденных, чьи папы благоразумно заранее учились любить своего малыша и разговаривали с ним до рождения, исследователи были изумлены, убедившись, что «неразумные» новорожденные поворачивали голову в сторону мужского голоса, уже хорошо знакомого им заранее, и не плакали, а улыбались. Уважаемые будущие папы, если вы хотите быть любимыми своими детьми, учитесь сами выражать эту любовь к своим будущим детям. И выражать ее не просто нежными словами, обращениями к будущему ребенку, но и каждодневной заботой о своей беременной жене.
Г. В. Скобло, О. Ю. Дубовик
СИСТЕМА «МАТЬ-ДИТЯ» В РАННЕМ
ВОЗРАСТЕ КАК ОБЪЕКТ
ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ*
Влияние матери на состояние психического здоровья ребенка стало пристально изучаться с 20-х годов нашего века. Известны классические работы R. A Spitz 30-40-х годов, где описано возникновение тяжелой депрессии у младенцев из-за разлуки с матерью; исследования J. Bowlby, посвященные изучению последствий материнской депривации для формирования характера и личности ребенка; работы М. Rutter о различных аспектах материнско-детских связей и многие другие. К настоящему времени в зарубежной детской психиатрической литературе тема «мать-дитя» является одной из самых приоритетных. Установленным фактом считается, что адекватное материнское отношение является залогом эмоциональной уравновешенности ребенка, создания у него чувства безопасности и доверия к окружающим людям и к миру в целом, что служит основой для нормального психического развития и функционирования.
В отечественной детской психиатрии уже в первые годы ее становления также уделялось внимание разработке этой проблемы. Однако, начиная с конца 30-х годов, изучение вопросов этого круга попадает под официальный запрет, так как в них усматривалась прямая связь с психоанализом.
Возможность рассмотрения роли семьи и родителей, в том числе матери, в происхождении психических расстройств у детей реально появляется лишь в 60- 70-х годах. В пер-
Социальная и клиническая психиатрия. 1992. № 2.
вую очередь в этом аспекте исследовались поведенческие отклонения в препубертатном и пубертатном возрасте, часто являющиеся наиболее ярким результатом негативного семейного влияния. В дальнейшем нарушенный семейный фактор всесторонне изучался в качестве одного из основных патогенетических звеньев многих пограничных, в том числе психосоматических, нарушений у детей.
Вместе с тем в отечественной психиатрии остается ма-лоразработанной проблема взаимоотношении в системе «мать-дитя» и их роль в этиопатогенезе психических нарушений у детей первых лет жизни. Это объясняется а первую очередь тем, что психопатология раннего возраста является достаточно новой областью детской психиатрии. Только в последнее десятилетие стало уделяться непосредственное внимание изучению диады «мать-дитя» в периоде раннего детства; этот фактор стал выделяться в качестве ведущего в генезе ряда психических нарушений преимущественно пограничного круга.
Учитывая доминирующую роль матери в жизни маленького ребенка, а также важность раннего этапа онтогенеза для нормального психического развития и здоровья ребенка в будущем, адекватное функционирование системы «мать-дитя» в первые годы жизни приобретает особое значение. С одной стороны, искажение материнско-детских взаимоотношений может оказаться пусковым или осложняющим фактором психопатологических расстройств, возникающих непосредственно в самом раннем детстве. Наряду с этим, нарушения диадического взаимодействия в раннем возрасте можно рассматривать и как предрасполагающий фактор психических отклонений в более старших возрастах. В этих случаях регистрацию неадекватного материнского отношения в первые годы жизни ребенка надо считать прогностически неблагоприятным моментом.
Задачи первичной профилактики, в свете сказанного, видятся в как можно более раннем выявлении нарушенного материнского отношения и его коррекции; в задачи вторичной профилактики должна входить комплексная реабилитация (медицинская, психологическая, педагогическая, социальная) обнаруженных диадических отклонений уже при наличии у
ребенка психопатологических расстройств с целью уменьшения риска отдаленных последствий. При этом необходимо соблюдать принцип комплексного подхода к проведению психопрофилактической работы, осуществляя ее как с ребенком, так и с его матерью, как с единой взаимодействующей системой.
Представленный взгляд на проблему материнско-детских взаимоотношений в раннем возрасте в ее психопрофилактическом аспекте лег в основу целенаправленного изучения вопросов становления и функционирования системы «мать-дитя», которое проводится в рамках лонгитудинального исследования психического здоровья детей раннего возраста в отделе детской психиатрии НИИ профилактической психиатрии НЦПЗ РАМН. В исследовании принимают участие детские психиатры, психологи и невропатологи, а также общие («взрослые») психиатры. К настоящему времени под наблюдением находится 50 детей раннего возраста и их семьи.
Динамическое наблюдение осуществляется с 2-го триместра беременности среди контингента первородящих замужних женщин, состоящих на учете по поводу беременности в районной женской консультации и согласившихся участвовать в данном научном исследовании. Обследование беременных и их мужей проводится психологом (тестовая оценка особенностей личности и внутрисемейных отношений) и психиатром (клиническая диагностика психического состояния родителей и клинико-генеалогического фона семьи). Детские невропатолог и психолог начинают обследование детей с месячного возраста, детский психиатр - со 2-го месяца.
Психологами для оценки психического развития младенцев используется отечественный метод дифференцированной качественно-количественной диагностики развития детей 1 года жизни; в последующем проводится традиционная патопсихологическая диагностика развития. Квалификация неврологического состояния базируется на принятых в отечественной детской неврологии критериях. Квалификация психического неблагополучия осуществляется как на синдромаль-ном, так и на симптоматическом уровне.
На первом году жизни ребенка проводится 4-5 плановых обследований каждым из специалистов, на втором и треть-
ем году - по 2 обследования; кроме этого, практически все дети обследуются дополнительно по мере активного обращения матерей. Как наиболее информативная, используется форма домашнего обследования. После рождения ребенка его родители, а более всего мать, продолжают наблюдаться психологом и психиатром.
Непосредственное изучение становления и функционирования диады «мать-дитя» проводится как психологами (тестовая оценка по специальным опросникам), так и детскими психиатрами (клинический аспект).
Применение комплексного подхода к проблеме в данном исследовании позволило выделить основные факторы, влияющие на этот процесс. К ним отнесены:
1) личностно-характерологические особенности матери;
2) наличие у женщины психической патологии до беременности (клинического и субклинического уровня);
3) психическое и физическое (соматическое) состояние матери во время беременности, родов и первых лет жизни ребенка и их динамика;
4) желательность или нежелательность беременности и степень «готовности к материнству» (термин впервые употреблен в неопубликованном исследовании психолога О. А. Копыл);
5) взаимоотношения матери с другими членами семьи (отец, дедушки, бабушки);
6) система взглядов матери на уход и воспитание ребенка в раннем детстве (сложившаяся в результате существовавших отношений с собственной матерью в детстве, чтения научно-популярной литературы, рекомендаций родственников, знакомых и т. д.);
7) психическое и физическое состояние самого ребенка;
8) наличие сепарационных моментов в жизни ребенка (ста-ционирование с изоляцией от матери, переход в дом бабушки, поступление в ясли и т. д.);
9) социальный статус матери и семьи в целом.
Взаимодействие вышеперечисленных факторов определяет формирование стиля материнско-детских связей, при нарушении которых каждый из названных факторов должен
являться предметом клинического анализа и при необходимости коррекционной работы.
Наши наблюдения свидетельствуют, что признаки искажения матери нско-детских взаимоотношений проявляются определенными клиническими феноменами и регистрируются как со стороны матери, так и со стороны ребенка. Так, недостаточность материнского отношения диагностируется на основании следующих признаков:
1) недостаточное понимание матерью биологических потребностей ребенка и низкое качество их удовлетворения, что проявляется в неполноценной организации ухода (т. е. системы гигиенических и оздоровительных мероприятий) и режима (соблюдение интервалов между кормлениями, регулирование периодов сна и бодрствования), в особенностях процесса вскармливания, а также проявляется в недостаточном различении матерью выразительных сигналов ребенка в отношении его потребностей;
2) неадекватное эмоциональное отношение к ребенку, которое может быть выявлено анализом субъективно высказываемого отношения к нему (преобладание отрицательных или нейтральных характеристик), а также клиническим наблюдением за поведением матери, ее мимикой, жестами, интонацией при общении с ребенком или его обсуждении;
3) малое количество контактов с ребенком, их непродолжительность и качественные нарушения (малая степень тактильного и позитивного эмоционального взаимодействия, глазного контакта и др.);
4) низкое качество стимуляции психического развития ребенка, определяемое отсутствием или недостаточностью организации стимулирующей среды и опережающей инициативы матери в общении с ребенком;
5) определенные поведенческие установки матери (малое число поощрений, большое количество запретов и т. д.), также нарушающие нормальное развитие ребенка.
Нарушенное материнское отношение, как правило, вызывает определенные особенности психического реагирования у ребенка, которые могут достигать патологической степени. Патогенное значение искаженного материнского отношения зависит от его силы и от особенностей индивидуального реа-
гирования ребенка. Наиболее уязвимыми в этом плане оказываются дети с такими биологически обусловленными состояниями как невропатия, минимальная мозговая дисфункция, генетическая предрасположенность к эндогенным психическим болезням, соматическое нездоровье и некоторыми другими.
У детей, испытывающих недостаток материнского чувства, возможно клиническое выявление феномена особого (искаженного) отношения к своим матерям. Оно проявляется либо в резко выраженной степени сензитивности к матери, ее исключительном предпочтении, либо в игнорировании матери, либо в негативном отношении к ней с элементами агрессии. Для выделения феномена особого отношения к матери клиническому анализу подвергаются эмоциональные реакции ребенка при общении с матерью, частота обращений к ней за помощью и способы этих обращений, степень автономности поведения ребенка в присутствии матери, характеристика его поведения в условиях экспериментальной кратковременной сепарации (реакция на уход, отсутствие и возвращение матери).
Наше исследование обнаружило нарушения материнско-детских взаимоотношений более, чем в половине обследованных семей. В ряде случаев эти нарушения носили достаточно устойчивый характер, а в большинстве - проявлялись непостоянно.
Р.Ж. Мухамедрахимов
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
И ПРИВЯЗАННОСТЬ
МАТЕРЕЙ И МЛАДЕНЦЕВ
ГРУПП РИСКА*
Экспериментальные исследования последних двадцати лет позволили получить данные о направленности младенца на взаимодействие с матерью или другим близким и ухаживающим человеком, описать вызванное младенцем поведение матери, рассмотреть собственно процесс взаимодействия. В отличие от сложившегося к 1970-м гг. традиционного рассмотрения развития как результата однонаправленного влияния родителей на ребенка, новые данные позволили понять влияние младенца на поведение матери и роль взаимодействия в развитии ребенка. Появилось основание рассматривать развитие с более широких теоретических позиций в сложной системе матери и младенца, членов семьи и младенца. Настоящая работа является продолжением представления данных литературы по взаимодействию и привязанности матери и младенца и посвящена особенностям протекания взаимодействия и формирования привязанности у младенцев и матерей групп риска
МЛАДЕНЦЫ ИЗ ГРУППЫ РИСКА
В ряду особых, трудных для установления взаимодействия и способствующих формированию сложных взаимоотношений с матерью выделяют младенцев с «трудным темпераментом» (difficult temperament), представителей групп риска по медицинским показателям, младенцев, испытав-
* Вопросы психологии. 1998. № 2.
ших нежелательные условия пренатального развития, рождения или постнатального развития.
Темперамент. «Трудный» темперамент был выделен как синдром характеристик, включающий высокий уровень активности, интенсивные эмоциональные реакции, сложности приспособления и в целом негативное настроение. Данные литературы показывают, что, несмотря на предположение о неблагоприятном влиянии такого младенца на взаимоотношение с родителем, прямой связи между темпераментом ребенка и различиями в поведении родителя не обнаружено. Оказалось, что связь между темпераментом и последующим родительским поведением может быть результатом процедур измерения темперамента, большинство которых основано на отчете матери, или может быть скорее следствием, чем причиной материнского поведения. К примеру, неуступчивость, гнев или недостаток уверенности у ребенка могут быть результатом поведения матери, а не темперамента ребенка. Исследования, в которых характеристики младенца описываются объективным наблюдателем независимо от восприятия ребенка родителем и до момента возможных влияний их взаимоотношений, показывают слабую связь между неонатальными характеристиками и развитием отношений родителя и ребенка. Авторы предполагают, что без влияния на родителя других факторов риска биологически опосредованные характеристики младенца не ведут к изменению отношений. К примеру, обнаружено, что усиление нечувствительности матери к 12 мес. зависело одновременно как от отрицательных пренатальных отношений, так и от увеличенной раздражительности новорожденного. Ненадежная, небезопасная привязанность раздражительного младенца к матери формировалась в случаях, когда матери испытывали недостаток социальной поддержки.
Карающее родительское поведение матерей-подростков, испытавших отвержение в собственном детстве и ограниченную поддержку со стороны близких, проявлялось вне зависимости от раздражительности младенцев. В то же время при одном и том же карающем поведении родителей дети, оцененные в три месяца как раздражительные, были более неуступчивы, менее уверены и чаще сердились по сравнению с менее раздражительными младенцами.
Таким образом, при всей сложности отношений в паре родитель - ребенок результаты исследований обнаруживают, что при определенных условиях характеристики темперамента ребенка могут влиять на взаимодействие матери и младенца.
Преждевременно родившиеся младенцы. В первые месяцы жизни эти младенцы часто менее живы, отзывчивы, более раздражительны и сонны, их плач может отличаться от плача вовремя родившихся детей. Двигательная координация бедна, руки и ноги двигаются дезорганизованно, с частыми подергиваниями и вздрагиваниями. Такой младенец может часто открывать рот, выкрикивать, улыбаться или гримасничать, у него наблюдается рефлекторная улыбка. Поведение недоношенных младенцев непоследовательно: они могут быть чрезмерно суетливыми или проводить много времени во сне, не дают ясных сигналов о том, когда хотят есть или спать, а также о чрезмерности или недостаточности стимуляции. Они более беспокойны, отводят взгляд, меньше улыбаются во время взаимодействия лицом к лицу.
В 3 и 5 мес. при взаимодействии с матерью у таких младенцев наблюдается меньшая согласованность аффективной вовлеченности и ритмов социального взаимодействия, чем в диадах с вовремя родившимся ребенком. Было обнаружено, что недоношенные младенцы реже вступают во взаимодействие, чем доношенные. Недоношенные и переношенные младенцы менее внимательны к сигналам матери, проявляют меньше положительных чувств и соответственно получают меньше радости в ранних взаимодействиях с нею по сравнению с вовремя рожденными детьми.
Особенности непоследовательного поведения преждевременно родившегося младенца вводят родителей в замешательство и огорчают, они испытывают тревогу, связанную с проблемами выживания и развития ребенка. Родители могут избегать ребенка или, наоборот, имеют тенденцию компенсировать изменения поведения недоношенных младенцев, вести себя более активно и, несмотря на несоответствие своего поведения сигналам младенца, перестимулировать его, еще более ухудшая поведение ребенка и увеличивая свою собственную фрустрацию. Со временем взаимодействие между
недоношенными младенцами и родителями меняется. Так, было обнаружено, что если в 4 мес. взаимодействие характеризовалось интенсивной вовлеченностью матери и ограниченной отзывчивостью младенца, то в 8 мес. - меньшей внимательностью и вовлеченностью матери и более живым, отзывчивым поведением младенца, к двум годам матери преждевременно родившихся младенцев меньше стимулировали младенца по сравнению с матерями вовремя родившихся детей. Это явление очевидного «перегорания» родителя в течение первого года взаимодействия с ребенком получило подтверждение и в других работах.
Несмотря на изменения раннего взаимодействия матери и младенца, к концу первого года жизни различия аффективных выражений и видов привязанности у доношенных и недоношенных младенцев оказались незначимыми. Получены противоречивые данные, свидетельствующие, с одной стороны, о том, что большее число младенцев с небезопасной привязанностью тревожно-сопротивляющегося типа обнаружено среди детей, тяжело болевших в пренатальный период, а с другой - о том, что недоношенные более, чем доношенные младенцы, относятся к группе с безопасной привязанностью. По сравнению с менее больными в перинатальный период детьми, тяжело больные недоношенные младенцы проявили большую чувствительность к стрессовому возбуждению. Однажды возбужденные, они менее способны понижать уровень состояния стресса.
По свидетельству автора одного из наиболее полных обзоров литературы, к настоящему времени не существует достаточной информации, позволяющей обобщить столь противоречивые данные различных исследований. Однако очевидно, что преждевременно родившиеся младенцы не являются • гомогенной группой, и что существуют более уязвимые с точки зрения нарушения развития подгруппы высокого риска, такие, например, как младенцы с тяжелыми респираторными заболеваниями. Надежность, безопасность привязанности младенца и матери в таких случаях может быть более слабой. В то же время ранние проблемы могут быть преходящими, если мать приспосабливается к характеристикам недоношенного младенца и способна установить сензитивный, взаи-
монаправленный стиль общения. Различия между недоношенными и доношенными младенцами могут быть менее очевидными, если недоношенные дети воспитываются в семьях, имеющих эмоциональные ресурсы для компенсации нарушения взаимодействия у младенцев. Но значимые различия аффективных проявлений и качества привязанности могут сохраняться, если преждевременно родившиеся младенцы, особенно с высоким биологическим риском, воспитываются в семьях социального риска.
Младенцы с особыми потребностями. Сравнение игрового взаимодействия в контрольной группе матерей и здоровых младенцев и в группе матерей и младенцев с особыми потребностями показало, что если в первом случае матери подстраивают свое поведение под способности и поведение ребенка, то во втором наблюдается дефицит поддержки независимой или инициированной младенцем игры, намного более частое инициирование игры самой матерью. Авторы относят такое поведение матерей детей риска к поведению контролирования взаимодействия и связывают его с восприятием матерями особенностей своих младенцев.
Сравнение взаимодействия матерей и детей без отставания в развитии, а также матерей и детей с синдромом Дауна не показало различий в частоте участия во взаимодействии, однако если в первой группе взаимодействие направлялось чаще ребенком, то во второй группе - матерью. Несмотря на то что число вокализаций младенцев с синдромом Дауна оказалось столь же велико, как и в контрольной группе, взаимодействие в этом случае характеризовалось меньшим соблюдением очередности и большим числом одновременных вокализаций.
Анализ взаимодействия матери и младенца в ситуации свободной игры показал, что матери детей с отставанием в умственном развитии воспринимали себя как пытающихся изменить поведение младенцев более часто, чем это делали матери нормально развивающихся детей. Было обнаружено, что младенцы с отставанием в развитии меньше отвечали на инициации матерей и, по сравнению с контрольной группой, вдвое меньше инициировали взаимодействие. Автор подчеркивает, что по сравнению с результатами наблюдений диад
мать - младенец без отставания в развитии матери детей с особыми потребностями были более доминирующими, а сами дети - менее вовлеченными во взаимодействие.
Среди причин меньшей взаимности поведения и большего доминирования матери в парах мать - младенец с отставанием в развитии выделяют особенности характеристик младенцев риска. Получены данные, подтверждающие предположение, что реплики младенцев с задержкой в развитии менее часты и более тонки, что может вести к случайному и менее ориентированному на сигналы младенца поведению со стороны матери. Так, уже в ранних работах было обнаружено, что в группе из десяти пар матерей и слепых младенцев только две матери были способны самостоятельно, без помощи персонала установить хорошую тактильную коммуникацию с детьми. Автор объясняла это тем, что, по сравнению со здоровыми детьми, слепые младенцы были менее отзывчивы, меньше вокализовали и медленнее обучались локализации объекта по звуку. Обзор литературы, в которой сравнивались младенцы без отставания в развитии и младенцы с синдромом Дауна, показал значимые различия в проявлениях темперамента, взгляда глаза в глаза, вокализации, расстоянии между младенцем и матерью. По мнению автора, эти данные подтверждают связь различий социального взаимодействия в диадах мать - младенец без отставания в развитии и мать - младенец с особыми потребностями с различиями характеристик самих младенцев. Исследование игрового поведения шестидесяти младенцев с органическими поражениями головного мозга и отставанием в развитии и их матерей показало, что многие виды материнского поведения, которые были связаны с положительным или отрицательным функционированием ребенка в познавательной области, схожи с поведением матерей и их связью с функционированием детей без отставания в развитии. Так, чувствительность к состоянию ребенка, удовольствие от взаимодействия, отзывчивость и соответствующее обучающее поведение у матерей были положительно связаны с результатами оценки уровня развития детей, тогда как директивность и контролирующее поведение матерей, нечувствительность к интересам ребенка - отрицательно.
Матери младенцев, имеющих наиболее высокие оценки по шкале Бейли, были больше заняты поддержкой инициированных детьми действий, чем руководством ими.
Проблема подстраивания является одной из основных во взаимодействии матери и младенца с особыми потребностями. Имеются данные, что в нормальных диадах с развитием младенца очередность взаимодействия увеличивается, тогда как относительная частота одновременной вокализации уменьшается. При анализе вокального взаимодействия матерей и младенцев с синдромом Дауна была обнаружена тенденция одновременных вокализаций по сравнению с соблюдением очередности взаимодействия в диадах мать - младенец нормального развития. С увеличением возраста диады, которые включали младенцев с особыми потребностями, становились менее успешными во взаимной адаптации и регуляции вокального поведения. Эти факты свидетельствуют об искажении процесса взаимодействия в парах мать - младенец с особыми потребностями уже в течение первых шести месяцев и дополняют данные об асинхронности вокального взаимодействия в парах, включавших детей с синдромом Дауна второго года жизни.
Было обнаружено также, что вокальное взаимодействие матерей и годовалых младенцев с отставанием и без отставания в развитии одинаково успешно. Однако когда младенцы с задержкой в развитии были разделены на две подгруппы с высокими и низкими оценками развития по шкале Бейли, то оказалось, что нарушение различения наличия или отсутствия вокализации матери у детей второй подгруппы влияло на стиль взаимодействия матерей, могло вести к случайным и менее соответствующим сигналам ребенка ответам.
Серии исследований показали нарушения, которые случаются в процессе раннего взаимодействия, когда мать неспособна прочесть сигналы своего ребенка и обеспечить оптимальную стимуляцию. Такие нарушения раннего взаимодействия связаны с последующими поведенческими и эмоциональными проблемами в школьном возрасте, включая гиперактивность, ограниченность внимания, нарушение взаимодействия со сверстниками, эмоциональные нарушения, диагностируемые как депрессия. Обнаружено, что младенцы вы-
сокого риска меньше глядят на матерей, улыбки и вокализации случаются реже, они беспокоятся и плачут чаще, чем нормальные младенцы. Большие проявления негативных аффектов у младенцев высокого риска вместе с повышенной частотой сердечных сокращений приводят к выводу о переживании ими стресса в процессе взаимодействия с матерью. Автор считает, что выделенные поведенческие и физиологические изменения у младенцев риска могут отражать повышение возбуждения вследствие информационной перегрузки, чрезмерной стимуляции. По мере того как родители становятся более чувствительными к сигналам младенцев и лучше предсказывают результаты их поведения, они становятся и более уверенными в себе как в родителях.
Стимулирующее поведение матери может быть определено как перестимулирующее, переконтролирующее и передоминирующее, если оно ведет к неуловимым или сильным сигналам отрицания взаимодействия у младенца. В естественных попытках вызвать у младенца положительный аффект матери часто проводят слишком большую стимуляцию и подвергают младенца стрессу. Одно из объяснений такого поведения состоит в том, что усиление фрустрации в случае минимального ответа младенца ведет к раздражительности матери Другое объяснение связано с тем, что матери становятся более активными, возможно, для того, чтобы компенсировать относительную неактивность младенцев, сохранить некоторое подобие протекания взаимодействия. Третье связано с желанием матери, чтобы ребенок вел себя как сверстники, и с попытками поощрить это более частым моделированием поведения. Еще одна интерпретация поведения матери состоит в том, что представление матери о своем младенце как о слабом и с задержкой в развитии ведет к чрезмерной протекции, а в крайнем варианте - к чрезмерно контролирующему родительскому поведению.
МАТЕРИ ИЗ ГРУППЫ РИСКА
Депрессия. В целом эмоциональное развитие детей, воспитанных депрессивными матерями, менее благоприятно, чем развитие детей нормальных матерей или матерей с другими диагнозами. Нарушения раннего взаимодействия младенцев
и депрессивных матерей ведут впоследствии к проблемам развития у ребенка.
Исследование женщин с симптомами послеродовой депрессии показало, что в процессе спонтанных взаимодействий лицом к лицу их младенцы ведут себя менее позитивно по сравнению с младенцами недепрессивных матерей, и показывают небольшое изменение поведения при взаимодействии с матерью в ситуации симуляции депрессии. Наоборот, в ситуации взаимодействия с симулирующей депрессию матерью младенцы недепрессивных матерей либо пытались восстановить более позитивное взаимодействие, либо переживали стресс, отворачивались в сторону, протестовали.
В общем, поведение и эмоциональное состояние младенцев отражают поведение и состояние их депрессивных матерей. В спонтанных взаимодействиях депрессивные матери показывают вялые аффекты, меньший уровень активности и меньшее число ответов, соответствующих поведению младенцев. У депрессивных матерей наблюдаются больше отрицательных выражений лица и совсем немного положительных. Они меньше вокализуют, смотрят и прикасаются к своим младенцам , меньше имитируют и играют, выражения лица более нейтральны, однако они смотрят и говорят со своими младенцами так же много, как и в контрольной группе.
В процессе спонтанных взаимодействий младенцы депрессивных матерей были менее активны, обнаруживали меньше выражений удовлетворения, больше суеты. При взаимодействии лицом к лицу с депрессивными матерями младенцы показывали больше отрицательных выражений лица и мало положительных, часто отводили взгляд, проявляли протест и меньший уровень активности по сравнению с поведением детей в нормальной группе матерей и младенцев. Результаты исследований приводят к заключению, что младенцы депрессивных матерей также развивают депрессивный стиль реагирования. Однако не известно, являются ли депрессивные аффективные проявления у младенцев результатом отражения поведения матерей или результатом минимальной стимуляции со стороны матерей.
Оценка поведения детей неонатального возраста показала, что новорожденные депрессивных матерей имеют мень-
ший уровень активности и менее отзывчивы на социальную стимуляцию. Такие изменения в поведении новорожденных могут быть результатом как генетически опосредованной передачи депрессивного статуса от матери к ребенку, так и испытания повышенного стресса в течение беременности. Было выдвинуто предположение, что проблемы раннего взаимодействия матери и младенца усиливаются при предыдущем неблагоприятном влиянии на плод эмоционального состояния матери.
Младенцы депрессивных во время беременности матерей, проявлявших в новорожденный период уменьшение активности и ограничение ответов на социальную стимуляцию, в возрасте 3-х мес. сохраняют это поведение, показывают меньше выражений удовольствия и более беспокойны в процессе взаимодействия. Поскольку пренатальная депрессия матери продолжается и после рождения ребенка, то в поведении матери наблюдается меньше положительных выражений лица, она менее активна со своим младенцем, меньше имитирует и играет в игры. Однако по-прежнему не ясно, является ли проявление депрессии у младенца результатом длительной экспозиции депрессии матери или присуще ему от рождения.
Младенцы депрессивных матерей подавлены даже в том случае, если их матери не ведут себя в депрессивном стиле. Несмотря на то что многие исследователи выделяют в депрессивном поведении родителя неактивность и отдаленность, некоторые матери в большей степени проявляют навязывающий стиль взаимодействия. Вне зависимости от того, являются ли депрессивные матери отдаленными или навязывающими, их младенцы, по-видимому, более отвечают на негативное поведение матерей, в то время как младенцы недепрессивных матерей более отзывчивы на положительное родительское поведение, таким образом в обоих случаях отражая или подражая доминантному настроению своих матерей. В одном из исследований показано, что у депрессивных матерей процент времени раздражительности или невовлеченности во взаимодействие с младенцем был намного больше, а игры - намного меньше, чем у здоровых матерей. В свою очередь, младенцы депрессивных матерей больше проявляли протест или смотрели в сторону и меньше - вниматель-
ность, мало играли по сравнению с младенцами не депрессивных матерей. Столь подавленное поведение младенцев не ограничивается лишь взаимодействием с депрессивными матерями. Так, оценка взаимодействия трехмесячных младенцев с недепрессивными женщинами была низкая и похожая на оценку их взаимодействия с депрессивными матерями. Результаты показывают, что депрессивный стиль взаимодействия младенцев распространяется на их взаимодействие с недепрессивными взрослыми. Вне зависимости от причин постоянство проявления такого взаимодействия с разными партнерами является очень тревожным моментом.
Исследование женщин - представительниц низких социальных слоев, имевших множество проблем, включая высокий уровень хронической депрессии, показало, что в течение взаимодействия лицом к лицу они проявляли больше способностей к изменению, чем ожидалось. Не все были одинаково угнетены и молчаливы, однако проявления положительных аффектов и отзывчивость в целом были ниже, чем у нормальных матерей. Некоторые из матерей данной группы показали высокий уровень вовлеченности во взаимодействие, но проявляющуюся в первую очередь в форме навязывания поведения или раздражения, чего не наблюдалось у нормальных матерей. При наблюдении в естественной ситуации и спонтанном взаимодействии с детьми раздраженные и депрессивные матери проявляли тенденцию избегать своих младенцев, мало инициировали взаимодействие. В свою очередь, младенцы также были угнетены и редко проявляли положительные эмоции. При наблюдении в домашних условиях, когда младенцам было уже 12 ме$., та же группа женщин показала значительно больше скрытой враждебности и препятствий целенаправленному поведению младенцев по сравнению с контрольной группой нормальных матерей.
Обобщение результатов этих исследований обнаруживает, что существуют несколько паттернов взаимодействия депрессивных матерей и их младенцев, отличающихся, возможно, в зависимости от различий тяжести депрессивного состояния, хроничности и других факторов риска. Один характеризуется выравниванием аффекта, социальным отдалением и
понижением уровня энергии. Другой - более явным отрицательным аффектом и сопровождается враждебностью и помехами в процессе взаимодействия. Возможна еще одна подгруппа матерей, в которой поведение их чередуется от невовлечения во взаимодействие к навязыванию и перестимуляции.
Таким образом, депрессивный родитель характеризуется недостаточно соответствующим сигналам ребенка взаимодействием, может быть эмоционально отдален, враждебен, не всегда доступен. Все эти изменения поведения родителя могут задерживать развитие у младенца ощущения контроля, удовольствия, чувства безопасности в отношениях. Дополнительно ребенок может находиться под влиянием депрессивных чувств и. раздражительности через распространение негативных аффектов родителя.
Исследование развития детей первого года жизни у матерей, больных шизофренией, показало, что нарушение социального развития младенцев начинает проявляться с пятого месяца и характеризуется снижением эмоциональной выразительности при взаимодействии с матерью и другими взрослыми людьми. Отмечается, что у младенцев, матери которых больны шизофренией, сопровождающейся длительными депрессивными состояниями, улыбка не становится средством инициации общения. Клинические исследования детей родителей больных шизофренией показали, что патологические реакции на стрессовые ситуации, обусловленные ■биологическими и социальными факторами, наблюдаются на всех этапах раннего онтогенеза. Наиболее общими и характерными особенностями младенцев этой группы риска являются дефициты развития в эмоциональной сфере, в общении и двигательной области.
В сравнительном исследовании родительского поведения больных женщин различных групп было показано, что матери с невротическими депрессивными расстройствами развивают своих детей хуже, чем матери с шизофренией или личностными расстройствами. Если у первой группы матерей были обнаружены значительные различия по сравнению с контрольной группой здоровых матерей, то у группы матерей, больных шизофренией, различий оказалось немного. Истории ро-
дов и функционирование новорожденных младенцев матерей с невротическими депрессивными расстройствами были хуже. Эта группа матерей показала наименьшую вовлеченность во взаимодействие с детьми в возрасте 4-х мес, их младенцы были наименее общительны. В 12 мес. различий между группами обнаружено не было, однако в 30 мес. невротически депрессивные матери сообщали о своих детях как о менее сотрудничающих, более депрессивных и эмоционально более эксцентричных. Авторы предполагают, что аффективные качества отношения родителя и ребенка, особенно депрессия и отчужденность, могут оказывать наиболее заметное влияние на взаимодействие матерей с их младенцами. Однако в целом на развитие ребенка большее влияние оказывает тяжесть и длительность материнской психопатологии, чем специфический диагноз.
Исследования показывают, что дети первого года жизни подвергаются риску развития и возникновению проблем, связанных с нарушениями в эмоциональной сфере, формированием небезопасной привязанности и сниженным уровнем функционирования в познавательной области в случае, если по крайней мере один из родителей имеет психиатрическую историю депрессии. Младенцы из семьи с родителем с биполярными аффективными нарушениями имеют еще больше проблем. Несмотря на меньшую вовлеченность во взаимодействие со сверстниками, они проявляют по отношению к ним более частую и интенсивную агрессию, по сравнению с контрольной группой детей. Дети из таких семей сильнее расстраиваются во время конфликтов, вовлекая в него других, и проявляют мало удовольствия после разрешения конфликта. Те же дети проявляют больше страха в ситуациях свободной игры, больше гнева в ситуациях свободной игры, при тестировании, в ответ на подход незнакомца.
Проявления небезопасной привязанности чаще наблюдаются среди детей матерей с большей депрессией, чем детей матерей с небольшой депрессией или без нее. Более того, атипичная небезопасная привязанность, в которую младенец смещается от тревожно-избегающего или тревожно-сопротивляющегося поведения, была обнаружена у матерей с тяжелой депрессией. В то же время есть дети депрессивных ма-
терей, у которых небезопасная привязанность не обнаружена, и дети нормальных матерей, которые характеризуются как небезопасно привязанные.
Несмотря на то что существуют значительные основания говорить о генетическом компоненте депрессивных расстройств, особенно в случае биполярного маниакально-депрессивного заболевания у родителя, большая часть исследователей описывают множество причин аффективных нарушений у младенцев. Среди них выделяют уязвимость младенца, возникающую вследствие изменения поведения и нарушения отношения родителя и ребенка. Предварительные данные показывают, что развитие младенца может пойти по нормальному пути в случае, если мать выздоравливает от постродовой депрессии. Так, показано, что матери, находящиеся в состоянии депрессии в течение первых шести месяцев после родов, имеют младенцев, которые развивают депрессивный стиль взаимодействия. Однако если к 6-ти мес. мать выходит из состояния депрессии, то и младенцы не депрессивны. Эти данные свидетельствуют как о глубоком влиянии депрессии матери на поведение младенцев, так и о гибкости и способности младенцев к адаптации. Не удивительно, что настроение младенца может измениться в соответствии с изменением настроения матери. В других случаях вмешательство, осуществляемое матерью с психическим заболеванием, способствует развитию младенцев. В целом матери детей с наибольшими достижениями в развитии проявляют больше положительных аффектов, эмоционально доступны, меньше уходят в себя, имеют друзей, более способны любить и проявляют активное желание поделить заботу о своих детях с другими воспитывающими ребенка взрослыми.
Плохое родительское обращение. Плохое обращение представляет собой нарушение основной родительской функции - защиты ребенка. Оно выделяется в каждой культуре и может включать в себя множество различных форм поведения, включая физическое насилие (избиение), пренебрежение (не обеспечение адекватной пищей, медицинским уходом, присмотром со стороны взрослого). В некоторых случаях сюда включают использование матерью незаконных лекарств, наркотиков в течение беременности. Несмотря на то что различ-
ные виды плохого обращения по-разному могут повлиять на развитие ребенка, трудно очерчивать виды плохого обращения, поскольку часто физическое насилие, пренебрежение и дурное эмоциональное обращение происходят одновременно. У подвергавшихся плохому обращению детей наблюдаются недостаток иммунизации, беспорядочное лечение болезней, из-за неадекватного питания и пренебрежения родителями физическим уходом у них может быть слабое здоровье, анемия. Хотя реальное плохо обращающееся лицо является, вероятно, значимым для ребенка с точки зрения отношений привязанности, большинство исследований не обращают на него внимание и фокусируется на отношении матери и ребенка. Очевидно, что такие жизненные ситуации, как бедность, недостаток социальной поддержки, другие источники хронического стресса, могут настолько истощить психологические ресурсы родителя, что в этом случае возможны пренебрежение заботой о детях, насилие. Однако большинство родителей, испытывающих высокий уровень стресса, не обращаются плохо со своими детьми. Сравнение переживающих сильный стресс родителей, которые проявляли или не проявляли плохое обращение по отношению к своим детям, показало, что такое нарушение родительского поведения более вероятно, если родители переживали насилие в своем собственном детстве или со стороны супруга и если социальная поддержка была неудовлетворительная.
Исследование социальных связей матерей, сообщивших о плохом обращении с детьми и плохой заботе, показало, что адекватно ведущие себя матери имели намного больше поддержки и долгие, более удовлетворяющие социальные отношения, чем матери с плохим обращением к детям. Однако не все семьи плохого обращения были изолированы, некоторые из них имели широкие социальные контакты, но не формировали взаимных, долговременных отношений. Пренебрегавшие детьми матери имели главным образом кратковременные дружеские отношения, нечастые контакты с друзьями, очень частые контакты с родственниками и были неудовлетворены зависимостью от их поддержки. Многие плохо обращающиеся с детьми родители сообщали об опыте подобного обраще-
ния в детстве. Исследователи данного вопроса приходят к заключению, что серьезные изменения родительского поведения редко возникают без неблагоприятного детства. Вопрос о том, почему в одних семьях из поколения в поколение наблюдается плохое обращение с детьми, а в других нет, почему некоторые дети, выросшие в условиях плохого обращения со стороны родителей, ведут себя таким же образом, тогда как их братья и сестры не ведут, требует дополнительного объяснения.
Анализ исследований личности плохо обращающихся с детьми родителей показал сложность выделения стойкого набора черт. Более того, обнаружено, что существует лишь ограниченная связь между чертами личности и актуальным поведением родителя. В одной из работ рассматривались характеристики родителей до рождения детей, испытавших впоследствии плохое обращение. Оценка матерей этой группы, плохо обращавшихся с детьми в пренатальный период развития и в 3 мес. показала более высокую агрессию, оборони-тельность, тревожность, меньшую социальную желательность, меньшее поощрение взаимности и меньший уровень интеллекта по сравнению с матерями, которые обеспечивали заботу и уход за детьми, несмотря на бедность и стресс. Матери с дурным поведением отрицательно реагировали на опыт беременности и при описании себя с большей вероятностью пользовались выражениями пренебрежения. Обзор исследований плохо обращавшихся с детьми отцов показывает схожесть их профилей личности с профилями проявлявших такое же поведение матерей. Важными детерминантами нарушения родительского поведения были социальная изоляция, бедное взаимное приспособление супругов, неуправляемый стресс, низкая самооценка, история плохого обращения в собственном детстве.
Попытки ранней идентификации родителей, у которых потенциально возможно плохое обращение с детьми, были построены на результатах обсуждавшихся выше исследований и с точки зрения статистики были успешны. Однако необходимо отметить высокую вероятность обманчивости полученных данных. Как указывают авторы, фактически плохое обращение с ребенком является относительно редким, детермини-
рованным множеством факторов случаем, а по характеристикам личности и опыту детства плохо обращающиеся с детьми родители частично совпадают с непроявляющими такого поведения родителями.
Существуют данные о том, что плохо обращающиеся с детьми родители проявляют отклоняющееся родительское поведение и аффект во многих других обстоятельствах. По сравнению с воздерживающимися от такого поведения родителями эти матери проявляют больше гнева и раздражения, меньшую симпатию в ответ на показ видеофильмов с плачущими младенцами. Более вероятно, что они неправильно идентифицируют показанные на слайдах различные эмоциональные выражения лиц младенцев.
Показано, что такие матери проявляют тенденцию крайней нечувствительности к ним в раннем возрасте, чаще препятствуют целенаправленному поведению младенцев и проявляют больше скрытой враждебности. У них наблюдается уменьшение взаимодействия, включая большее физическое расстояние от ребенка, отсутствие аффективного выражения, долгие паузы между инициациями разговора и уменьшение контакта глаз. По сравнению с ними матери с нормальным родительским поведением более отзывчивы, показывают более любящее поведение, проявляют удовольствие и чуткость к целям младенцев. Плохо обращающиеся со своими детьми матери отличаются от родителей с нормальным поведением методами контроля над детьми в дошкольном возрасте, используя больше команд, утверждая власть и меньше проявляя позитивно ориентированные стратегии контроля. Было показано, что при использовании различных способов взаимодействия их поведение более навязчиво и непостоянно, аффективные проявления уплощены, попытки получить согласие ребенка менее гибки.
Некоторые исследователи предполагают, что особенности младенца, такие, как недоношенность и трудный темперамент (и наблюдаемые в этом случае раздражительность, неясность сигналов), могут способствовать проявлению у родителя плохого обращения. Было выдвинуто предположение, что недоношенный ребенок и связанные с ним проблемы ухода могут сильно истощать ограниченные ресурсы некоторых
матерей, что причины нарушения отношения находящихся в стрессовом состоянии родителей к детям могут быть связаны с ранним, длительным отделением недоношенных детей от матерей. Несмотря на то, что данные о влиянии отделения на последующее родительское поведение по отношению к недоношенным детям недостаточно убедительны, существуют факты о том, что короткий интервал между рождением и первоначальным контактом вовремя родившегося ребенка и матери уменьшает последующие родительские стрессы.
В одном из исследований новорожденные родителей риска плохого обращения с детьми в случайном порядке были определены либо в группу младенцев, остающихся с матерями, либо в контрольную группу детей, которых сразу после рождения отделяли от матерей на период времени до 12 ч. Впоследствии было обнаружено, что если в первой группе матерей плохое обращение наблюдалось только в одном случае из 143, то во второй группе - в 9 случаях из 158. Авторы пришли к заключению, что ранний контакт с новорожденным ребенком положительно влияет на предрасположенных к плохому обращению родителей. Вероятно, для матерей с более значительными ресурсами родительского поведения не составляет больших трудностей адаптироваться к раннему отделению младенцев.
Обнаружено, что плохо обращающиеся с детьми родители описывают их как более раздражительных и трудноуправляемых. Возможно, что дети, с которыми плохо обращались, посылают неясные социальные сигналы и имеют низкую отзывчивость. По сравнению с детьми контрольной группы детей их описывают как значительно более агрессивных, фрус-трированных, неуступчивых, с меньшим проявлением положительных аффектов.
В последнее время число систематических наблюдений за испытавшими плохое обращение с младенцами растет и включает исследования качества привязанности, взаимодействия родителя и ребенка в лабораторных условиях или дома, исследования его поведения в дошкольных учреждениях. Преобладающее число исследований показывает, что плохое обращение не связано с небезопасной привязанностью к мате-
ри, если источником плохого обращения была не биологическая мать, а другое лицо. Большинство исследователей обнаружили увеличение числа небезопасной привязанности избегающего типа, тогда как другие - больше случаев небезопасной привязанности тревожно-сопротивляющегося типа или определили для описания младенцев, испытавших плохое обращение, необходимость новой, атипичной классификации как избегания, так и сопротивления.
Таким образом, поведение привязанности у младенцев этой группы по сравнению с поведением привязанности у детей в условиях менее нарушенных отношений может быть организовано настолько по-другому, что обычная классификация не подходит. Некоторые испытавшие плохое обращение младенцы способны формировать с родителями отношения безопасной привязанности, хотя со временем эти отношения могут быть нестабильными. Не ясно, что значит иметь безопасную привязанность при таких условиях, насколько условия плохого обращения изменяют чувство безопасности.
Обнаружено, что маленькие дети, испытавшие плохое обращение со стороны родителей, с большей вероятностью отвечают на фрустрацию агрессией, более агрессивны со сверстниками. Они набрасываются или угрожают напасть на близких и ухаживающих за ними людей, что не наблюдалось ни у одного из детей контрольной группы. Дети, с которыми плохо обращались, избегают других детей и близких, ухаживающих за ними взрослых намного чаще детей контрольной группы. В одном из исследований взаимодействия детей в дошкольном учреждении было выделено пять пар, в которых один из детей эксплуатировал другого или делал его жертвой (например, наносил удар, когда партнер показывал болезненную зону; демонстрировал сарказм, унижение и враждебность к другому; ложился поверх партнера и не позволял ему встать). Было определено, что в каждом из случаев насилующий другого ребенок имел опыт плохого обращения со стороны своего родителя.
Наблюдение в детских садах показало, что не испытавшие плохого обращения дети второго года жизни из неблагоприятных, находящихся в условиях стресса семей, отвечали на страдание ровесников с интересом и беспокойством, эмпатией или
печалью, что соответствует данным исследований непере-живших плохого обращения детей среднего класса. Однако ни один из детей того же возраста, имевших опыт отрицательного родительского поведения, не проявлял беспокойства на страдание другого ребенка. В таких случаях более вероятным поведением для них было физическое нападение, страх или гнев, чего не наблюдалось в первой группе. Значительно меньшее число испытавших плохое обращение детей проявляли к переживающим горе сверстникам попеременно то нападение, то попытки утешения. Существуют данные, что у детей второго года жизни, которые имели опыт плохого родительского обращения, развивается измененная система понимания самих себя (self system) увидев себя в зеркале с румянамиона носу, они проявляли нейтральный или отрицательный аффект, тогда как большинство детей реагировало положительно. Дальнейшие исследования показали, что эта группа детей меньше говорила о своих чувствах или о чувствах других.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В течение последних лет проведено значительное число экспериментальных исследований социально-эмоционального развития младенца в процессе раннего взаимодействия с наиболее близким человеком. Считается, что вследствие индивидуальных генетических особенностей, различий прена-тального и перинатального опыта младенцы от рождения отличаются друг от друга по чувствительности и отзывчивости на стимуляцию. Матери научаются читать социально-эмоциональные проявления младенцев (выражения лица, жесты, вокализации, изменения взгляда и т.д.), изменять поведение и в процессе взаимодействия поддерживать интерес ребенка, модулировать стимуляцию, подстраиваясь под индивидуальный уровень возбуждения и стимуляции младенцев, В случае, если такое происходит, младенец более отзывчив, налаживается оптимальное гармоничное взаимодействие, аффективное поведение и физиологический ритм матери и младенца синхронизируются.
Данные экспериментальной психологии развития младенцев показывают, что от рождения ребенок настроен на вое-
приятие социальных сигналов, среди множественных стимулов окружающей среды предпочитая сигналы, идущие от человека, от наиболее близкого - матери, от рождения чувствительная мать изменением поведения организует сенсорный мир ребенка, сама (ее запах, прикосновения, голос, лицо и т.д.) является его сенсорным окружением, «первичным объектом. Используя представления Б. Г. Ананьева о сенсорно-перцептивных характеристиках индивидуального развития человека, можно сказать, что мать создает условия для развития «сенсорной организации» младенца, «оптимальные условия нервно-психического здоровья» человека в этом возрасте. Мать или другой наиболее близкий человек предоставляет младенцу сенсорно-перцептивный опыт, который относится «к коренным феноменам жизнедеятельности, связанным с глубокими слоями целостной структуры человеческого развития и личности», является основой индивидуального развития ребенка, этапом развития Я в первые месяцы жизни («the sense of an emergent self»). С этих позиций нарушение взаимодействия с наиболее близким человеком является для младенца не только социальной депривацией, но и сенсорным дефицитом, не только риском отставания в социально-эмоциональном развитии,, но и риском нарушения психического здоровья.
Нарушение взаимодействия у матерей и младенцев высокого риска может быть связано с особенностями предъявления социальной стимуляции, изменением чувствительности, нарушением приема и обработки социальной информации, взаимного поддержания оптимального для каждого партнера уровня возбуждения. Матери испытывают затруднения в выявлении и определении значения поступающих от младенцев с особыми потребностями сигналов, в определении актуального уровня возбуждения и предъявлении индивидуального для каждого ребенка оптимального уровня стимуляции. Низкие уровни стимуляции не вызывают ответов, а высокие могут вести к отводу взгляда и беспокойству младенцев. При нарушении взаимодействия с неотзывчивым или избегающим ребенком с особыми потребностями мать отстраняется, либо чрезмерно активна. В последнем случае поведение родителя и ребенка проходит по замкнутому циклу, матери становят-
ся более активными по мере того, как младенец остается неактивным и неотзывчивым. Активность родителя контрпродуктивна, так как ведет к меньшему, а не большему ответу со стороны младенца. Схожие модели поведения наблюдаются во взаимодействии матерей и младенцев с синдромом Дауна, церебральным параличом, преждевременно родившихся младенцев, слепыми, глухими, аутичными.
В соответствии с предлагаемой моделью.организации взаимодействия в системе мать - младенец дезорганизация, асинхронность взаимного поведения и ритма матери и младенца, нарушение модулирования стимуляции и подстраи-вания под уровень возбуждения наблюдаются и в тех случаях, когда мать эмоционально недоступна и неотзывчива, например при депрессии, шизофрении или других ведущих к отдаленности от ребенка расстройствах и заболеваниях. Предпочитаемый матерью или другим близким и ухаживающим за младенцем человеком уровень возбуждения и стимуляции может значительно отличаться от необходимого для ребенка. В случае взаимодействия с младенцем взрослого из группы риска резервы для изменения предпочитаемого уровня стимуляции могут быть весьма ограничены , что ведет к трудностям подстраивания под потребности ребенка. Лишаясь в лице неотзывчивой матери важного внешнего источника регуляции стимуляции, депривированный младенец оказывается не в состоянии изменением своего поведения влиять на поведение матери, развивать или поддерживать необходимые для него стимуляцию, уровень и ритм возбуждения. В этом случае может наблюдаться подстраи-вание ребенка под стимуляцию, предпочитаемую матерью. Обнаружено рассогласование между потребностями самого ребенка и удовлетворением этой потребности со стороны первичного окружения - матери. Система мать - младенец функционирует не на основании партнерства и приоритетов ребенка, а исходя из приоритетов матери.
Опыт междисциплинарного, центрированного на семье обслуживания матерей и младенцев групп риска показывает, что достижение значительных положительных изменений поведения матерей и младенцев возможна при организации программы раннего вмешательства и создании условий для оптимального функционирования системы мать - младенец.
В.И. Брутман, М.Г. Панкратова, СИ. Ениколопов
ЖЕНЩИНЫ, ОТКАЗЫВАЮЩИЕСЯ ОТ СВОИХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ*
Проблема социального сиротства -дна из острейших для России. С каждым годом все увеличивается число детей, оставшихся без попечения родителей. Ухудшается их здоровье, и что самое печальное - постоянно растет число брошенных новорожденных младенцев - наиболее чувствительных к отрыву от биологической матери. По нашим данным, только в Москве за последние 6 лет число детей, оставшихся без попечения родителей и поступивших в городские дома ребенка, увеличилось с 23 до 48%, т. е. в 2,1 раза (при одновременном уменьшении рождаемости в 1,5 раза). Около половины (от 35 до 50%) таких детей - это «отказные» и «подкидыши». Ежедневно в московских родильных домах в 1991 г. возникало 1-3 ситуации, связанные с отказом от новорожденного. В 1992 г. из одного родильного дома, наименее благополучного по социальному составу контингента, было переведено в больницы на второй этап реабилитации 113 новорожденных, от которых отказались их матери сразу после родов. В 1993 г. число «отказных» младенцев в этом родильном доме возросло уже до 156.
. Одним из главных драматических результатов социального сиротства является физическое и психическое неблагополучие детей, рано оставшихся без родителей и содержащихся в домах ребенка.
Наши исследования (архивные материалы родильных домов, полученные методом случайной выборки) показывают, что более 35% (!) нежеланных беременностей недонашивается (4,0% в популяции), отмечаются высокая частота патологии беременности и родов. Так, одно только прежде-
* Вопросы психологии. 1994. № 5.
временное излитие околоплодных вод наблюдается более чем в 60% случаев. Более 50% новорожденных рождается с признаками внутриутробной гипоксии. Почти 45% даже доношенных «отказных детей» появляются на свет с явлениями функциональной и морфологической незрелости. Этот показатель в популяции - не более 10%. Более1 чем у половины таких «отказных» новорожденных обнаруживаются симптомы нарушения мозгового кровообращения, и они нуждаются в интенсивном лечении сразу после рождения (для сравнения: в популяции число таких младенцев составляет
14,8%).
К сожалению, проблема отказов от материнства остается по-прежнему малоизученной. На сегодняшний день мы очень мало знаем о механизмах формирования этого процесса, о комплексе социальных, психологических и патологических факторов, подталкивающих женщин к отказу от новорожденных детей. Многие годы наше государство, вкладывая огромные средства в содержание, лечение, обучение детей-сирот, до конца не осознавало острой необходимости практических шагов но предупреждению социального сиротства.
Наше комплексное исследование посвящено изучению причин отказов от материнства. Его главной задачей является разработка адекватных превентивных и реабилитационных программ для групп риска с угрозой отказа от ребенка. С этой целью в родильных домах Москвы проводится обследование «отказниц» с изучением социальной ситуации, в которой они находятся, их психологического и психиатрического портретов.
Настоящая публикация основана на результатах изучения некоторых социально-психологических параметров 42 женщин разного возраста. Большую часть составляют молодые девушки - от 15 до 19 лет (60%). Как правило, они не замужем, многие живут с родителями, а некоторые, кроме того, с братьями или сестрами. Понятно, что при таких условиях мнение родителей о судьбе только что родившегося ребенка имеет важнейшее, а часто и решающее значение, которое может проявляться как в тех случаях, когда отношения с родителями «хорошие» (35%), так и тогда, когда - «плохие» (15%). Меньшую часть составляют женщины зрелого
возраста, в том числе старшей возрастной группы - свыше 30 лет (15%).
Из данных литературы известно, что большинство матерей, отказывающихся от своих детей, воспитывались в нестабильных семьях и с раннего детства имели негативный опыт межличностных взаимоотношений. Личность многих «женщин, не готовых к эффективному материнству», формировалась в своеобразной субкультуре агрессии, часть из них в детстве страдали от унижающего достоинство угнетения, холодного отношения со стороны свои родителей. Был обнаружен статистически достоверный рост серьезных психиатрических и интеллектуальных расстройств у молодых женщин, выросших «в злобной, обижающей, жестокой семье». С этим связывают также возрастание преступности и агрессивности этих женщин по отношению к своим детям. Такие матери должны рассматриваться как жертвы недостаточной социализации в раннем возрасте, «недостаточной затрону-тости процессом гуманизации». Насилие, издевательства над девочкой со стороны матери закладывают у нее искаженный образ материнского поведения и тем самым нарушают готовность женщины к эффективному материнству. Многие из женщин, бросающие своих детей, как бы повторяют приобретенный в детстве дефектный стереотип поведения матери.
Наши наблюдения в целом подтверждают эти выводы. Так, будущие «отказницы» чаще всего воспитывались в неполной семье, однако и они часто находились в неблагополучной, психотравмирующей среде. Очень редко женщины характеризовали отношения в родительской семье как хорошие. В большинстве семей дочерей «воспитывали» грубостью, криком, а часто и побоями. Таких семей, по нашим данным, не менее 58%. При этом били детей 1% отцов и, что особенно показательно, 13% матерей. Хорошо известно, какое важное значение имеет образ собственной матери для формирования психологических установок на материнство у молодых женщин. В этом отношении «отказницы» с детства приобретали негативный опыт. Около трети из тех, кто жил с матерью, отмечали плохие с ней отношения. В 60% случаев матери женщин-«отказниц» категори-
чески отказываются помочь своей дочери в воспитании новорожденного.
Ситуации с отцами еще хуже. Прежде всего, как уже отмечалось, многие росли вообще без отца. Развод родителей пришлось пережить в детстве (до 12 лет) 18% женщин. В сохранившихся семьях обстановка была далеко не всегда благополучной, и 23% оценивают свои отношения с отцами как плохие, а иногда очень плохие. Злоупотребляли алкоголем 38% отцов (в популяции около 5%), а «случалось выпить лишнего» - 63%.
В целом ряде работ отчетливо продемонстрировано крайне отрицательное влияние низкого материального достатка, культурного уровня воспитывающей семьи на формирование ролевых основ личности девочки, что в итоге негативно сказывается на качестве ее будущего материнства.
Результаты наших исследований указывают на то, что большинство будущих «отказниц» (75%) в детстве были, по их словам, «сыты и одеты, хотя не имели ничего сверх этого», но у 6% таких семей едва хватало на еду. Более трети семей были обеспечены ниже среднего уровня. Свои жилищные условия большинство респонденток считали средними. Плохими их назвали 6% опрошенных, хорошими-11%. При этом 11%кженщин жили в коммунальной квартире, 30% не имели своего места (угла, комнаты) для учебы и игры. В половине семей случались драки, скандалы.
Ранее проведенные исследования показали, что помимо экономического положения на качество материнства влияет образованность женщины. Было установлено, что большинство «отказниц» имели низкое общее и профессиональное образование, редко получали престижные должности и соответственно имели низкий социальный статус.
К аналогичным выводам подводит и наше исследование. В силу молодости, но еще более в силу личностных особенностей образование наших респонденток оказалось довольно низким. Около половины их окончили ПТУ, немногим более трети удалось окончить техникум или получить среднее образование. Более того, 11% женщин не смогли «вытянуть» больше 4 классов. Продолжали же учебу только 6% обследованных.
Обращает на себя внимание также крайне неблагополучная ситуация с источниками доходов и соответственно с материальным достатком «отказниц». Только 18% из них до настоящей беременности постоянно работали, остальные не работали по разным причинам (искали работу, ссылались на плохое здоровье и т. д.), а 12% откровенно заявили, что и не собираются работать. Большинство «отказниц» не имели никакой определенной профессии или специальности. Около половины их находились на иждивении родителей, родственников и друзей. Подрабатывали, когда была возможность, и перепродавали вещи и продукты 5%. При этом 45% считали, что хотя они не голодают, но совершенно не имеют денег на одежду; 15% сообщили, что им не хватает денег вообще, и 25% хотели бы иметь дополнительные доходы на развлечения и дорогие вещи; 55% «отказниц» считали свое материальное положение ниже среднего в стране, и никто не оценивал его выше среднего, а средний уровень, как известно, таков, что позволяет не голодать, но ничего сверх этого. В такой ситуации появление ребенка неизбежно приведет к еще большему снижению уровня жизни. Отсюда, естественно, что мотив материальной необеспеченности занимает важное место в ряду других мотивов. На него ссылается 50% опрошенных.
Анализируя актуальную семейную ситуацию женщин, отказывающихся от своих детей, зарубежные исследования обнаружили, что главным фактором, предшествующим отказу от ребенка, являются нестабильность и угрожающий распад собственной семьи «отказницы» и неполная семья. В 1972 г. Бельгийский комитет по социальным проблемам женщин описал три основные категории бросающих матерей: I категория, наиболее классическая, - отец ребенка бросил беременную будущую мать; II - замужняя женщина рожает ребенка от внебрачной связи; III - беременная женщина с низкой социальной и моральной приспосабливаемостью и с низкой социальной ответственностью.
В наших исследованиях среди «отказниц» большинство никогда не были в браке - 60%, замужем - 10%; 20% живут в незарегистрированном браке и 10% - разведены; 35% живут без родственников, 15% проживают с мужем. Никто
не живет с родителями мужа. При этом доля живущих вместе с матерью довольно большая - 45%. В старшей группе женщин имеются дети от мужа, у молодых детей нет.
Прежде чем приступить к анализу мотивов отказа от ребенка, необходимо остановиться на особенностях психологического портрета «отказниц». Еще в 30-е гг. при изучении психологического состояния женщин, отвергающих своих детей, у них были обнаружены эмоциональная и психологическая незрелость, неготовность к браку в силу эмоциональной неустойчивости и эгоцентризма. Это встречается у женщин, которые в детстве сами подвергались психологической депривации и агрессии или которым не удалось разрешить свои детские или пубертатные конфликты. Такие лица бывают сосредоточены лишь на своих проблемах, для них характерно переживание чувства несправедливости и недостатка любви. Иногда у них отмечается чрезмерная зависимость от матери или отца, а у некоторых неясное стремление ко все новым эмоциональным переживаниям. Очень часто это приводит женщин к многочисленным сексуальным связям, которые из-за незрелости личности они не способны продолжить и в которых они не находят эмоционального удовлетворения.
С этого времени очень мало нового прибавилось в наших знаниях о психологическом портрете «отказницы». Более поздние исследования также подтвердили наличие у женщин, бросивших своего ребенка, психологической незрелости, эмоциональной неустойчивости и неспособности к позитивной связи с ребенком. Авторы считают, что в такой ситуации сам ребенок как бы демонстрирует матери неприемлемые для нее самой ее собственные черты. Результаты наших исследований, полученных методом структурированного психологического интервью в сочетании с психологическим тестированием по методам Люшера, Кеттелл Розен-цвейга и рисуночным тестом, показывают, что среди «отказниц» очень часто встречаются эмоционально незрелые личности, которых отличает аффективная несдержанность, низкая толерантность к стрессам, эгоцентризм и независимость. Видимо, поэтому среди мотивов отказа от ребенка значительный вес (42%) имеет мнение родителей: «Я не могу прийти к родителям с ребенком, не имеющим отца».
Личностная незрелость отражается на качестве социализации. Обратимся к ответам «отказниц», характеризующим ценностные ориентации. Является ли работа для них необходимой частью жизни или только неизбежным злом. Наиболее частым ответом был такой: «Надо работать в меру и зарабатывать столько, чтобы обеспечить себя необходимым» (35%). Другая часть опрошенных считает, что надо работать много, зарабатывать, чтобы покупать все, что захочется; 10% хотели бы возможности вообще не работать, 5% - иметь такую работу, чтобы она не была очень утомительна, но оплачивалась очень хорошо. И только 0,29% опрошенных женщин считают, что можно не гнаться за большим заработком, если работа соответствует склонностям и интересам. Независимо от реального значения последнего утверждения оно не полностью согласуется с их же выборами наиболее важных жизненных целей. Иметь интересную работу, позволяющую проявить способности, хотят 20% опрошенных, и получить образование - 10%. Таким образом, значительная часть опрошенных последовательно декларирует одобряемые обществом ценности.
Исследование показало, что такие женщины ощущают чувство пустоты вокруг себя. Их отличает неспособность контролировать свои влечения, импульсы. Это делает их чрезмерно конформными, обнаруживает у них обостренную потребность в привязанности, «принятии», в позитивном отношении к себе. Видимо, поэтому выявляется следующий парадокс: оставляя своего ребенка, обрекая его на сомнительное существование, большинство «отказниц» демонстрируют тем не менее общепринятые нормы и установки. Наиболее важное место для «отказниц» занимают такие желания, как счастливое супружество, семейная жизнь - 40%, воспитание хороших детей и обеспечение их будущего -25%. Для себя лично бездетность планируют только 1% опрошенных; 50% собираются иметь одного ребенка, двоих -10%, а троих - 20%. Меньшее место, хотя и довольно значительное, у группы ценностных ориентации, означающих гедонистское, потребительское отношение жизни. Так, хотели бы «иметь много денег, чтобы позволить себе все лучшее, что есть в жизни», 15%, «иметь много друзей и знако-
мых» - 20%, развлечения, возможность весело проводить
время» - 5%.
Незрелость суждений «отказниц» проявляется в особенностях оценки их социальных связей. Так, находясь в сложной социальной ситуации - без мужа, с низким качеством поддержки собственной нестабильной семьи, в узком круге близких друзей (30% из них имеют близких друзей, 25% не доверяют своим друзьям настолько, что ничего не знают о ребенке, 10% друзей относятся к проблеме безразлично, и ни у кого из друзей не являются намерения помочь в воспитании ребенка), большинство респонденток считает свои отношения с окружающими вполне хорошими и «в общем удается ладить» - 25%. Проявления антагонизма встречаются значительно реже- «меня чарто не понимают»- 15%, «меня часто обижают» - 5%, «мне нет дела до людей» - 5%,
Психологическое интервью установило, что принятие решения отказаться от новорожденного у этих женщин возникает, как правило, задолго до рождения ребенка. В это время женщины обычно переживают тяжелый психологический кризис, имеющий в разных случаях свое содержание. Однако общим для всех является борьба мотивов - когда инстинктивному стремлению женщины к материнству и давлению общественной морали противостоит недоверие к своим силам и возможностям. Так, обращает на себя внимание тот факт, что недовольны собой 60% опрошенных, не удовлетворены, как складывается жизнь в целом, 75%. Это бывает связано не только с реальными трудностями, но и с мнимыми переживаниями физической или моральной несостоятельности, с ощущением неспособности и нежеланием преодолевать жизненные трудности. Видимо, поэтому наиболее частыми ссылками на непосредственные причины отказа являются материальные условия (нет жилья, денег и т. д), они составляют 50%. За ними следуют ссылки на молодой возраст и на то, что бросил отец ребенка (по 20%). Определенное значение имеют осуждение родителей (25%) и советы друзей не обременять себя ребенком (10%), «ребенок помешает мне жить так, как я хочу» (15%). К этому прибавляются переживания актуальных личных конфликтов, неудач с прерыванием беременности, тягостное ожидание момента, когда придется объявить об отказе в семье и в родильном доме. Тяжелыми травмами (особенно для юных) становятся психологический прессинг в родительской семье, склоняющей ее к отказу от ребенка, а также унижающее достоинство отношение со стороны профессионально и психологически не подготовленного персонала в родильных домах. Вот тот неполный комплекс факторов, который очень часто становится причиной тяжелых депрессивных состояний и обострений психических заболеваний.
В целом материалы указывают на две группы мотивов отказа от ребенка. Одна из них - это трудная житейская ситуация (отсутствие денег, жилья, неприятие родителей, категорический отказ мужа от ребенка). Другая более комплексная и сложная, которая включает помимо социальных значительные психологические и психопатологические проблемы. Следует, однако, отметить, что граница между этими двумя группами нерезкая. Во всех случ'аях крайне необходимым является консультация юриста, помощь социальных служб, психологов, а иногда и психиатров. Если говорить об общегосударственном уровне, то проблема касается не только «отказниц», но и большинства женщин, имеющих маленьких детей, так как в настоящее время они являются незащищенной и в то же время самой нуждающейся в защите группой населения.
И последнее. Так как решение отказаться от своего ребенка обычно возникает задолго до родов, то вся социальная и психологическая ситуация во время беременности способствует тяжелому психологическому травмированию женщины, что является угрозой не только для ее психического здоровья, но, что более драматично, для здоровья будущего ребенка. Отсюда следует необходимость как можно более раннего выявления среди беременных женщин с риском отказа от материнства и оказания им адекватной пре-натальной поддержки, включающей комплекс социальных, психологических и медицинских мер.
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
С. Гроф
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ В СЕАНСАХ*
Основные характеристики перинатальных переживаний и их фокус сосредоточены на проблемах биологического рождения, физической боли и агонии, старения, болезни и дряхления, а также умирания и смерти. Потрясающее столкновение с этими критическими аспектами человеческого существования и глубокое осознание бренности и непостоянства жизни человека как биологического существа неизбежно сопровождается мучительным экзистенциальным кризисом. Благодаря этим переживаниям индивидуум приходит к пониманию, что не важно, что он делает в этой жизни, - он не может избежать неизбежного: он должен будет покинуть этот мир, оставив все, что накопил и достиг и к чему он эмоционально привязан. Сходство между рождением и смертью, поражающее пониманием того, что начало жизни есть то же самое, что и ее конец - главная философская тема, сопровождающая перинатальные переживания. Другим важным следствием потрясающего эмоционального и физического столкновения со смертью является открытие областей духовных и религиозных переживаний, которые оказываются внутренней частью человеческой личности и не зависят от культурных и религиозных основ индивидуальности и любого вида программирования. В моем опыте каждый, кто достиг этих уровней, начинает отчетливо видеть уместность духовных и религиозных сфер в универсальной схеме вещей. Даже твердокаменные материалисты, позитивистски ориентированные ученые, скептики и циники, бескомпромиссные атеисты и антирелигиозные крестоносцы, подобные философам-марксистам, неожиданно начинают интересоваться духов-
* С. Гроф. Области человеческого бессознательного. М. 1994.
ными поисками, после того как столкнулись с этими уровнями переживаний.
Чтобы избежать непонимания, необходимо подчеркнуть, что столкновение со смертью на перинатальном уровне принимает форму глубокого непосредственного переживания предсмертной агонии, сложной, имеющей эмоциональные, философские и духовные, а также явственно физиологические грани. Осознание умирания и смерти в этих ситуациях передается не только символическими средствами. Специфическое эсхатологическое содержание мыслительных процессов и виденье умирающих людей, разлагающихся трупов, гробов, кладбищ, катафалков, похоронных кортежей возникают в качестве характерных сопутствующих обстоятельств и иллюстраций этого переживания смерти; однако самой его основой является действительное чувство безусловного биологического кризиса, которое часто смешивается с действительным умиранием. Нередко бывает, что индивидуум, вовлеченный в такое переживание, теряет критическое отношение к тому, что он находится на психоделическом сеансе, и убежден, что стоит лицом лицу с неминуемой смертью.
Свидетельства серьезного кризиса имеют не только субъективный характер. Эпизоды умирания и рождения (или повторного рождения) часто весьма драматичны и имеют много биологических проявлений, очевидных даже для внешнего наблюдателя. Человек может часами испытывать мучительные боли, с искаженным лицом хватая воздух ртом и разряжая огромное количество мускульного напряжения в различных судорогах, дрожи и сложных скручивающих движениях. Цвет лица может изменяться от темно-бордового до смертельно бледного, пульс весьма ускоренный и нитеподобный, частота дыхания меняется в широких пределах; слюна может быть густой, и часто имеет место тошнота с сильной рвотой.
Как оказывается, эти переживания некоторым, не совсем ясным на настоящей стадии исследования образом, связаны с обстоятельствами биологического рождения. Часто испытуемые относятся к ним как к совершенно определенным переживаниям своей родовой травмы. Тот же, кто не проводит этой связи, а истолковывает свою встречу со смертью и переживания смерти-рождения в рамках чистой философии и
духовности, чаще всего демонстрируют кластер физических описанных ранее симптомов, которые интерпретируются как производные биологического рождения. Они также принимают позы и совершают сложную последовательность движений, удивительно похожих на совершаемые ребенком на разных стадиях родов. Помимо этого такие субъекты часто сообщают о видении эмбриона, плода и новорожденного или идентификации с ними. Столь же общими являются и различные аутентичные неонатальные чувства и поведение, а также виденье женских гениталий и грудей.
В связи с этими наблюдениями и другими клиническими свидетельствами я обозначил вышеприведенные феномены как перинатальные переживания. Все еще остается неустановленной причинная связь между действительным биологическим рождением и матрицами бессознательного для этих переживаний. Однако представляется уместным назвать этот уровень бессознательного ранкианским; с некоторой модификацией концептуальная конструкция Отто Ранка полезна для понимания рассматриваемых феноменов*. Перинатальные переживания являются выражением более глубокого уровня бессознательного, который явно лежит за пределами досягаемости классической фрейдовской техники. Явления, принадлежащие к этой категории, не описывались в психоаналитической литературе и не рассматривались в теориях аналитиков-фрейдистов. Более того, классический фрейдовский анализ не дает объяснений таким переживаниям и не предлагает адекватной концептуальной конструкции для их интерпретации.
В психолитическом лечении с применением ЛСД у психически больных эти уровни обычно достигаются после значительного числа сеансов психодинамического характера. В процедуре у лиц без серьезных эмоциональных проблем перинатальная феноменология обычно возникает раньше. В психоделической терапии, где применяются высокие дозы ЛСД, а сеансы отличаются большой глубиной, перинаталь-
* Венский психиатр Отто Ранк, отошедший от основного потока ортодоксального подчеркивал в своей книге «Травма рождения» (1927) основополагающее значение перинатальных переживаний.
ные элементы часто наблюдаются в первой или во второй сессиях. Это имеет место и в случаях нормальных добровольцев, людей, умирающих от рака и психически больных. По не совсем ясным в настоящее время причинам оказывается, что алкоголики и наркоманы имеют более простой доступ в перинатальную область бессознательного, нежели индивидуумы с психоневротическими проблемами, особенно со значительным компонентом навязчивых состояний в их клинической симптоматологии.
Психотерапия с помощью ЛСД - не единственная ситуация, которая может способствовать проявлению перинатальных переживаний. Иногда этот уровень бессознательного может быть задействован силами как изнутри организма, так и извне. Однако происходящие при этом процессы еще недостаточно поняты современной психиатрией. Клиницисты могут наблюдать перинатальные элементы в разнообразных психотических состояниях, особенно при навязчивых состояниях и шизофрении. Но перинатальных переживаний могут быть найдены и вне рамок психопатологии. Подобные переживания наблюдались и описаны психотерапевтами различной ориентации, использующими технику выражения переживаний как у нормальных людей, так и невротиков. Эти способы включают биоэнергетику, подходы, основывающиеся на традиции Райха, гештальт-терапию, конфликтные группы, сеансы марафона и голый марафон Поля Биндрима.
Многочисленные дополнительные примеры можно найти и в атропологической и этнографической литературе. С незапамятных времен во многих древних и так называемых «примитивных» культурах существовали мощные процедуры, которые, как выясняется способствовали таким переживаниям как у отдельных индивидуумов, так и у целых групп. Такие процедуры имели место почти исключительно в закрытых контекстах или же в специальных случаях, таких как ритуалы вхождения или посвящения, или как предмет ежедневной практики в экстатических религиях. Техника, наработанная в этих культурах, захватывает широкий диапазон методов, начиная от использования психоактивных веществ растительного и животного происхождения, трансовых танцев, голодания, шока и физических пыток, лишения сна, и до детально
проработанных духовных практик, подобных тем, что развиты в индуистской и буддистской традициях. Перинатальные переживания представляют собой весьма важный перекресток между индивидуальной психологией и трансперсональной психологией или же между психологией и психопатологией, с одной стороны, и религией, с другой. Если мы мыслим их как относящиеся к индивидуальному рождению, они по-видимому, принадлежат к структурам индивидуальной психологии. Некоторые другие аспекты, однако, придают им весьма определенный трансперсональный привкус. Интенсивность этих переживаний превосходит все, что обычно рассматривается как предел выносливости индивидуума. Часто они сопровождаются идентификацией с другими личностями или с борющимся и страдающим человечеством. Более того, другие типы явно трансперсональных переживаний, таких как эволюционная память, элементы коллективного бессознательного и некоторые архетипы Юнга, нередко составляют неотъемлемую часть перинатальных матриц. Сеанс ЛСД на этой стадии обычно имеет довольно сложный характер, включая комбинацию отчетливо субъективных переживаний с явными трансперсональными элементами.
В этой связи представляется уместным упомянуть категорию переживаний, которые представляют собой переходную форму между фрейдовским и психодинамическим уровнем и ранкианским уровнем. Это повторное переживание травматических воспоминаний из жизни индивидуума, которое носит скорее физический, а не психический характер. В типичном случае такие воспоминания включают в себя угрозу выживанию или телесной целостности, вроде серьезных операций или болезненных и опасных ранений, тяжелых болезней, особенно связанных с трудностями с дыханием (дифтерия, коклюш, пневмония), случаи угрозы утонуть и эпизоды жестоких физических пыток (помещение в карцер концлагеря, операция «промывания мозгов» и техника допросов, применявшаяся нацистами, а также плохое обращение в детстве). Эти воспоминания определенно индивидуальны по природе, и однако, тематически они тесно связаны с перинатапьными переживаниями. Иногда оживление памяти о физических трав-
мах как о более поверхностных гранях родовой агонии происходит одновременно с перинатальными явлениями. Наблюдения, полученные при ЛСД-психотерапии, показывают, что память соматической травматизации играет существенную роль в психогенезисе различных эмоциональных нарушений, особенно в случаях депрессии и-садомазохизма; однако эта концепция все еще не признана и не исследована сегодняшними школами динамической психотерапии.
Элементы обширного и сложного содержания сеансов ЛСД, отражающих этот уровень бессознательного, возникают, как представляется, в виде четырех типичных кластеров, матриц или паттернов переживания. Пытаясь найти простое, логичное и естественное объяснение этому факту, я был поражен глубокими параллелями между этими паттернами и клиническими стадиями прохождения родов. Ввести такое отношение четырех категорий явлений с последовательными стадиями биологического родового процесса и с переживаниями ребенка в перинатальный период оказалось весьма полезным принципом как в теоретических рассмотрениях, так и в практике ЛСД-психотерапии. Поэтому для краткости я называю четыре основных матрицы переживания ранкианс-кого уровня Базовыми Перинатальными Матрицами (Б1 -IV). Следует еще раз подчеркнуть, что на настоящей стадии знания это нужно рассматривать как весьма полезную модель, не обязательно включающую в себя причинную связь.
Базовые Перинатальные Матрицы являются гипотетическими динамическими управляющими системами, функционирующими на ранкианском уровне бессознательного подобно тому, как СКО действуют на фрейдовском психодинамическом уровне. Они имеют собственное специфическое содержание, а именно, перинатальные явления. Последние содержат две важные грани или два компонента: биологический и духовный. Биологический аспект перинатальных переживаний состоит из конкретных и довольно реалистических переживаний, связанных с индивидуальными стадиями биологических родов. Каждая стадия биологического рождения, вероятно, имеет специфическую духовную дополнительную составляющую: для более мятежного внутриутробного существования - это переживание космического единства; начало ро-
дов параллельно переживанию чувства всеобщего поглощения (universal engulfment); первая клиническая стадия родов, сжатие в закрытой маточной системе, соответствует переживанию «нет выхода» или аду; проталкивание через родовые каналы во второй клинической стадии родов имеет свой духовный аналог в борьбе между смертью и вторым рождением, метафизическим эквивалентом завершения родового процесса и событий третьей клинической стадии родов является переживание смерти Эго и повторного рождения. Помимо этого специфического содержания следует отметить, что основные перинатапьные матрицы функционируют как организующий принцип для материала других уровней бессознательного, а именно для СКО-систем, а также для некоторых видов трансперсональных переживаний, которые иногда появляются одновременно с перинатальными явлениями, такими как архетип Ужасной Матери или Великой Матери, отождествление с животными, или филогенетические переживания.
Индивидуальные перинатальные матрицы имеют фиксированные связи с определенными типичными категориями воспоминаний из жизни субъектов; они связаны также со специфическими аспектами активности фрейдовских эрогенных зон и со специфическими психопатологическими синдромами и психиатрическими нарушениями (смотри синоптическую парадигму на сводной таблице). Глубокая параллель между физиологическими активностями в последовательных стадиях биологических родов и паттернами активности в различных эрогенных зонах, в особенности при генитальном оргазме, оказывается, имеет большое теоретическое значение. Это позволяет перенести этиологическое ударение в психогенезисе эмоциональных нарушений с сексуальности на перинатальные матрицы, не отвергая и не отрицая многих основных фрейдовских принципов. Даже в столь широких рамках психоаналитические наблюдения и понятия остаются полезными Для понимания явлений, происходящих на психодинамическом уровне, и их взаимоотношений.
С. Гроф
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ МАТРИЦЫ ВЛИЯНИЯ, ФОРМИРУЮЩИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ*
БАЗОВАЯ ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МАТРИЦА I
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО С МАТЕРЬЮ (ВНУТРИУТРОБНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ ДО НАЧАЛА РОДОВ)
Под наблюдением психотерапевта и специально обученной медсестры этот мужчина, психиатр, в свои тридцать лет с небольшим был введен в измененное состояние, в котором он медленно, но основательно продвигался в мир, существующий в глубочайших тайниках его сознания. Сначала он не заметил никаких изменений в восприятии и эмоциях - были лишь едва заметные физические симптомы, заставившие его подумать, что он заболевает гриппом. Он ощущал недомогание, озноб, странный привкус во рту, легкую тошноту и дискомфорт в кишечнике. По телу волнами пробегала судорога, и он начал покрываться потом.
Убедившись в том, что с ним ничего не происходит, он стал нетерпеливым и забеспокоился по поводу возможного гриппа. Он рассуждал, что, наверно, это неподходящее время для такой работы, и решил закрыть глаза и более тщательно пронаблюдать, что будет дальше.
В тот момент, когда он закрыл глаза, он почувствовал, что переместился на какой-то другой, более глубинный уровень сознания, который для него был совершенно новым. Он испытывал странное ощущение уменьшения в размерах, его голова становилась как бы значительно больше ту-
С. Гроф. Холотропное сознание. М. 1ЭЭ6.
ловища и конечностей. Затем он понял, что пришедшая ему в голову мысль о гриппе, которой он поначалу испугался, теперь превратилась в целый комплекс токсичных влияний, отравляющих его - не взрослого человека, а эмбриона. Он ощущал себя подвешенным в жидкости, содержащей вредные вещества, которые попадали в его тело через пуповину, и был убежден, что все это является ядовитым и враждебным. Он мог попробовать на вкус эти отвратительные вещества, напоминающие странное сочетание йода и разлагающейся крови или протухший бульон.
По мере того как все это происходило, взрослая часть его - та часть, которая была специалистом-медиком и всегда гордилась тем, что обладает устоявшимся научным мировоззрением, - как бы со> стороны наблюдала за эмбрионом. Жившему в нем ученому-медику было известно, что атаки токсинов на этой сильно уязвимой стадии жизни исходят из материнского тела. Время от времени он мог различать эти вредные вещества: иногда ему казалось, что это какие-то специи или пищевые ингредиенты, не подходящие для зародыша, иногда сигаретный дым, который должно быть вдыхала его мать, а порой и алкоголь. Он также начал осознавать эмоции своей матери - иногда это было чем-то вроде беспокойства или гнева, а иногда чувств, связанных с беременностью и даже сексуальным возбуждением.
Идея о том, что в эмбрионе может существовать функционирующее сознание, противоречила всему - этому его учили в медицинской школе. Однако возможность осозна-вания тонких нюансов взаимодействия с матерью в этот период жизни поразила его. И все же он не мог отрицать конкретной природы этих переживаний. Все это сталкивало живущего в нем ученого с очень серьезными противоречиями; все, что он переживал, противоречило тому, что он «знал». Затем перед ним предстало разрешение конфликта, и все вдруг прояснилось: не нужно подвергать сомнению испытываемые переживания, надо просто пересмотреть свои научные убеждения. Ведь то, что ему стало известно, в ходе истории случалось со многими людьми!
Пройдя через нелегкую борьбу, он отказался от аналитического мышления и принял все, что с ним происходило.
Симптомы гриппа и нарушения пищеварения исчезли. Теперь казалось, что его соединили с воспоминаниями безмятежного периода внутриматочной жизни. Его визуальное поле становилось чище и ярче, и им все больше овладевал экстаз. Это выглядело так, словно с него чудесным образом сняли и уничтожили многослойную грязную.паутину. Перед ним поднялся занавес, и он оказался окутан блистающим светом и энергией, струящейся тонкими вибрациями через все его существо.
На одном уровне он все еще оставался эмбрионом, переживающим абсолютное совершенство и блаженство хорошей матки, или новорожденным, сосущим молоко из дающей жизнь груди. На другом же уровне он становился всей Вселенной. Он был очевидцем зрелища макрокосма с бесчисленными пульсирующими галактиками. Иногда он находился снаружи, наблюдая эти явления в качестве зрителя, а иногда сам становился ими. Сияющие и захватывающие дух космические картины переплетались с переживанием столь же чудесного микрокосма - танца атомов и молекул, а затем появления биохимического мира и раскрытия происхождения жизни и отдельных клеток. Он чувствовал, что впервые в своей жизни переживал Вселенную такой, как она есть - как непостижимую тайну и божественную игру энергии.
Это богатое и сложное переживание длилось, как ему казалось, вечность. Он обнаружил, что колеблется между переживанием себя как страдающего, изможденного эмбриона и состоянием блаженного и безмятежного внутриматоч-ного существования. Время от времени вредные воздействия принимали форму архетипических демонов или злых существ из сказочного мира. К нему потоком начали приходить озарения относительно того, почему дети так восхищаются мифологическими историями и их персонажами. Некоторые из этих озарений несли в себе гораздо более широкий смысл. Тоска по состоянию полного осуществления всех желаний, такому, какое можно пережить в хорошей матке или в мистическом экстазе является, как оказалось, основной побуждающей силой каждого человека. Он узрел, что тема такой тоски выражена в развитии сюжетов сказок в сторону счастливого конца. Он увидел это в мечте революцио-
нера об утопическом будущем, в стремлении художника получить признание и одобрение, а также в амбициях, касающихся власти, положения и известности. Ему стало совершенно ясно, что здесь находился ответ на главную дилемму человечества. Желание и нужду, стоящие за этими тенденциями, никогда нельзя удовлетворить даже самыми великими достижениями внешнего мира. Единственный способ получить удовлетворение - это вновь соединиться с этим местом в нашем бессознательном. Внезапно он понял, что проповедь многих духовных учителей состоит в том, что действенной может быть только одна революция - внутреннее преображение каждого человека.
Во время эпизодов переживания положительных воспоминаний своего эмбрионального существования он испытывал чувство единства со всей Вселенной. Здесь было Дао, Запредельное, и Тат твам аси (Ты есть То) из Упанишад. Он потерял ощущение своей индивидуальности. Иногда это переживание было неосязаемо и не имело содержания, а иногда оно сопровождалось множеством красивых видений -архетипических райских образов, Рога изобилия, Золотого века или девственной природы. Он становился то рыбой, плавающей в кристально-чистой воде, то бабочками, порхающими над горными плато, то чайками, устремляющимися вниз, чтобы пронестись над гладью океана. Он становился океаном, животными, растениями, облаками - то одним, то другим, а иногда и всем вместе одновременно.
Дальше не случилось ничего особенного, за исключением того, что он начал ощущать себя единым с природой и Вселенной, купаясь в золотом свете, который постепенно угасал. Он оставил эти переживания и неохотно вернулся к своему обыденному состоянию сознания. Сделав это, он убедился в том, что с ним произошло нечто чрезвычайно важное и что это для него никогда больше не повторится. Наряду с глобальным пониманием жизни, для описания которого не находилось слов, он обрел новое чувство гармонии и по-новому воспринял себя.
На протяжении многих часов после этого переживания он был абсолютно убежден в том, что состоит из чистой энергии и духа, ощущая, что теперь ему трудно полностью
придерживаться прежних убеждений относительно своего физического существования. Позднее, к вечеру того же дня, у него появилось глубокое чувство полного исцеления и возвращения в тело, которое функционировало совершенным образом.
У психиатра, пережившего все это в последующие месяцы, вопросов появилось больше, чем ответов. По всей видимости, было бы легко отклонить большую часть пережитого им, если бы его переживание было исключительно интеллектуальным. Интеллектуальное понимание могло прийти из книг и фильмов. Но произошло нечто большее. Его переживания более чем что-либо носили еще и чувственный характер. Это были необычные физические ощущения, наполненные соприкосновением со странными структурами, со светом и тьмой жизни. Он ощутил болезнь, вызванную токсинами, бомбардирующими его в чреве матери, а затем непостижимое очищение.
Разумеется, некоторая информация об этой сфере могла прийти из книг, которые он читал, или фильмов, которые он смотрел, но каков же был источник его тончайших ощущений? Откуда ему могли быть известны ощущения эмбрионального периода его жизни? Очевидно, сознание обеспечивало его удивительно подробной, сложной и конкретной информацией, о которой ему даже не приходилось мечтать. Он ощутил Дао - единство со Вселенной. Он почувствовал растворение эго и слияние со всей жизнью. Но если все это верно, он должен оставить все свои убеждения в том, что наш ум может обеспечивать нас воспоминаниями только тех событий, которые мы непосредственно переживали в период, следующий за рождением.
Откуда бы мне так много знать о вопросах, приходящих в голову этому психиатру? Но я знаю, поскольку описанные выше переживания являются моими собственными. Однако я также обнаружил, что эти переживания при глубоком исследовании сознания не являются уникальными и вполне обычны. Мое же повествование представляет собой особый набор человеческих переживаний, имевших место в сотнях аналогичных сеансов с другими людьми, свидетелем которых мне приходилось быть на протяжении последних тридцати с лишним лет.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БПМ-1
Основные характеристики этой матрицы, а также вытекающие из нее образы отражают естественный симбиоз между матерью и ребенком, имеющий место в период его внутриутробного развития. Важно помнить, что в это время мы настолько тесно связаны с матерью, что почти являемся органом ее тела. При этом условия для ребенка близки к идеальным. Плацента постоянно снабжает его кислородом и питательными веществами, необходимыми для роста, а также удаляет все ненужные продукты. Околоплодными водами эмбрион защищен от громкого шума и толчков, а в материнском теле и матке поддерживается относительно постоянная температура. Там присутствует атмосфера безопасности, защищенности и мгновенного удовлетворения всех нужд и без всяких усилий.
Картина жизни в утробе матери может показаться весьма безоблачной, но это не всегда так. В наиболее удачных случаях оптимальные условия нарушаются лишь изредка и на короткое время. Например, мать может съесть какую-то пищу, которая потревожит эмбрион, выпить алкоголь или выкурить сигарету. Она может провести некоторое время в очень шумном окружении или создать дискомфорт для эмбриона и для себя, проехав в машине по неровной дороге. Как и любой человек, она может простудиться или заболеть гриппом. Вдобавок к этому, половая активность, особенно в последние месяцы беременности тоже может в некоторой степени ощущаться эмбрионом.
В худших случаях жизнь в материнском чреве может вызывать чрезвычайные неудобства. На существование эмбриона могут воздействовать перенесение матерью тяжелых инфекционных заболеваний, заболевания эндокринной системы и обмена веществ, а также сильный токсикоз. Здесь можно даже упомянуть о «токсичных эмоциях», таких, как сильное беспокойство, напряжение или вспышки гнева. На качество беременности могут повлиять связанные с работой стрессы, хронические интоксикации, пагубные привычки или жестокое обращение с будущей матерью. Ситуация
может оказаться настолько плохой, что становится неизбежен выкидыш. Во время углубленной эмпирической работы люди открывали для себя некоторые моменты, считавшиеся семейными тайнами, такие, например, как тот факт, что они были нежеланными детьми и мать пыталась избавиться от плода на ранних стадиях беременности. .
В современном акушерстве наши негативные переживания, относящиеся к эмбриональному периоду, считаются важными только с физической точки зрения, то есть только как потенциальный источник биологических поражений тела, а если наблюдается их влияние на психологическое развитие ребенка, то оно рассматривается как результат некоего органического поражения мозга. Однако переживания, описанные людьми, сумевшими вновь пройти через этот уровень в необычных состояниях сознания, почти не оставляют сомнений в том, что на сознание ребенка даже на ранних стадиях эмбриональной жизни оказывает влияние широкий диапазон вредных воздействий. Если это так, то мы должны были бы принять, что также, как существует «хорошая» и «плохая» грудь, существует «хорошая» и «плохая» матка. В-этом случае положительные переживания в матке играют важную роль в развитии ребенка, то есть, по меньшей мере, они так же важны, как и положительные переживания, связанные с кормлением грудью. Во время необычных состояний сознания многие люди чрезвычайно ярко описывают свои переживания нахождения в матке. Они переживают себя очень маленькими, с характерной для эмбриона непропорционально большой головой по сравнению с телом. Они чувствуют окружение околоплодной жидкости, а иногда даже и присутствие пуповины. Если человек воссоединяется с теми периодами эмбриональной жизни, где не было беспокойств, то такое переживание ассоциируется с блаженным состоянием сознания, где между субъектом и объектом не возникает ощущения двойственности. Это то «океаническое» состояние, в котором нет границ и в котором мы не проводим различий между нами самими и материнским организмом или между нами самими и внешним миром.
Это переживание себя в качестве эмбриона может развиваться в нескольких направлениях. Океанический аспект
эмбриональной жизни может способствовать возникновению отождествлений с различными водными жизнеформами, такими, как киты, дельфины, рыбы, медузы или даже водоросли. Ощущение нахождения вне границ, переживаемое нами в материнской утробе, также может способствовать появлению чувства единства с космосом. Можно отождествиться с межзвездным пространством, с различными космическими телами, с целой галактикой или же со Вселенной во всей ее полноте. Некоторые отождествляются также с переживанием астронавтов, плавающих в невесомости и прикрепленных к «материнскому кораблю», обеспечивающему ему жизнь «шлангом-пуповиной».
Тот факт, что хорошая матка безоговорочно удовлетворяет все нужды эмбриона, является основой символизма, такого, как нескончаемые дары «Матери-природы», выражающиеся в красивой, безопасной и сытой жизни. Когда мы в необычных состояниях переживаем себя эмбрионом, то эти переживания могут внезапно смениться великолепными видами тропических островов с пышной растительностью, фруктовых садов, полей со зреющей кукурузой или ухоженных огородов, расположенных на террасах Анд. Еще одной возможностью является то, что эмбриональное переживание раскрывается в архетипические сферы коллективного бессознательного, и вместо неба астрономов и природы биологов мы сталкиваемся с небесными сферами и райскими садами из мифологий различных культур мира. Таким образом, символизм БПМ-1 как в сокровенном смысле, так и логически сплетает воедино различные эмбриональные, океанические, космические, природные, райские и божественные элементы.
СОСТОЯНИЕ БЛАЖЕНСТВА И КОСМИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА
Переживания БПМ-1 обладают сильными мистическими обертонами; они ощущаются как священные или святые. Здесь, во избежание религиозного жаргона, возможно, наиболее точно подошел бы используемый Юнгом термин ну-минозный. Когда у нас бывают такого рода переживания, то нам кажется, что мы встретились с измерениями реальности,
относящимися к высшему порядку. Этот важный духовный аспект БПМ-1, часто описываемый как глубокое чувство космического единства и блаженства, тесно связан с переживаниями, которые могут возникать у нас во время пребывания в хорошей матке - с покоем, умиротворенностью, безмятежностью, радостью и блаженством. Наше обыденное восприятие пространства и времени, как нам кажется, угасает, и мы становимся «чистым бытием». Передать это состояние словами невозможно. Можно лишь сказать, что оно «неописуемо» или «невыразимо».
Описания космического единства часто изобилуют парадоксами, нарушающими аристотелевскую логику. Например, в повседневной жизни мы принимаем тот факт, что вещи, с которыми мы сталкиваемся, не могут одновременно быть ими самими и не быть ими самими, или же то, что они не могут быть чем-либо еще, кроме того, чем они являются. «А» не может быть «не А» или «Б». Однако переживание космического единства может «ничего в себе не содержать, хотя и охватывать все существующее». Или в то же самое время, когда наше сознание расширилось настолько, что могло бы охватить всю Вселенную, мы можем ощущать себя «не имеющими эго». Мы можем испытывать застенчивость и ущемлен-ность из-за своей незначительности, однако чувствовать при этом свою значимость и важность, доходящие иногда до отождествления себя с Богом. Мы можем воспринимать себя как существующих и в то же время несуществующих и видеть все материальные объекты пустыми, а саму пустоту наполненной формой.
В этом состоянии космического единства мы ощущаем обладание прямым, непосредственным и немедленным доступом к знанию и мудрости вселенской значимости. Это обычно не означает конкретной информации с техническими деталями, которую можно применить на практике, а скорее включает в себя сложные прозрения в природу существования. Они, как правило, сопровождаются чувством убежденности в том, что это знание в конечном итоге более уместно и «реально», чем способность восприятия и убеждения, присущая нам в повседневной жизни. В древних индийских Упанишадах говорится об этих глубоких проникно-
вениях в основные тайны бытия как о «знании Того, что дает знание всего».
Экстаз, связанный с БПМ-1, можно назвать «океаническим блаженством». Далее в разделе о БПМ-111, мы встретимся с совершенно иной формой экстаза, связанной с процессом смерти-возрождения. Я придумал для этого термин «вулканический экстаз». Он дикий, «дионисийский», ему присущи всепоглощающие волны взрывной энергии и сильные позывы к лихорадочной деятельности. Напротив, океаническую энергию БПМ-1 можно назвать «аполлоновской» - наряду с безмятежностью и умиротворенностью она включает в себя спокойное растворение всех границ. Когда же мы закрываем глаза и отгораживаемся от всего остального мира, она проявляется как независимое внутреннее переживание, наделенное ранее описанными мною характеристиками. Когда же мы открываем глаза, она превращается в ощущение слияния или «становления единым» со всем, что мы воспринимаем вокруг себя.
В океаническом состоянии мир предстает во всей красоте и в неописуемом сиянии. Необходимость в рассуждениях заметно уменьшается, и Вселенная становится «не загадкой, которую надо разгадывать, а переживаемой мистерией». Найти что-либо негативное, касающееся жизни становится поистине невозможным. Абсолютно все кажется совершенным. Но в этом чувстве совершенства содержится противоречие -то, что однажды Рам Дасс очень кратко выразил словами, услышанными от своего гуру с Гималаев: «Мир абсолютно совершенен, включая твое собственное недовольство им, а также все то, что ты пытаешься сделать, чтобы изменить его». В переживании океанического блаженства весь мир кажется нам дружественным местом, где мы можем без всякого риска принимать детскую, пассивно-зависимую установку. В этом состоянии зло кажется эфемерным, неуместным или даже несуществующим.
Эти ощущения океанического блаженства близко соотносятся с «пиковыми переживаниями» Абрахама Мэслоу. Он охарактеризовал их следующим образом: ощущение целостности, единения и слияния; отсутствие усилий и легкость; полное использование своих возможностей; свобода от бло-
ков, заторможенности и страхов; спонтанность и выразительность; бытие здесь и сейчас; бытие с чистой душой и духом; отсутствие желаний и нужд; одновременное проявление инфантильности и зрелости и неописуемая красота. В то время как мои наблюдения океанического блаженства основаны преимущественно на переживаниях/с которыми я столкнулся в эмпирической работе, направленной на регрессию, описания Мэслоу отражают его изучение спонтанных пиковых переживаний, происходящих в жизни взрослых. Столь яркие параллели между этими двумя областями указывают на то, что некоторые из наших самых мощных побуждающих сил уходят корнями в далекое прошлое - намного глубже, чем это изначально считалось психологами.
СТРАДАНИЯ В «ПЛОХОЙ» МАТКЕ
До сих пор мы исследовали сложный символизм, связанный с «хорошей» маткой или безмятежными внутриутробными переживаниями. Пренатальные беспокойства имеют свои отличительные эмпирические характеристики, и если они не являются экстремальными, такими, как внезапный выкидыш, попытка аборта или серьезные токсичные состояния, то их симптомы относительно незаметны. Обычно их легко можно отличить от более драматических и неприятных проявлений, связанных с процессом рождения, таких, как образы войны, садо-мазохистские сцены, ощущение удушья, агонизирующая боль, давление, сильная тряска и спастические сокращения больших мышц. Поскольку большинство внутриутробных беспокойств имеет в своей основе химические изменения, то преобладающими темами здесь являются загрязненная или опасная окружающая среда, отравление, а также различные негативные влияния.
Чистая океаническая атмосфера может стать темной, мрачной и зловещей, и может показаться, что в ней скрывается множество подводных опасностей. Некоторые из этих опасностей предстают в виде гротескных творений природы, другие в виде омерзительных, агрессивных и недоброжелательных демонических призраков. Человек может отождествляться с рыбами и другими водными жизнеформами,
которым угрожает загрязнение рек и океанов промышленными отходами, или с невылупившимся цыпленком, над которым, перед тем как ему появится на свет, нависла угроза задохнуться от собственных экскрементов. Аналогичным образом видение звездного неба, характерное для переживаний «хорошей» матки, может затянуться уродливой пленкой или туманом. Видимые беспокойства имеют сходство с искажением изображеня при неисправности телевизоров.
Сцены загрязнения воздуха промышленными выбросами, химическая война, токсичные отходы, а также отождествление с заключенными, умирающими в газовых камерах концлагерей, принадлежат к характерным переживаниям «плохой» матки. Можно также почувствовать осязаемое присутствие злых сущностей, влияние внезоемных цивилизаций и астрологические поля. Растворение границ, создающее чувство мистического единства с миром во время безмятежных эпизодов внутриутробной жизни, сменяется теперь ощущением замешательства и угрозы. Мы можем почувствовать себя открытыми и уязвимыми перед грозными атаками, а в своей крайней степени это переживание приводит к параноидальным искажениям восприятия мира.
ДВЕРИ В ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ
Как мы увидели из открывающего эту главу рассказа, пренатальный мир БПМ-1 часто служит входом в трансперсональные сферы психики, которые мы опишем дальше более подробно. Отождествляясь с переживаниями либо хорошей, либо плохой матки, мы можем также переживать особые трансперсональные явления, имеющие с этими состояниями общие эмоции и физические ощущения. Иногда в этих переживаниях можно уйти во времени далеко назад и увидеть эпизоды из жизни наших человеческих и животных предков; кроме этого могут возникнуть кармические моменты и «флэши» из других периодов человеческой истории. Порой мы можем превзойти ограничения, отделяющие нас от остального мира и почувствовать слияние с другими людьми, группами людей, с животными и растениями и даже с неорганическими процессами.
Особый интерес среди этих переживаний представляют впечатляющие встречи с различными архетипическими существами, особенно с благостными и гневными божествами. Состояния океанического блаженства часто сопровождаются видениями божеств, дарующих счастье, таких, как Богиня Мать-Земля и различные другие аспекты- Великой Матери-Богини, Будда, Аполлон и т. д. Как уже упоминалось, переживания внутриутробных беспокойств часто связаны с демонами из различных культур. В продвинутой эмпирической работе у участников часто бывают откровения, вызывающие сочетание переживаний хорошей и плохой матки с яркими прозрениями, которые позволяют им увидеть назначение всех божеств в космическом порядке.
Объединение переживаний хорошей и плохой матки можно проиллюстрировать на примере фрагмента из сеанса, в котором один человек по имени Бен, переживая эпизоды своей внутриутробной жизни, рассказывал о встречах с архетипическими существами. Эти переживания привели его к нескольким замечательным прозрениям, касающимся божеств и демонов индийского и тибетского пантеонов. Он неожиданно увидел поразительную связь между состоянием Будды, восседающего на лотосе и пребывающего в глубокой медитации, и состоянием эмбриона, находящегося в хорошей матке. И хотя спокойствие, безмятежность и удовлетворенность Будды не тождественны блаженству эмбриона, они, словно являясь «высшей октавой» этого состояния, разделяют с ним важные черты. Демоны, окружающие Будду и потенциально угрожающие его покою, как это изображается в индийской и тибетской живописи, явились Бену, представляя его беспокойства, связанные с БПМ-1.
Среди демонов Бен смог выделить два различных вида. Кровожадные, открыто выражающие агрессию, свирепые демоны с клыками, кинжалами и копьями символизировали боли и опасности процесса биологического рождения, а омерзительные, вероломные и коварные представляли вредные влияния внутриутробной жизни. На другом уровне Бен переживал также то, что, по его убеждению, являлось воспоминаниями из прошлых воплощений. Ему казалось, что элементы его «плохой кармы» вошли в его жизнь в виде эмбри-
ональных беспокойств, родовой травмы и негативных переживаний, связанных с кормлением грудью. В переживаниях «плохой» матки, травмы рождения и «плохой» груди он видел точки трансформации, через которые кармические влияния входили в его настоящую жизнь.
Психологические и духовные аспекты БПМ-1, как правило, сопровождаются характерными физическими симптомами. В то время как переживания хорошей матки приносят ощущение хорошего самочувствия, проживание внутриутробных травм включает в себя множество неприятных физических проявлений. Наиболее распространенными среди них являются симптомы, напоминающие сильную простуду или грипп, -боли в мышцах, озноб, дрожь и ощущение общего недомогания. Нередко возникаютта,кже симптомы, ассоциируемые с похмельем, такие, как головная боль, тошнота, бурление в животе и газы. Это может сопровождаться неприятным привкусом во рту, который люди описывают по-разному: разлагающаяся кровь, йод, металлический привкус или просто «яд». В своих попытках подтвердить эти переживания мы часто обнаруживаем, что во время беременности мать болела, неправильно питалась, работала или жила в токсичной среде или имела привычку употреблять алкоголь и другие вещества.
ТАМ, ГДЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СОЕДИНЯЮТСЯ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПЕРЕЖИВАНИЯМИ
Вдобавок ко всем вышеописанным аспектам, БПМ-1 несет в себе также весьма интересные ассоциации с воспоминаниями из постнатальной жизни. Положительные аспекты этой матрицы представляют собой естественную основу для записи из нашей жизни всех переживаний удовлетворенности (позитивные СКО). Во время систематической эмпирической работы люди часто открывают глубокую связь между океаническим блаженством БПМ-1 и воспоминаниями счастливых периодов младенчества и детства, таких, как беззаботные и радостные игры со сверстниками или эпизоды гармоничной семейной жизни. Пылкие любовные романы и отношения между влюбленными, где присутствуют чувственные и сексуальные наслаждения, также связываются с по-
ложительными эмбриональными периодами. В работе с глубокими переживаниями люди часто сравнивают океаническое блаженство хорошей матки с определенными формами экстаза, которые мы можем переживать, став взрослыми.
Многие переживания, связываемые с этой матрицей, могут быть вызваны красивыми видами природы, такими, как красочные восходы и закаты, спокойствие океана, захватывающее дух величие снежных вершин или таинственность Северного сияния. Аналогичным образом размышление о непостижимой тайне звездного неба, нахождение возле гигантской секвойи, которой три тысячи лет, или созерцание экзотической красоты тропических островов могут пробудить чувства, тесно-связанные с БПМ-1. Похожие состояния сознания могут вызываться человеческими творениями высокой эстетической и художественной ценности, такими, как вдохновенная музыка, великие живописные полотна или архитектура древних дворцов, храмов и пирамид. Образы такого рода нередко спонтанно появляются в сеансах, управляемых первой перинатальной матрицей. В то время как позитивные переживания в нашей взрослой жизни могут вызвать в нас воспоминания хорошей матки, негативные переживания могут способствовать воспоминаниям, связанным с внутриутробными беспокойствами. Здесь, например, у нас могут возникнуть переживания желудочно-кишечного дискомфорта, вызванные пищевым отравлением или состоянием похмелья, или недомогание, связанное с вирусными инфекциями. Загрязненные воздух и вода, а также употребление различных токсичных веществ являются дополнительными факторами. Косвенным образом тот же эффект может давать вид погубленной и зараженной природы, промышленные свалки и помойки. Очень сильно напоминает ситуацию нахождения в матке опыт подводного плавания. Невинная красота коралловых рифов с тысячами разноцветных тропических рыбок может пробудить чувство океанического блаженства в матке. Тем же самым образом погружение в мутную и загрязненную воду и встречи с подводными опасностями могут воссоздать психологичес-
кую ситуацию плохой матки. Если нашу ситуацию оценить с этой перспективы, то за несколько последних десятилетий мы несомненно преуспели в том, что изменили состояние биосферы Земли в сторону плохой матки.
НОВАЯ ФАЗА НАЧИНАЕТСЯ
Каковы бы ни были переживания нахождения в матке, настает время, когда эта ситуация идет к завершению. Эмбрион должен подвергнуться феноменальному переходу из симбиотического водного организма к совершенно иной форме жизни. Даже самые благополучные роды могут показаться тяжким испытанием, поистине героическим путешествием, связанным со значительными эмоциональными и физическими напряжениями."С началом родов, во вселенной ребенка внутри матки возникают серьезные беспокойства. Первые признаки этих беспокойств едва заметны и проявляются в виде гормональных влияний. Однако вместе с сокращением шейки матки они становятся все более явными и механическими. Эмбрион начинает испытывать сильный физический дискомфорт и ситуацию критического положения. С первыми сигналами начала процесса рождения перед сознанием эмбриона предстает совершенно новый ряд переживаний, полностью отличных от того, что ему пришлось переживать до этого момента. Эти переживания связаны с БПМ-И - потерей амниотической вселенной и вовлечение в процесс рождения. Эта фаза ранней драмы жизни является предметом обсуждения следующей главы.
ВАЗОВАЯ ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МАТРИЦА II
ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ
Вскоре после того, как начался сеанс, он обнаружил, что входит в безоблачный мир удовлетворенного младенца. Он стал все воспринимать, чувствовать и ощущать по-младенчески. Это переживание было невероятно реальным и достоверным; у него даже появились слюноотделение и отрыжка, а его губы непроизвольно совершали сосательные движения. Это перемежалось со сценами из мира взрослых, больший-
ство из которых было наполнено напряжением и конфликтами. Контраст между незатейливым миром ребенка и трудностями зрелого возраста был мучительным и, как казалось, соединял его со страстным желанием вернуться в свое первоначальное младенческое бытие. Он видел сцены религиозных и политических собраний, где толпы людей искали утешения в различных организациях и идеологиях. Внезапно он понял, что же они в действительности ищут: они были движимы внутренней тоской и тем же самым желанием, которое испытывал он по отношению к первоначальному переживанию океанического блаженства, познанному им в чреве матери и у ее груди.
Казалось, что окружающая его атмосфера становится зловещей и наполненной невидимыми опасностями, и вдруг он ощутил, как вся комната начала вращаться и его затянуло в самый центр угрожающего водоворота. Здесь он вспомнил бросающее в дрожь описание похожей ситуации в рассказе Эдгара По «Низвержение в Мальстрем». В то время, когда стало казаться, что все предметы в комнате начали вращаться, ему пришел в голову еще один литературный образ - циклон, уносящий Дороти прочь от однообразной жизни в Канзасе и отправляющий ее в путешествие, полное удивительных приключений, как это описано в «Чудесной ящерице Оз» Франка Баума. У него не было сомнений на тот счет, что его переживание также походило и на вхождение в кроличью нору, описанное в «Алисе в Стране Чудес», и он с огромным трепетом ожидал, какой же мир он найдет с обратной стороны зеркала. Казалось, над ним сомкнулась вся Вселенная, и он ничего не мог сделать, чтобы остановить это апокалиптическое поглощение. Погружаясь все глубже и глубже в лабиринт своего бессознательного, он ощутил наплыв беспокойства, переходящего в панику. Все стало мрачным, гнетущим и ужасающим. Казалось, что весь мир обрушился на него всей своей тяжестью, - так ощущалось невероятное гидравлическое давление, угрожающее расколоть его череп и превратить его тело в крошечный плотный шарик. Ощущаемый дискомфорт превратился в боль, а боль переросла в агонию; муки усилились до такой степени, что каждая клетка его тела чувствовала, что ее словно вскрывают дьявольской бормашиной.
ПОГЛОЩАЮЩЕЕ ЧРЕВО
Приведенные выше описания иллюстрируют то, как взрослый человек может переживать начало процесса рождения. Здесь также показано, как память об изгнании из чрева матери и об отправлении навстречу трудностям, с которыми встречаешься в родовом канале, может слиться с ситуациями взрослой жизни и разделить с ними определенные важные качества. Биологической основой БПМ-II является прекращение пребывания в материнской утробе и столкновение с сокращениями матки. Сначала эти изменения преимущественно химические, а затем они принимают механический характер. Роды предвещаются гормональными сигналами и другими химическими изменениями в организме матери и ребенка. Вскоре за этим следует интенсивная мышечная деятельность матки.
Та же самая матка, которая во время нормальной беременности была относительно спокойной и предсказуемой, теперь совершает сильные периодические сокращения. Весь прежний мир эмбриона неожиданно рушится и сокрушает его, вызывая беспокойство и огромный физический дискомфорт. Каждое сокращение сжимает маточные артерии и препятствует прохождению потока крови между матерью и эмбрионом. Для эмбриона эта ситуация является тревожной, поскольку она означает прекращение снабжения кислородом и питанием, обеспечивающих ему жизнь, а также прерывание столь значимой связи с материнским организмом. В это время шейка матки все еще закрыта. Сокращения, закрытая шейка матки и неприятные химические изменения - все это создает невыносимую и угрожающую для жизни среду, кажущуюся безвыходной для эмбриона. Неудивительно, что с этой матрицей так тесно связаны смерть и рождение.
Время, проводимое в этой трудной ситуации, для каждого человека свое. Для некоторых это обходится минутами, а для других длится многие часы. Такое тупиковое положение до того момента, как шейка матки раскроется, является обычным делом, но в некоторых случаях процесс родов может задерживаться и на более поздних стадиях и не проходить
так, как нужно. Для этого существует множество причин: либо таз матери слишком узок, либо сокращения матки недостаточны, или же раскрытию шейки матки препятствует плацента. Бывают случаи, когда ребенок слишком большой или когда он принимает неправильное положение, затрудняющее роды. Все эти обстоятельства делают процесс рождения более длительным и трудным и, разумеется, что еще более травмирующим образом, чем обычные роды, влияют на ребенка. Все эти факторы находят прямое выражение в эмпирических сеансах, во время которых человек переживает свое рождение.
Биологические события - это не единственное, что определяет переживание нами этой матрицы. В рассказах людей, проходивших сеансы и семинары, отмечается, что мы можем также пережить страх и смущение неопытной матери или же негативное и крайне амбивалентное ее отношение к ребенку. Это способно сделать данную фазу еще более трудной для них обоих. Противоречивые эмоции матери могут нарушить физиологическое взаимодействие между сокращениями матки и раскрытием шейки матки. А это, в свою очередь, может задержать роды и внести в естественную динамику их процесса множество осложнений.
ЗАПИРАНИЕ ВО ВРАЖДЕБНОМ МИРЕ
Субъективно переживание начала родов несет в себе сильную тревогу и ощущение нависшей угрозы. Кажется, что вся наша Вселенная находится в опасности, но источник этой угрозы остается тайной, ускользающей от наших попыток постичь ее. Поскольку первоначальные изменения по своей природе являются химическими, они могут ощущаться как болезнь или интоксикация. В крайних случаях человек может ощущать паранойю или чувствовать себя во враждебном окружении. В попытках найти объяснение, он может приписать ощущения угрозы ядам, электромагнитному излучению, злым силам, тайным организациям, или даже влияниям внеземных цивилизаций. Спонтанные появления воспоминаний, включающих в себя внутриутробные беспокойства или начало выхода из матки, являются, как оказывается, важными причинами параноидальных состояний.
По мере развития и углубления переживаний угрозы у человека может возникнуть видение гигантского водоворота, ощущение нахождения в нем и безжалостного затягивания в самый его центр. Также может показаться, что земля разверзлась и поглощает невольного путешественника в темные лабиринты жуткого подземного мира. Еще одна разновидность тех же самых переживаний - это ощущение того, что тебя пожирает архетипическое чудовище, ловит ужасающий спрут или огромный тарантул. Это переживание может достигать фантастических масштабов, словно туда затягивает не только тебя одного, но весь мир. Вся атмосфера в целом напоминает апокалипсис, разрушающий спокойный внутриутробный мир и сменяющий океаническую и космическую свободу эмбриона агонией при попадании в ловушку и ощущением поглощения неизвестными внешними силами.
Человек, переживающий полное развитие БПМ-И, ощущает себя помещенным в клетку вызывающего клаустрофобию мира кошмаров. Визуальное поле становится темным и зловещим, и общая атмосфера напоминает невыносимые душевные и физические муки. В то же самое время полностью теряется связь с линейным временем, и все происходящее кажется вечным и словно не имеющим конца. Под влиянием БПМ-И человек выборочно настраивается на самые худшие и безнадежные аспекты существования; он начинает осознавать населяющее его психику мрачные, чудовищные и злые аспекты Вселенной. Вся наша планета кажется апокалиптическим местом, наполненным ужасом, страданиями, войнами, эпидемиями, катастрофами и стихийными бедствиями. В то же самое время в человеческой жизни невозможно найти никаких положительных аспектов, таких, например, как любовь и дружба, достижения в области науки и искусства или красота природы. В этом состоянии человек видит красивых детей, играющих друг с другом, и думает о том, как они состарятся и умрут, а увидев восхитительную розу, представляет себе, как через несколько дней она завянет.
БПМ-И в самом мистическом смысле соединяет людей со страданиями мира и помогает им отождествиться со все-
ми принесенными в жертву, попранными и угнетенными. В глубоких необычных состояниях, управляемых этой матрицей, мы действительно можем переживать себя тысячами молодых людей, погибших во всех войнах человеческой истории. Мы можем отождествиться со всеми заключенными, страдающими и умирающими в тюрьмах, камерах пыток, концентрационных лагерях или психиатрических больницах мира. Среди тем, чаще всего связанных с этой матрицей встречаются сцены голода, а также дискомфорта и опасности, исходящих от мороза, льда и снега. Это, как кажется, связано с тем фактом, что при сокращениях матки прерывается снабжение ребенка кровью - той кровью, которая для него означает питание и тепло. Еще один типичный аспект БПМ-lf - это атмосфера Нечеловеческого, гротескного и причудливого мира автоматов, роботов и механических устройств. Образы человеческих безобразий, уродств и бессмысленного карточного мира притонов также принадлежат характерному символизму этой матрицы.
БЛМ-1! сопровождается самыми разными физическими проявлениями. Сюда относятся напряжение всего тела и поза, выражающая ощущение того, что тебя надули и/или ввергли в бессмысленную борьбу. Человек может ощущать чрезвычайное давление на голову и тело, тяжесть в груди и разнообразные комбинации физических болей. Голова при этом наклонена вперед, челюсти сомкнуты, подбородок прижат к груди, руки чаще всего сложены на груди, а пальцы крепко сжаты в кулаки. Колени часто бывают согнуты, а ноги прижаты к животу, что завершает картину позы эмбриона. В кожных капиллярах могут появиться кровоподтеки, образующие на различных участках красные пятна.
ТАМ, ГДЕ НАЧАЛО И КОНЕЦ СТАНОВЯТСЯ ОДНИМ
Люди, которые, как правило, настраиваются на БПМ-Н, имеют тенденцию видеть человеческое существование полностью бессмысленным. Они могут чувствовать, что, поскольку все непостоянно, жизнь в самой своей основе лишена какого-либо смысла, любые старания во имя какой-то цели наивны, пусты и в конечном итоге являются обычным самообманом. С этой точки зрения любые усилия, стремления или
мечты о будущем попросту обречены на провал. В крайних случаях человеческие существа представляются не чем иным, как вызывающими жалость вечными жертвами, участвующими в донкихотских битвах против сил, больших, чем они сами, и не имеющих никакого шанса победить.
Во время рождения нас выбрасывает в мир, где нет выбора, и мы можем быть уверены только в одном - в том, что однажды умрем. Старая латинская пословица очень точно выражает это положение человека Mors certa hora incerta (Смерть неизбежна, неведом лишь час). Над нашей головой нависает призрак смерти, постоянно напоминая о бренности существования. Мы приходим в этот мир голыми, в боли и страданиях, ничего не имея и в большинстве случаев таким же образом и уходим из него. Все, что бы мы ни делали в нашей жизни или°с нашей жизнью, это не меняет основополагающего уравнивания. Это самое жестокое и обескураживающее сообщение БПМ II.
Переживания этой матрицы типично открывают глубокую связь между агонией рождения и смерти. Видение сходства между этими двумя ситуациями обычно вызывает чувство крайнего нигилизма и приводит к экзистенциальному кризису. Нередко это отражается в видениях, показывающих бессмысленность и абсурдность жизни и тщетность любых попыток что-либо изменить. Перед нами могут предстать картины жизни и смерти королей, выдающихся полководцев, пленительных кинозвезд и других людей, добившихся необычайной известности и удачи. Когда приходит смерть, эти люди ничем не отличаются от других. Это глубокое экзистенциальное откровение, которое человек осознает через данную матрицу, часто помогает ему понять глубочайший смысл такого выражения, как «Ты есмь прах и в прах обратишься» или «Так исчезает слава мира сего».
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ
И КУЛЬТУРНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ БПМ-И
Удивительно отметить глубокие параллели между способностью восприятия, впечатанной в человеческое сознание во время «безвыходной» стадии рождения, и философией писателей-экзистенциалистов, таких, как Серен Киркегор, Аль-
берт Камю и Жан-Поль Сартр. Эти философы мучительно ощутили и ярко выразили основные темы данной матрицы, так и не сумев увидеть единственно возможное решение -духовное раскрытие и преображение. Многие из людей, встретившихся в своей психике с элементами БПМ-И, ощущали глубокую связь с экзистенциальной философией, которая мастерски изображает безнадежность и абсурдность этого состояния. Сартр для одной из своих самых знаменитых пьес выбрал название «Выхода нет». Стоит упомянуть, что на жизнь Сартра важное влияние оказал вызвавший затруднения и неудачно завершившийся психоделический опыт с веществом под названием мескалин, активным алкалоидом из мексиканского кактупа пейот, используемого в таинствах индейцев. В личных записках. Сартра отмечено, что его сеанс был сосредоточен на переживаниях, которые четко связывались с БПМ-И. Обнаруживается, что на симптомы страдания людей, такие, как депрессия, потеря инициативы, ощущение бесцельности, отсутствие интереса к жизни и неспособность чему-либо радоваться, как правило, оказывает влияние этот аспект бессознательного. Даже тем из нас, кто не испытал клинических депрессий, известны подобные чувства - изоляции, отчуждения, беспомощности, безнадежности, и даже метафизического одиночества. Большинство из нас познали также чувство неполноценности и вины, когда обстоятельства нашей жизни, как казалось, подтверждали, что мы бесполезны, ничего не стоим и просто никуда не годимся. Эти чувства зачастую совершенно не стыкуются с вызвавшим их событием, и осознавание приходит только тогда, когда проходит достаточно времени, чтобы обеспечить нас мерой объективности. И все же, когда мы переживаем эти эмоции, мы бываем убеждены, что они уместны и оправданны, даже если достигают метафизических размеров описанного в Библии первородного греха. Однако мысль о возможности того, что эти чувства могут быть связаны с тем, что оставлено в нашем сознании БПМ-И, нам в голову не пришла.
Переживания БПМ-И лучше всего можно охарактеризовать следующей триадой: страх смерти, страх никогда не вернуться назад и страх сойти с ума. Мы уже обсудили это
преобладание темы смерти, куда часто включается чувство, что наша жизнь находится под серьезной угрозой. Поскольку это чувство присутствует, ум способен изобретать великое множество историй, дающих происходящему рациональное «объяснение», - надвигающийся сердечный приступ или удар, «передозировка» психоделического вещества, если таковое принималось, и многое другое. Клеточная память о рождении может проявиться в настоящем состоянии сознания с такой силой, что человек без всяких сомнений убеждается в том, что над ним нависла биологическая смерть.
Потеря ощущения линейности времени, связанная с этой матрицей, может привести к убеждению, что этот невыносимый момент будет длиться вечно. Этот вывод в плане понимания вечности содержит в себе ту же ошибку, что и ошибка, присущая традиционным религиям, где вечность понимается скорее не как переживание нахождения вне времени в смысле окончательного выхода за его пределы, а как интервал времени. В БПМ-И это чувство полной безнадежности и мысль о «невозвращении» попросту принадлежат к эмпирическим характеристикам этого состояния и исход этого переживания непредсказуем. Парадоксально то, что самым быстрым выходом из этой ситуации является полное принятие безнадежности столь неприятного положения, что в действительности означает сознательное принятие изначальных ощущений эмбриона.
Мир БПМ-И с присущим ему всепроникающим ощущением опасности, космического поглощения, абсурдного и гротескного восприятия мира и потери линейности времени настолько отличается от повседневной реальности, что, когда мы встречаемся с ним, нам кажется, что мы находимся на грани помешательства. Мы можем ощутить, что утратили контроль над психикой или же перешагнули через грань и находимся под угрозой навсегда остаться психопатом. Прозрение по поводу того, что крайняя форма этого переживания всего лишь отражает травму начальных стадий рождения, иногда может помочь нам справиться с ситуацией, а иногда нет. Облегченный вариант этого состояния - наше убеждение в том, что через переживание БПМ-П мы обрета-
ем полное и окончательное понимание абсурдности существования и того, что мы больше никогда не сможем вернуться к снисходительному самообману, который требуется для преуспевания в этом мире.
ДУХОВНЫЕ ОБРАЗЫ И ПРОЗРЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С БПМ-П
Так же как и первая перинатальная матрица, БПМ-И обладает богатыми духовными и мифологическими измерениями. Архетипические образы, выражающие качество переживаний, принадлежащих этой категории, можно найти в любых культурах мира. Мотив невыносимых духовных и физических страданий, которые никогда не прекратятся, находит свое выражение в образах ада и преисподней, присутствующих в большинстве культур. И хотя специфика этих образов в разных культурных группах может отличаться, большинство из этих образов обладает важными сходствами. Они являются негативными двойниками и полярными противоположностями различных раев, которые мы обсуждали в связи с БПМ-1. Атмосфера этой мрачной преисподней подавляюща. Природа там отсутствует, а если и имеется, то испорченная, зараженная и опасная. Это завалы и зловонные реки, дьявольские деревья с шипами и ядовитыми плодами, области, покрытые льдом, пламенеющие озера и реки крови. Человек может стать свидетелем, а иногда и участником пыток и претерпевать острую боль от ударов кинжалами, копьями и вилами демонов, кипеть в котлах или замерзать в холодных местах, ощущать, как его душат и давят. В аду есть только негативные эмоции - страх, отчаяние, безнадежность, вина, хаос и замешательство. и Мучительные архетипические образы представляют вечные страдания и проклятие. Особенно тесно соприкасались с этим измерением древние греки. Их трагедии, выстроенные вокруг тем, связанных с вечными проклятиями, с виной, переходящей из поколения в поколение, и невозможностью избежать своей судьбы, в точности отражают атмосферу БПМ-И. Персонажи греческой мифологии, символизирующие вечные муки, изображены почти что героями. Например, Сизиф, находясь в царстве теней, тщетно
пытается толкать огромный камень в гору, но, каждый раз теряя его, он вновь обретает надежду добиться успеха. Ик-сиона прикрепляют к горящему колесу, вращающемуся в преисподней целую вечность. Тантала изводят муками жажды и голода, когда он стоит в пруду с чистой водой, а над его головой свисают роскошные грозди винограда. Прометей же страдает, прикованный к скале и терзаемый орлом, который пожирает его печень.
В христианской литературе БПМ-И нашла свое отражение в «темной ночи души», предсказанной такими мистиками, как св. Иоанн Креститель, который видел в ней важную стадию своего духовного развития. Здесь особенно уместна история об изгнании Адама и Евы из рая и о происхождении первородного греха. В Книге бытия Бог особым образом связывает эту ситуацию с муками рождения, когда завещает Еве: «В болезни будешь рожать детей». Потеря божественной сферы описана в истории Падения Ангелов, которая привела к созданию полярности между небесами и адом. Христианские описания ада показывают особую связь с переживаниями БПМ-И.
В необычных состояниях у многих людей бывают прозрения по поводу того, что религиозные учения об аде резонируют с переживаниями БПМ-П, и это придает на первый взгляд неправдоподобным теологическим понятиям оттенок правдоподобности. Этой связью с ранними бессознательными воспоминаниями можно объяснить почему образы ада и преисподней воздействуют на детей так же сильно, как и на взрослых. Описание Библией мученических пыток Иова и страдания, отчаяние и унижения распятого на кресте Христа тесно связаны с БПМ-П.
В буддийской духовной литературе символизм БПМ-М обнаруживается в рассказе о «Четырех знаках непостоянства» из жизнеописания Будды. Это относится к четырем событиям, оказавшим влияние на Будду Гаутаму и предопределившим его решение оставить семью и свою жизнь в королевском дворце и отправиться на поиски просветления. Во время путешествия за пределами города перед ним предстали четыре сцены, которые произвели на него неизгладимое впечатление. Вначале он увидел беззубого дряхлого человека,
у которого были седые волосы и сгорбленное тело, - так выглядела встреча Будды Гаутамы со старостью. Далее он столкнулся с лежащим в придорожной канаве человеком, тело которого было истерзано болью, и это представляло его встречу с болезнью. Третьей была встреча с человеческим трупом, давшая ему полное осознание существования смерти и непостоянства. И последним событием была его встреча с бритоголовым монахом, облаченным в коричневато-желтую робу и излучавшим нечто такое, что, казалось, превосходило все страдания, унаследованные плотью. Это явило собой мгновенное осознание непостоянства жизни, факта смерти и существования страдания, давшее Будде Гаутаме импульс к отречению от мира и к отправлению в духовное путешествие.
В эмпирической работе с БПМ-И люди часто сталкиваются с кризисом, сходным с тем, что пережил Будда после «Четырех знаков непостоянства». Во время таких эпизодов бессознательное снабжает человека образами старости, болезни, смерти и непостоянства, окончательно предопределяющими экзистенциальный кризис. Он видит пустоту бездуховной жизни, ограниченной искусственными удовольствиями и мирскими целями. Это откровение является важным шагом к духовному раскрытию, которое начинается с раскрытием шейки матки, когда безвыходная ситуация БПМ-И меняется.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ БПМ-П
Люди часто относят «ЛЗ» Данте к драматическому описанию БПМ-М. Всю «Божественную комедию» в целом они рассматривают как рассказ о преображающем путешествии и духовном раскрытии. К другим произведениям, передающим ощущения этой сферы, относятся романы и рассказы Франца Кафки, отражающие глубокую вину и мучения, работы Федора Достоевского, наполненные описаниями душевных страданий, безумия и бесчувственной жестокости, а также те места в очерках Эмиля Золя, где описываются самые мрачные и отталкивающие аспекты человеческой природы. Элементы второй перинатальной матрицы присутствуют в рассказах Эдгара По, например в «Колодце и маятнике».
Проклятие «Летучего голландца» и Вечного жида Агасфера, обреченных всю жизнь скитаться по миру, также является удачным примером из области литературы.
Живопись, отражающая атмосферу БПМ-И, включает в себя образы ада в христианском, мусульманском и буддийском искусстве, а также изображение Христа в терновом венце, восхождение на Голгофу и распятие. К этой категории определенно принадлежат кошмарные создания причудливого мира Иеронима Босха, образы ужасов войны Франсис-ко Гойи и многие другие образы, созданные сюрреалистами. Особенно впечатляющи полотна Гансруди Гигера, швейцарского художника, поистине являющегося гением в перинатальной сфере. Его образы чередуются между БПМ-И и БПМ-Ш (обсуждаемой в следующей главе), представляя символизм этих перинатальных матриц в поразительно явной и узнаваемой форме. Гигер был также награжден Золотым Оскаром за свои образы персонажей к фильму «Чужой», вызывающие ужас и содержащие в себе яркие перинатальные черты. Для фильма «Чужие», являющегося продолжением первого фильма, он создал фантастический ар-хетипический образ Пожирающей Матери - ужасной паукообразной самки неземного происхождения со своим дьявольским инкубатором. Многие из перинатальных тем можно также обнаружить в фильмах Федерико Феллини, Ингма-ра Бергмана, Джорджа Лукаса, Стивена Спилберга и многих других режиссеров.
БПМII И РОЛЬ ЖЕРТВЫ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Как и БПМ-1, эта матрица воссоединяет с воспоминаниями более поздних периодов жизни, обладающими качествами, похожими на описанные здесь переживания. Записанные в памяти события, которые тесно связаны с БПМ-П, -это различные неприятные ситуации, где мы ощущаем себя в опасности и лишенными надежды, где на нас наваливается чудовищная разрушительная сила и подчеркивается наша роль беспомощных жертв. Особенно значимы воспоминания тех случаев, в которых физическое здоровье и выживание находилось под угрозой, будь то хирургическое вмешательство, физическое посягательство, автомобильная
катастрофа, или увечье, полученное на войне. По причине их сходства с определенными аспектами родовой травмы эти воспоминания имеют тенденцию записываться в память таким образом, что стыкуются с БПМ-11.
Когда мы переживаем подобные травмирующие события, то событие, происходящее в настоящем, относит нас назад к соответствующему перинатальному материалу, активизируя тем самым нашу старую душевную и физическую боль.Теперь мы реагируем не только на настоящую ситуацию, но и на раннюю, коренную травму нашей жизни. Этим можно объяснить глубину психологического поражения, а также длительные негативные воздействия, такие, как последующие войны, стихийные бедствия, нахождение в концлагерях или захват террористами. Эти ситуации являются не только травмирующими сами по себе, что и без того достаточно серьезно, но и лишают жертв защиты, которая обычно ограждает их от болезненных элементов бессознательного материала, затаившегося в их психике. Для того чтобы эффективно работать с этими состояниями, необходимо создать поддерживающую окружающую среду и использовать методы, позволяющие людям переживать и прорабатывать не только относительно недавние травмы, полученные в зрелом возрасте, но и лежащие в основе первичные воспоминания о принесении в жертву, связанные с БПМ-П.
На более тонком уровне вторая перинатальная матрица может также включать в себя воспоминания о тяжелых психологических травмах, в частности о разлуке, отвержении, лишениях, событиях, подрывающих душевное равновесие, а также о ситуациях, где человека ограничивают и подавляют сначала в его родной семье, а потом и в жизни вообще. Таким образом, нахождение в роли жертвы в своей семье, в классе, в интимных отношениях, на рабочем месте и в обществе усиливает и закрепляет память о безвыходной стадии рождения и делает ее более психологически уместной и доступной для сознательного переживания БПМ-11 связана также с различными неприятными ощущениями и напряжениями в тех частях тела, которые Фрейд называл эрогенными зонами, или зонами удовольствия. На оральном уровне эти ощущения
могут выражаться в виде жажды и/или голода, в анальной области в виде неприятных ощущений в прямой кишке и заднем проходе, связанных с запором, колитом или геморроем, в мочеполовом тракте в виде сексуальных расстройств или боли, вызванной инфекцией или хирургическим вмешательством, а также проблемами с мочеиспусканием.
ПРОХОЖДЕНИЕ ИЗ АДА В ЧИСТИЛИЩЕ
Каждое маточное сокращение на этой стадии родов проталкивает головку ребенка в шейку матки, все больше расширяя ее. Когда шейка матки окончательно раскрывается и головка ребенка опускается в область таза, то происходит великая перемена не только в биологическом, но и в психологическом переживании "рождения. Безвыходная ситуация БПМ-И сменяется медленным прохождением по родовому каналу, характеризуемым БПМ-Ш. В следующей главе мы будем исследовать богатый и красочный мир БПМ-Ш и его значение для нашей жизни как в индивидуальном, так и в коллективном смысле.
БАЗОВАЯ ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МАТРИЦА III
БОРЬБА СМЕРТИ И ВОЗРОЖДЕНИЯ
И хотя он в действительности никогда четко не видел родового канала, он ощущал его сокрушительное давление на голову и все тело и каждой своей клеткой знал, что вовлечен в процесс рождения. Напряжение достигало таких масштабов, что он даже не мог представить, что человек способен это выдержать. Он ощущал безжалостное давление на лоб, виски и затылок, словно оказался в стальных тисках. Напряжение в его теле вызывало ассоциацию с грубой механической обработкой; ему казалось, что его пропускают через чудовищную мясорубку или через гигантский пресс с зубцами и цилиндрами. В его уме промелькнул созданный Чарли Чаплиным в фильме «Новые времена» образ человека, ставшего жертвой мира технологии. Казалось, что через его тело проходят невероятные энергии, которые конденсируются и высвобождаются в виде мощных разрядов.
Он испытывал удивительное смятение чувств. Он задыхался, испытывал страх и делался то беспомощным, то свирепым и странным образом сексуально возбужденным. Еще одним важным аспектом его переживания было чувство полного замешательства. Ощущая себя младенцем, вовлеченным в жестокую борьбу за выживание, и осознавая, что сейчас должно произойти его появление на свет, он переживал себя также своей разрешающейся от бремени матерью. Интеллектуально он знал, что, будучи мужчиной, он никогда не сможет родить ребенка, однако чувствовал, что каким-то образом пересек этот барьер и Невозможное стало реальностью. Несомненно, он соприкоснулся с чем-то изначальным - с древним женским архетипом рожающей матери. Образу его тела были присущи большой живот беременной, а также женские гениталии со всеми нюансами биологических ощущений. Он чувствовал себя побежденным из-за неспособности отдаться этому стихийному процессу - дать рождение и родиться самому, явить на свет ребенка и самому явиться на свет.
Из недр его психики появился огромный резервуар чудовищной агрессии. Казалось, что космическим хирургом был внезапно вскрыт абсцесс зла. Им овладел человековолк, или берсерк; доктор Джекил превращался в мистера Хайда. Подобно тому как ранее он не мог видеть различие между рождающимся ребенком и рожающей матерью, теперь он видел множество образов, в которых убийца и жертва были представлены в одном лице. Он чувствовал себя беспощадным тираном, диктатором, подвергающим своих подчиненных немыслимым жестокостям, но в то же время он был революционером, ведущим яростную толпу к свержению тирана. Он был хладнокровно совершающим убийства бандитом и полицейским, убивающим преступника именем закона. Однажды он переживал ужасы фашистских концлагерей. Открыв глаза, он увидел себя офицером СС. У него возникло глубокое ощущение того, что он - нацист и он - еврей были одним и тем же человеком. Он мог ощутить в себе и Гитлера и Сталина и в то же время чувствовать полную ответственность за все злодеяния человеческой истории. Он видел, что проблема человечества заключается не в жестоких диктаторах, а в Скрытом
Убийце, которого каждый из нас, если только заглянет в себя поглубже, обнаружит в своей душе.
Затем это переживание качественно изменилось и достигло мифологических масштабов; вместо зла человеческой истории он ощутил атмосферу колдовства и присутствие демонических элементов. Его зубы превратились в длинные клыки, наполненные каким-то таинственным ядом, и он почувствовал себя зловещим вампиром, летающим на больших, как у летучей мыши, крыльях по ночному небу. Вскоре это переживание обернулось дикими, возбуждающими сценами ведьмовских шабашей. В этом вызывающем сомнительные чувства ритуале все запрещенные и подавленные импульсы, казалось, всплыли наружу и начали действовать. В то время как демоническое качество постепенно исчезало из его переживания, он продолжал чувствовать огромное сексуальное возбуждение и был вовлечен в бесконечные немыслимые оргии и сексуальные фантазии, в которых играл сразу все роли. На протяжении всех этих переживаний он продолжал одновременно быть ребенком, проталкивающимся через родовой канал, и рожающей матерью. Ему стало вполне ясно, что секс и рождение глубоко связаны друг с другом, а также что в ситуации в родовом канале присутствует важная связь с сатанинскими силами.
Он боролся и сражался во многих разных ролях со множеством различных врагов. Порой он задавал себе вопрос, придет ли этим лишениям конец. Затем в его переживания вошел новый элемент. Все его тело покрылось какой-то биологической грязью, липкой и скользкой. Он не мог сказать, были ли это околоплодные воды, слизь, кровь или вагинальные выделения. Казалось, что та же гадость набралась ему в рот и даже в легкие. Он задыхался, давился, строил гримасы и плевался, пытаясь удалить это из организма и с кожи. В то же самое время он получил сообщение, что ему не нужно бороться: процесс обладает своим собственным ритмом, и все что ему нужно сделать, так это подчиниться. Он вспомнил множество ситуаций из своей жизни, где он ощущал необходимость бороться и сражаться, а оглянувшись на прошлое, оказывалось, что в этом вовсе не было необходимости. Это выглядело так, словно он каким-то образом был запрограм-
мирован рождением видеть жизнь более сложной, чем она есть на самом деле. Казалось, это переживание поможет раскрыть ему глаза, что сделает его жизнь более легкой и беззаботной, чем прежде.
ОПАСНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ
Как видно из описанного выше примера переживаний, связанных с БПМ-llt, эта матрица является чрезвычайно динамичной и богатой как положительными, так и отрицательными образами. На биологическом уровне она имеет некоторые общие черты с БПМ-Н, в частности продолжение сокращений матки и общее ощущение ограничения и сжатия. Как и в предыдущей стадии, каждое сокращение препятствует снабжению эмбриона кислородом. Дополнительным источником ощущения удушья может быть пуповина, перекрученная вокруг шеи или зажатая между головкой ребенка и стенкой таза.
В то время как между данной и предыдущей матрицами наблюдаются определенные сходства, обязательно следует упомянуть и о присутствующих здесь значительных различиях. В предыдущей матрице шейка матки закрыта, а теперь она открыта и позволяет эмбриону продвигаться по родовому каналу. И хотя борьба за выживание продолжается, теперь появилось чувство надежды и вера в то, что этой борьбе придет конец.
На этой стадии головка младенца втискивается в отверстие таза, которое настолько узко, что даже при нормальных обстоятельствах продвижение проходит медленно и затруднительно. Мускулатура матки очень сильна: сила ее сокращений колеблется от 50 до 100 фунтов. Это создает атмосферу конфликтующих и дисгармоничных энергий и сильное гидравлическое давление. Организм матери и организм ребенка все еще тесно связаны друг с другом на многих уровнях; возможно, по этой причине между ними происходит сильное отождествление, как это отражено в приведенном выше рассказе. В записи этой матрицы в памяти ощущение границы между нами самими и матерью у нас отсутствует. Здесь нет ни физического, ни психологического разделения. Мать и ребенок все еще являются одним сознанием. Таким образом, можно испы-
тать все чувства и ощущения ребенка и при этом полностью отождествиться с рожающей матерью, а также соединиться с архетипом рожающей женщины.
ПЕРЕЖИВАНИЕ РОЖДЕНИЯ И СЕКСУАЛЬНОСТЬ
Помимо переживаний сильной физической боли, тревожности, агрессивности, странного чувства возбуждения и движущей энергии, эта матрица характеризуется сексуальным возбуждением, что, несомненно, является самым неожиданным аспектом всего процесса рождения. Понятно, что это заслуживает объяснения, ибо содержит в себе важные доводы для понимания тех моментов, которые представляют собой весьма странные формы сексуального поведения людей. Нетрудно заметить, что поскольку в процессе родов сильно задействованы области гениталий, то в переживания матери могут включаться сексуальные моменты. Более того, накопление и высвобождение напряжения в данном процессе следует естественному циклу, очень сходному с сексуальным оргазмом. Многие из женщин, роды которых проходили идеально, часто описывают это как самое сильное сексуальное переживание в своей жизни. Но намного труднее понять или даже поверить в то, что роды вызывают сексуальные чувства у самого ребенка. Однажды Зигмунд Фрейд потряс мир своим заявлением об открытии того факта, что сексуальность начинается не в возрасте половой зрелости, а в младенчестве. Но здесь нас просят развить воображение еще больше и принять тот факт, в нас присутствуют сексуальные чувства еще до того, как нам родиться! Наблюдения людей, переживающих в необычных состояниях сознания БПМ-III, обеспечивают нас четкими данными, подтверждающими, что это действительно так. Эти свидетельства наводят на мысль о том, что в человеческом теле затаен механизм, переводящий чрезвычайное страдание (особенно если оно связано с удушьем) в возбуждение, напоминающее по форме сексуальное. Об этом механизме рассказывали пациенты, имеющие садо-мазохистские наклонности, а также бывшие военнопленные, подвергавшиеся пыткам, и люди, которые пытались повеситься, но остались в живых. Во всех этих ситуациях агонию можно близко соотнести с экстазом,
ведущим к трансцендентным переживаниям, как в случае флагеллантов и религиозных мучеников.
Но что все это означает в терминах повседневной реальности? Для начала важно понимать, что наше первое переживание сексуальности случилось в опасном, угрожающем жизни контексте. Наряду с этим, там присутствовали также переживание страдания и постоянной боли и чувство тревоги и слепой агрессивности. Вдобавок к этому, во время прохождения через родовой канал ребенок соприкасается с различными биологическими продуктами, включая слизь, кровь, а возможно, с мочой и калом. Эта связь в сочетании с другими элементами образует естественную основу для развития различных сексуальных расстройств и отклонений в дальнейшей жизни. Усиленные травмирующими переживаниями младенчества и детства, переживания БПМ-Ш могут стать почвой для развития сексуальных нарушений, а также для насилия, садомазохизма, ассоциаций сексуальности с мочой и калом и даже криминальной сексуальности.
ТИТАНИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ МАТРИЦЫ
Как, и другие матрицы, БПМ-Ш имеет свой символизм, включающий мирские, мифологические и духовные темы. Они подразделяются на пять различных категорий: агрессивные, садомазохистские, сексуальные, демонические и скатологи-ческие. Однако всем им присущ один и тот же мотив: столкновение со смертью и борьба за рождение. Наиболее часто наряду с архетипическим символизмом, описанным в начале главы, переживания третьей матрицы представляют собой смесь связанных с рождением ощущений и эмоций.
Возможно, наиболее поразительным аспектом этой матрицы является атмосфера титанической борьбы, нередко достигающей размеров катастрофы. В ней четко отражаются колоссальные конфликтующие энергии, вовлеченные в процесс рождения, которые мы пытаемся разрядить. Эти переживания могут достичь невероятной силы, казалось бы превышающей все то, что в состоянии вынести человек. Человек способен пережить такие последовательности событий, где энергия, чрезвычайно сконцентрированная и сосредоточенная, протекает сквозь тело подобно электрическому току. Эта
энергия может создавать пробку или короткое замыкание, распространяя огромное напряжение во все части тела, которое затем может взрывным образом разрядиться. Для многих людей это ассоциируется с образами современной технологии и разрушениями, производимыми человеком, - гигантскими электростанциями, кабелями высокого напряжения, ядерными взрывами, запуском ракет, артиллерийским обстрелом, воздушными налетами, и другими сценами войны. Другие эмпирически переживают разрушительные стихийные бедствия, такие, как взрывы вулканов, ужасные землетрясения, неистовые ураганы и смерчи, захватывающие электрические бури, кометы и метеоры, а также космические катаклизмы. Здесь мы можем вспомнить о таких катастрофах, как последний день Помпеи или извержение вулкана Кракатау. Несколько реже в этих образах отражается разрушительная сила воды; сюда включаются сцены зловещих океанских штормов, огромных волн, вызванных приливом, наводнений, или разрушений дамб с последующим затоплением целых городов. Некоторые люди описывали мифологические образы, такие, например, как гибель Атлантиды, конец Содома и Гоморры или даже Армагеддон.
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ КОРНИ НАСИЛИЯ
Агрессивные и садомазохистские аспекты третьей перинатальной матрицы, являются, как это представляется, неизбежными следствиями, вытекающими из ситуации, с которой ребенок встречается в родовом канале. Направленная наружу агрессия отражает биологическую ярость организма, выживанию которого грозит удушение. Она необъяснима с точки зрения психологии и уж конечно не имеет никакого этического смысла. Это сравнимо с тем состоянием сознания, которое бы проявилось у любого из нас, если бы нас погрузили в воду, лишив тем самым дыхания. Когда данный аспект матрицы активизируется в необычных состояниях сознания, он находит свое выражение в многочисленных сценах войн, революций, избиений, бойни, пыток и различного рода злоупотреблений, в которых мы играем активную роль.
Существует также связанная с этой матрицей форма агрессии, направленной внутрь, которая обладает качеством
саморазрушения. Эта выраженная в саморазрушительных фантазиях и импульсах агрессия, по всей видимости, является интернализацией сил, изначально угрожавших нам снаружи - сокращение матки и сопротивление в родовом канале. Память о таких переживаниях живет в нас в виде ощущения эмоционального и физического ограничения и неспособности полностью радоваться жизни. Иногда она обретает форму жестокого, внутреннего судьи, требующего наказания, - той безжалостной части суперэго, которая может двигать человека к крайностям саморазрушения.
Здесь я хотел бы отметить некоторые важные различия между переживаниями, связанными со второй и третьей матрицами. В то время как в БПМ-И мы являемся исключительно жертвами, в БПМ-111 мы можем поочередно отождествляться то с жертвой, то с преступником. Вдобавок к этому, иногда мы можем быть зрителями, наблюдающими эти сцены снаружи, как это описывается в приведенном выше рассказе человека, одновременно переживавшего себя и евреем-жертвой и нацистским палачом. Люди, соприкоснувшиеся с этим аспектом процесса рождения, часто рассказывали о своих отождествлениях с жестокими милитаристскими лидерами и тиранами, такими, как Чингисхан, Гитлер, Сталин, и даже с более современными массовыми убийцами.
Садомазохистские ассоциации этой матрицы отражают связь между вызванной и причиненной болью, страданиями и сексуальным возбуждением, которые обсуждались выше. Этим объясняется характерное для садомазохизма переплетение сексуальных чувств и боли. Садизм и мазохизм никогда не существуют как явления, полностью отдельные друг от друга; напротив, они переплетены в человеческой психике и представляют собой две стороны одной медали. Как можно догадаться, в образы, связанные с садомазохистскими переживаниями, включаются сцены изнасилования, сексуальных убийств и садомазохистских практик, состоящих как в жестоком обращении с другими, так и в подвержении жестокому обращению самого себя.
АГОНИЯ И ЭКСТАЗ РОЖДЕНИЯ
По мере того как сила переживаний, связанных с этой матрицей, увеличивается, эмоции и ощущения, бывшие изначально полярными противоположностями (например, боль и удовольствие), начинают сливаться. В конечном итоге они могут слиться в единое недифференцируемое состояние сознания, содержащее всевозможные измерения человеческих переживаний. Мучительные страдания и изысканные удовольствия становятся одним и тем же; обжигающий жар ощущается как леденящий холод; жестокая агрессия и страстная любовь сливаются воедино; агония смерти становится экстазом рождения. Когда страдание достигает своего апогея, ситуация странным образом прекращает нести в себе качество страдания и агонии. Вместо этого сама сила данного переживания преобразуется в дикий экстатический восторг, который можно описать как «дионисиев», или «вулканический» экстаз.
Вулканический экстаз или восторг может принять даже трансцендентные масштабы. В отличие от океанического блаженства, связанного с БПМ-1, этот вулканический тип включает в себя огромное взрывное напряжение, обладающее как агрессивными, так и саморазрушительными элементами. Эта форма экстаза может переживаться при родах, катастрофах или в ритуалах, использующих мучительные процедуры, такие, скажем, как практика флагеллантов или танец Солнца у американских индейцев, в котором человек добровольно подвергается сильной физической боли в течение продолжительного времени. Определенный уровень вулканического экстаза может достигаться в церемониях аборигенов, куда включаются танцы и громкая возбуждающая музыка, или в их современных копиях - определенных рок-концертах.
Сексуальные аспекты БПМ-111 обычно переживаются как обобщенный эротизм, ощущаемый не только в области гениталий, но и во всем теле. Многие люди утверждают, что этот экстаз похож на начальную фазу сексуального оргазма, хотя превышает его в тысячу раз. Однако в данном случае эти ощущения могут продолжаться в течение длительного периода, сопровождаясь неистовыми эротическими
образами. Отраженная здесь сексуальность характеризуется огромной силой инстинктивного побуждения и не имеет определенной цели или стремления. Разумеется, это не тот эротизм, который мы переживаем в романтических отношениях с глубоким взаимным уважением, пониманием и чувством любви, доходящими в сексуальном союзе до кульминации. Здесь делается акцент на эгоистическом удовлетворении примитивных сексуальных побуждений, часто содержащих в своей природе отклонения от нормы, без какого-либо малейшего уважения к партнеру.
Образы и переживания БПМ-111 часто обладают порнографическими чертами или связывают секс с опасностью и безнравственностью. В этот период люди могут отождествиться с владельцами гаремов, сутенерами и проститутками или с любым из множества исторических и легендарных сексуальных персонажей, как, например, Казакова, Распутин, Дон-Жуан или Мария-Тереза. Они могут обнаружить, что являются очевидцами или участниками сцен, происходящих в Сохо, Пигаль, и в других знаменитых районах с «красным светом». Поскольку эта матрица содержит также динамический духовный аспект, то мы можем столкнуться здесь с противоречивыми на первый взгляд переживаниями, связывающими секс с запредельностью. Здесь мы можем обнаружить ритуалы плодородия, фаллические культы и храмовую проституцию.
То, что, по всей видимости, является самым странным в смысле переживаний БПМ-111, так это эмоциональная близость смерти и сексуальности. Казалось бы, угроза смерти стирает любые возбуждающие чувства, однако тот момент, где эта матрица имеет отношение к противоположному, видится истинным. Наблюдения из клинической психиатрии, переживания людей, которых истязали в концлагерях и тюрьмах, и документы Международной амнистии подтверждают тот факт, что между сексуальным экстазом, рождением ребенка и чрезвычайной угрозой неприкосновенности тела и выживанию существует тесная взаимосвязь. В процессе смерти-возрождения мотивы, относящиеся ко всем этим трем областям, чередуются или даже сосуществуют в различных сочетаниях.
СТОЛКНОВЕНИЯ С ГРОТЕСКНЫМ, САТАНИНСКИМ И СКАТОЛОГИЧЕСКИМ
Иногда аспекты БПМ-111 переживаются в карнавальной атмосфере, наполненной яркими красками, экзотическими костюмами и возбуждающей музыкой. Характерное сочетание мотивов смерти, макабра и гротеска с радостным и праздничным является весьма точным символическим выражением состояния сознания, непосредственно предшествующего возрождению. На этой стадии сексуальные и агрессивные энергии, бывшие подавленными в течение долгого времени, высвобождаются и память о явной угрозе ослабляет свою власть над телом и психикой. Популярность Марди Грае и других подобных событий вызвана тем фактом, что, кроме предоставления развлечений и контекста для высвобождения запертого напряжения, они позволяют нам в глубине нашей психики соединиться с архетипом возрождения.
Переживания, происходящие на заключительной стадии процесса смерти-возрождения, дают также интересные проникновения в суть определенных форм колдовства и сатанинских практик. Борьба в родовом канале может ассоциироваться с видениями, напоминающими ритуалы Черной мессы и ведьмовские шабаши. Вторжение сатанинских элементов в это особое время связано, по всей видимости, с тем фактом, что БПМ-111 разделяет с этими ритуалами странное сочетание эмоций и физических ощущений. Наряду с сексуальным возбуждением, борьба в родовом канале включает в себя нестерпимую боль, а также встречу с кровью и физиологическими выделениями. Это может близко подвести ребенка к смерти, однако содержать обещание освобождения и перехода к другому существованию. Все эти элементы тесно переплетены с образом служения Князю Тьмы. Связь между такими практиками и перинатальным уровнем бессознательного должна быть принята во внимание в любом серьезном исследовании извращений сатанинского культа - явления, казалось бы, привлекающего внимание как профессионалов, так и обычной публики. Еще одно важное переживание той же категории - это обольщение злыми силами,
мотив, который можно найти в духовной литературе многих религий мира.
По причине того, что на завершающих стадиях родов новорожденный тесно соприкасается с выделениями тела, а иногда даже с мочой и калом, скатологические впечатления являются неотъемлемой частью БПМ-Ш. В процессе смерти-возрождения скатологические столкновения могут быть во многом преувеличены и включать все продукты, которые может предложить биология. Поскольку при рождении мог иметь место хотя бы минимальный контакт с этими материалами, человек, переживающий этот аспект, может увидеть себя ползающим по канализационным системам и валяющимся в грязи, пьющим кровь или получающим удовольствие от сцен гниения и разложения.
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ ТЕМЫ
Особенно богаты и разнообразны мифологические и духовные аспекты этой матрицы. Титанический аспект может быть выражен в архетипических образах противоборства сил добра и зла или в разрушении и сотворении мира. Еще одной формой борьбы за обретение равновесия между добром и злом является архетипический Страшный Суд. Агрессивные сцены часто связываются с образами разрушительных божеств, таких, как Кали, Шива, Сатана, Коатлнкуэ или Марс. Особенно характерно сильное отождествление с мифологическими персонажами, представляющими смерть и перерождение, которые можно найти в каждой крупной культуре: Осирис, Дионис, Персефона, Вотан, Бальдер и многие другие. В нашей культуре вариацией на эту тему является история смерти и воскрешения Иисуса Христа. Часто у людей, встречающихся с БПМ-Ш, бывают видения распятия или же они сами полностью отождествляются с распятым Христом. Также эта стадия изобилует сценами жертвоприношения и самопожертвования, сопровождающимися соответствующими божествами, в частности ацтекскими и майянс-кими.
Наряду с видениями сцен вакханалий здесь могут присутствовать образы мужских и женских божеств, связанные с сексуальностью и деторождением. Я уже упомянул о
мотивах, сочетающих в себе духовность и сексуальность, таких, как ритуалы плодородия, фаллические культы, храмовая проституция, ритуальное изнасилование и ритуалы аборигенов, в которых подчеркиваются чувственные и сексуальные аспекты. Скатологические мотивы выражены в мифологии такими образами, как царь Авгий или Тласольтеотль, По-жирательница Грязи, - ацтекская богиня деторождения и плотской похоти.
Переход от БПМ-Ш к БПМ-IV часто ассоциируется с видениями уничтожающего пламени. Это пламя разрушает все, что в нашей жизни является растленным и загнивающим, подготавливая нас к обновлению и возрождению. Интересно, что на соответствующей стадии родов многие матери ощущают, что их гениталии охвачены огнем. Переживая это состояние в пассивной роли, люди могут почувствовать, как их тела горят или что они проходят через огонь очищения. Это особенно удачно выражено в мифе о Фениксе, сказочной птице из египетской легенды, которая, достигнув пятисотлетнего возраста, сжигает себя на погребальном костре. Затем из его пепла восстает другой Феникс. Очищающий огонь также характерен для религиозных образов чистилища.
БПМ-Ш И ИСКУССТВО
Возможно, что начиная с зари человеческой истории переживания БПМ-Ш являлись неиссякаемым источником вдохновения для художников многих жанров. Эти примеры столь многоплановы, что здесь можно предложить лишь скудный выбор. Атмосфера сильных эмоций, граничащих с помешательством, мастерски изображена в романах Федора Достоевского, а также во многих пьесах Уильяма Шекспира, в частности в «Гамлете», «Макбете» и «Короле Лире». Дионисиев элемент и жажда власти отражены в философских трудах Фридриха Ницше. Рисунки дьявольских военных машин, выполненные Леонардо да Винчи, кошмарные видения Фран-сиско Гойи, связанное со смертью искусство Гансруди Гигера и целые школы сюрреалистической живописи являются великолепными визуальными представлениями БПМ-Ш. Аналогичным образом оперы Рихарда Вагнера наполнены мощными секвенциями, выражающими атмосферу этой матри-
цы. Среди них - оргиастические сцены на горе Венеры из оперы «Тангейзер», магические огненные секвенции из «Валькирий», и в особенности принесение в жертву Зигфрида и сожжение Вальгаллы в заключительной сцене «Гибели богов». Сочетание высокой драмы, секса и насилия, характерное для этой матрицы, является формулой успеха для многих современных кинорежиссеров.
СВЯЗЬ С ПОСТНАТАЛЬНЫМИ ПЕРЕЖИВАНИЯМИ
Как и другие перинатальные матрицы, БПМ-Ш имеет особую связь с постнатальной жизнью. Для людей, бывших свидетелями или участниками войны, воспоминания о реальных ужасах смешиваются с титаническими, агрессивными и ска-тологическими аспектами этой матрицы. И наоборот, переживание войны в реальной жизни может активизировать в бессознательном соответствующие перинатальные элементы, которые позднее могу" привести к серьезным эмоциональным проблемам, что свойственно для солдат, видевших много сражений. Особая форма возбуждения, смешанная со страхом и опасностью, связывает БПМ-Ш с захватывающими, но опасными ситуациями, такими, как прыжки с парашютом, автомобильные гонки, катание с «американских горок», экзотические приключения на охоте, бокс и борьба. Эротические аспекты БПМ-Ш связаны с СКО, включающими в себя сильные сексуальные переживания в особых обстоятельствах, например, изнасилование, прелюбодеяние и другие сексуальные приключения, связанные с высоким риском, а также посещение «красных кварталов». Скатоло-гическая грань связывается с принудительным приучением к туалету, детским недержанием мочи и кала, посещением помоек, свалок и других нечистот, а также наблюдение сцен разложения или выпадения из тела внутренностей во время войны и при автомобильных катастрофах.
Переживания БПМ-Ш сопровождаются также особыми проявлениями фрейдовских эрогенных зон. Они связаны с широким диапазоном действий, приносящих внезапное облегчение, удовольствие и расслабление после длительного напряжения и стресса. На оральном уровне в эти действия включаются откусывание, разжевывание и глотание пищи,
а также очищение через рвоту. В анальной области в них включаются естественные процессы дефекации и испускания газов; в уретральной области - мочеиспускание после длительной задержки. И наконец, явления, соответствующие гениталиям, - это сексуальный оргазм, а также ощущения, встречающиеся у женщин на второй клинической стадии родов.
Третья матрица представляет огромный резервуар проблематичных эмоций и неприятных ощущений, которые могут в сочетании с более поздними событиями младенчества и детства способствовать развитию разнообразных нарушений. Среди них - определенные формы депрессии и состояний, включающих в себя агрессивность и неистовое, саморазрушающее поведение. 8 этой матрице содержатся также корни сексуальных расстройств и отклонений, неврозы навязчивых состояний, фобии и истерические проявления. Что касается того, какие из множества возможных форм эмоциональных расстройств проявятся на самом деле, также определяется природой дальнейших биографических переживаний, которые могут выборочно усилить агрессивные, саморазрушительные, сексуальные или скатологи-ческие аспекты БПМ-Ш.
БОРЬБА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Как только агонизирующая борьба за выход из родового канала начинает приближаться к завершению, напряжение и страдание достигают своего апогея. За этим следует подобное взрыву высвобождение - младенец наконец вырывается из тазового отверстия на свободу и делает свой первый вдох. Обычно этот момент содержит в себе обещание огромного облегчения, но та степень, с которой это на самом деле происходит, зависит от особых, связанных с рождением обстоятельств, таких, как возможность удачного контакта с матерью, связь через зрительный контакт, и других факторов. Аспекты, переживаемые при этом переходе, являются центральной темой следующей главы.
БАЗОВАЯ ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МАТРИЦА-IV
ПЕРЕЖИВАНИЕ СМЕРТИ И ВОЗРОЖДЕНИЯ
Душа видит и вкушает изобилие, бесценные богатства, находит себе тот отдых и покой, какой только пожелает, и понимает любые непостижимые тайны Бога... Она чувствует подобную Божьей величественную власть и силу, превосходящую любую другую власть и силу; она вкушает чудесные сладости и духовные наслаждения, находит истинный покой и Божественный свет, и имеет высокие переживания знания Бога...
Св. Хуан де па Круз, «.Духовная песнь»
Он начал переживать сильное замешательство. По нему проходили волны жара, и он вспотел. Он начал ощущать дрожь и тошноту. Почти внезапно он оказывался на вершине «американских горок», затем, постепенно срываясь в пропасть, терял контроль и устремлялся вниз. Ему пришла s голову аналогия этой ситуации с заглатыванием бочки с динамитом с уже зажженным запалом. Бочка вот-вот должна взорваться, а он ничего не может с ней сделать. Это ему совершенно неподвластно.
Последнее, что он мог вспомнить, когда скользил по «американским горкам», это грохот музыки, звучавшей с такой силой, словно на него надели тысячу наушников. Его голова была огромной, и он ощущал, что имеет тысячу ушей, где в каждом слышалась разная музыка. Это было величайшим замешательством, которое ему доводилось когда-либо испытывать. Он умирал прямо здесь, и ничего не мог с этим поделать. Единственное, что ему оставалось, - идти навстречу этому. В него проникали слова «доверие» и «повиновение», и вдруг, подобно вспышке, он ощутил, что больше не лежит на кушетке и не имеет своей обычной личности. В один момент перед ним пронеслись несколько сцен.
В первой сцене он погружался в болото, заполненное отвратительными существами. Эти существа приближались к нему, но не могли до него добраться. Лучше всего он мог
описать катание на «американских горках» и полную потерю контроля, сравнивая это с ходьбой по чрезвычайно скользкой поверхности. Сначала была какая-то твердая поверхность, а затем все становилось нетвердым, скользким и не за что было ухватиться; он падал, погружаясь все дальше и дальше в забвение. Он умирал.
Вдруг он оказался посреди площади средневекового города. Площадь была окружена фасадами готических соборов. Он видел их гаргульи, расположенных на венчающих карнизах животных, людей, каких-то существ в виде полулюдей-полуживотных, дьяволов и духов. Все они - а он видел их как персонажей картин Иеронима Босха - выходили из своих соборных ниш. Они шагали ему навстречу!
Как только все эти существа стали протискиваться к нему, он начал испытывать сильную агонию, боль, панику, ужас и страх. Между его висками ощущалась линия давления, он умирал. Затем он умер. Смерть полностью наступила тогда, когда давление в его голове окончательно его переполнило и он был унесен великим потоком в другой мир.
Новый мир, с которым он встретился, нисколько не был похож на предыдущие. Теперь паника и ужас ушли. Здесь были новые страдания, но в них он был не одинок. Каким-то образом он участвовал в смерти всех людей. Он начал переживать Христовы страдания. Он был Иисусом, а также был Каждым, и все они совершали свой, подобный погребальной процессии путь на Голгофу. В это время в его переживаниях больше не было замешательства. Его видение было совершенно ясным.
Ощущаемая им печаль была просто мучением. Затем он начал осознавать выступившую на оке Божьем кровавую слезу. На самом же деле он не видел ока Божьего, а видел слезу, и она начала проливаться на весь мир, поскольку сам Бог участвовал в смерти и страданиях всех когда-либо живших людей. Процессия продвигалась к Голгофе, и там его распяли вместе с Христом; он был всеми людьми. Он был распят и умер.
После того, как каждый умер, он услышал музыку, самую возвышенную из всей, которую ему когда-либо приходилось слышать. Он слышал голоса поющих ангелов, и все умершие люди начали медленно подниматься. Это было подобно рождению; смерть на Кресте свершилась, а затем раздался свистящий звук, словно с Креста1 сорвался ветер и устремился в иной мир. Все вокруг него начали подниматься, и толпы людей образовали гигантские процессии, идущие к огромным соборам, наполненным светом свечей, золотом и благовониями. В это время чувство личности у него отсутствовало. Он присутствовал во всех процессиях, и все процессии присутствовали в нем. Он был каждым мужчиной и каждой женщиной.
Вместе со всеми окружавшими его людьми он начал подниматься к свету, все выше и выше, проходя мимо величественных белых колонн. Толпы людей оставили позади себя голубые, зеленые, красные и пурпурные краски и золото соборов и одеяний. Все они розовели в белизне, двигаясь между огромными чисто-белыми колоннами. С высоты доносилась музыка, все пели, а затем пришло видение. Это видение не было похоже ни на что виденное ранее; оно обладало особым качеством, убеждающим его в том, что оно было ему даровано. Его коснулась плащаница Христа. Однако она коснулась не только его; скорее она коснулась всех людей, и вместе с тем, в прикосновении ко всем, она коснулась его.
Одновременно с прикосновением плащаницы произошло несколько событий. Он стал очень маленьким - таким же маленьким, как клетка, таким же крошечным, как атом. Все люди выражали смирение и кланялись. Он наполнился покоем и чувством радости и любви. Он окончательно возлюбил Бога. Пока все это происходило, прикосновение плащаницы казалось подобным прикосновению провода с высоким напряжением. Все взорвалось, и этим взрывом отбросило людей в место, высочайшее из всех, - в сферу абсолютного света. Неожиданно все умолкло. Музыка прекратилась. Все звуки исчезли. Это было подобно нахождению в центре источника энергии, подобно бытию в Боге - не просто нахождением в присутствии Бога, но пребыванием в Боге, участием в Боге.
Это длилось недолго (хотя на протяжении всего переживания он осознавал, что время ничего не значит), и он начал опускаться вниз. Мир, в который они теперь опускались, не был похож ни на один другой из когда-либо им увиденных -это был мир великой красоты. Там величественно пели хоры, и во время пения «Священных песнопений», «Славы в вышних к Богу» и «Осанны» был слышен голос Оракула: «Ничего не желай, ничего не желай», «Ничего не ищи, ничего не ищи».
В этот период его посетили многие другие видения. Одно, главное, видение включало в себя то, как он смотрел сквозь землю на основание Вселенной. Он опустился в глубины и открыл ту тайну, что превозносила Бога как из глубин, так и с высот. И в преисподней -также можно было узреть свет. Преисподняя была наполнена множеством камер с заключенными. Когда он проходил через эти камеры, двери открывались и узники выходили славить Бога.
Еще одно впечатляющее видение этого сеанса - фигура, идущая по широкой, красивой реке, протекающей по большой долине. На водной глади медленно и плавно текущей реки цвели кувшинки. Долина была окружена очень высокими горами со множеством стекавших с них ручьев. Вдруг донесся голос: «Река жизни течет в уста Божьи». Он очень хотел оказаться в этой реке и не мог сказать, гуляет ли он по реке или же сам является ею. Река текла, и текла она в уста Бога. Толпы людей и стаи животных - все твари Божьи - сливались ручьями в главный поток реки жизни.
Как только сеанс приблизился к концу, он снова очутился в той же комнате, где все начиналось, и продолжал ощущать трепет, смирение, покой, благость и радость. Он был четко убежден, что пребывал с Богом в центре вселенской энергии. У него все еще оставалось чувство, что вся жизнь - это одно, и что река жизни в самом деле течет в уста Божьи, и что между людьми нет различия, будь то друзья или враги, черные или белые, мужчины или женщины, - все является единым.
Описанное выше является рассказом священника о сеансе с глубокими переживаниями, в котором он встретился с четвертой перинатальной матрицей. И хотя его образы и
символизм были явно христианскими, те же самые сущностные темы во время переживания БПМ-IV вновь и вновь посещают людей различной религиозной и этнической принадлежности. Темы смерти и возрождения выступают здесь на первый план как противоборство между гневными демонами и божествами, как отождествление .со страданиями всего человечества и откровение по поводу самой природы Вселенной. Как и другие матрицы, БПМ-IV, является сочетанием воспоминаний самых основных биологических событий, связанных с рождением, и их духовных и мифологических параллелей.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАЛЬНОСТИ
Биологическая основа БПМ-IV - это кульминация борьбы в родовом канале, сам момент рождения, а также ситуация, следующая сразу же за рождением. Путешествие по родовому каналу приближается к концу, и появляются на свет голова, плечи, а затем и все тело. (Разумеется, при обратном положении плода первыми появляются ноги.) Все, что остается от изначального союза с матерью, - это соединение посредством пуповины. В конечном итоге пуповину перерезают, биологическая связь - единство с материнским организмом - навсегда разрывается.
Когда мы делаем первый вдох, наши легкие и дыхательные пути раскрываются; кровь, снабжавшаяся кислородом и питанием и очищавшаяся от токсичных продуктов через материнское тело, теперь перенаправляется в легкие, желудочно-кишечную систему и почки. С завершением этого основополагающего физического акта отделения мы начинаем свое существование в качестве отдельной анатомической единицы.
Поскольку физиологический баланс снова устанавливается, эта новая по сравнению с двумя предыдущими стадиями - БПМ-11 и БПМ-111 - ситуация несет в себе значительное облегчение. Однако, по сравнению с тем, как все обстояло до начала процесса рождения (БПМ-1), некоторые условия здесь хуже. Биологические нужды, которые удовлетворялись автоматически, пока мы находились в полном союзе с материнским телом, теперь приходится удовлетворять самостоятельно. В течение пренатального периода чрево постоянно обеспечивало безопасность; после того как мы
родились, защищающая фигура матери присутствует не всегда. Мы больше не ограждены от перепадов температуры, беспокоящих шумов, изменения интенсивности света или от неприятных тактильных ощущений. Наше благополучие теперь зависит от качества материнской заботы, но даже самая лучшая мать не может воспроизвести условия хорошей матки.
СМЕРТЬ, ВОЗРОЖДЕНИЕ И ЭГО
Как и в случае первых трех матриц, люди при переживании этой, последней, часто соприкасаются с весьма точными подробностями переживания своего настоящего рождения. Не имея прежде никаких интеллектуальных знаний об обстоятельствах их рождения, они могут обнаружить, что родились при помощи щипцов, или в обратном положении, или с пуповиной, обвитой вокруг шеи. Часто эти люди могут узнать, какая анестезия использовалась при родах. Несколько реже они в подробностях переживают особые события, происходившие после их рождения. Во многих случаях у нас есть возможность проверить точность таких сообщений.
БПМ-IV также обладает отличительным символическим и духовным измерением. Психологически переживание момента рождения принимает форму опыта смерти-возрождения. Теперь страдания и агония, с которыми мы столкнулись в БПМ-tl и БПМ-111, доходят до кульминации в виде «смерти эго» - переживания полной аннигиляции на всех уровнях: физическом, эмоциональном, интеллектуальном и духовном.
Согласно фрейдистской психологии, эго является той частью нас, которая позволяет нам правильно воспринимать внешнюю реальность и успешно функционировать в повседневной жизни. Люди, имеющие такое представление об эго, часто взирают на его смерть как на пугающее и страшно негативное событие - как на потерю возможности функционировать в этом мире. Однако то, что в этом процессе поистине умирает, так это та часть нас самих, которая придерживается параноидального в своей основе взгляда на себя и на окружающий нас мир. Алан Уотс называл этот аспект, подразумевающий чувство абсолютной отделенности от всего остального, «эго, заключенным в кожу». Этот аспект
состоит из внутреннего восприятия нашей жизни, которое мы усвоили за время борьбы в родовом канале и в различных болезненных столкновениях после рождения.
В этих ранних ситуациях нам кажется, что над нами смыкается враждебный мир, изгоняя нас из единственной известной жизни, и вызывая душевную и физическую боль. Эти переживания выковали в нас «ложное эго», продолжающее воспринимать мир враждебным и выносящее это отношение в дальнейшие ситуации, даже когда обстоятельства совершенно не требуют этого. Эго, умирающее в четвертой матрице, отождествляется с принуждением быть всегда сильным, сохранять контроль и быть постоянно готовым к возможным опасностям, даже к тем, которые мы никогда не смогли бы предвидеть, а также к чисто воображаемым. Это дает нам возможность почувствовать, что обстоятельства никогда не бывают благоприятными, что все время чего-то недостает и что мы должны гоняться за различными проектами, чтобы что-то доказать себе или другим. Таким образом, уничтожение ложного эго помогает нам развивать более реалистичное видение мира и строить такие стратегии приближения к нему, которые наиболее соответствуют ему и оправдывают себя.
Переживание смерти эго, отмечающее переход от БПМ-III к БПМ-IV, как правило, драматично и катастрофично. Нас могут одолевать образы из прошлого и настоящего, и, оценивая их, мы можем почувствовать, что все, что мы ни делали, было неправильным и что мы являемся абсолютными неудачниками. Мы убеждены в своем жалком положении и бессилии и в том, что никакие наши действия не смогут изменить ситуацию. Нам кажется, что весь наш мир рушится и мы теряем все значимые отправные точки в нашей жизни - личные достижения, возлюбленных, поддерживающие системы, надежды и мечты, что все обращается в ничто. Путь к свободе от переживаемого отчаяния и безнадежности лежит через смирение - через то самое, с чем борется наше эго. Переживание полного личного смирения является необходимой предпосылкой для соединения с трансперсональным источником. Выздоравливающим алкоголикам и наркоманам это известно как момент, когда человек признает полное бессилие и открывает Высшую Силу.
После того как мы ударяемся о дно, нас неожиданно приковывает видение ослепительно белого или золотого света сверхъестественного сияния и красоты. Здесь присутству-
ет ощущение расширяющегося вокруг нас пространства, и мы испытываем преисполненность чувством освобождения, избавления, спасения и прощения. Мы чувствуем очищение, словно только что избавились от всех тягот нашей жизни - вина, агрессивность, тревожность и другие формы беспокоящих чувств как бы исчезают- Мы можем почувствовать, как нас переполняет любовь к нашим братьям-людям, высокое понимание теплоты человеческого контакта, солидарность со всей жизнью и чувство единства с природой и Вселенной. Высокомерие и оборонительная позиция постепенно исчезают, стоит лишь нам обнаружить силу смиренности, подсказывающую нам служить людям. Высокие амбиции, а также стремление к материальному благополучию, статусу и власти вдруг начинают казаться детской, абсурдной и бесполезной суетой.
МИФОЛОГИЯ СМЕРТИ И ВОЗРОЖДЕНИЯ
Когда мы, будучи взрослыми, в терапии, направленной на регрессию, в психодуховном кризисе или усиленной медитации сталкиваемся с БПМ-IV, то это, как правило, не ограничивается переживаниями биологических и эмоциональных аспектов рождения. Тема смерти-возрождения включает в себя множество других типов переживания, разделяющих то же самое качество эмоций и ощущений. Типичным образом мы видим сочетание первоначальных воспоминаний о рождении, символические образы рождения, сцены из человеческой истории, отождествление с различными животными и мифологические секвенции. Все это может переплетаться с воспоминаниями более поздних событий, отражающих параллели между БПМ-IV и определенными типами переживаний в нашей жизни.
Духовный и мифологический символизм, связанный с БПМ-IV, изобилен и разнообразен, и, так же как в других матрицах, здесь могут приходить образы из различных культурных традиций. Смерть эго может переживаться как принесение себя в жертву индийской богине Кали или ацтекскому солнечному богу Уицилопочтли. Или же человек может отождествляться с младенцем, брошенным своей матерью во всепожирающее пламя библейского Молоха вместе с другими детьми, встретившими свою смерть в этом ритуале жертвоприношения. Я уже упоминал о легендарной птице
Феникс как о древнем символе возрождения. Видения этой мифологической птицы или отождествления с ней - частые события в необычных состояниях. Также возможны переживания духовного возрождения в виде союза с особыми божествами, например, с ацтекским Кетцалькоатлем, египетским Осирисом или Адонисом, Аттисом и Дионисом из греческой традиции. Как было проиллюстрировано в рассказе, открывающем данную главу, отождествление со смертью и воскресением Иисуса Христа - это одна из самых распространенных форм переживаний, связанных с БПМ-IV. Блаженство, связанное с этим неожиданным духовным открытием, изобилующим поразительными прозрениями, можно отнести к прометеевскому экстазу.
ПРАЗДНОВАНИЕ МИСТЕРИИ ПУТЕШЕСТВИЯ
Человек, прошедший невероятные испытания второй и третьей матриц и радующийся переживанию возрождения, связанному с четвертой матрицей, обычно испытывает чувство ликования. Это может воплощаться в героических персонажах из мифологии, таких, как святой Георгий, поражающий Змея, Тезей, побеждающий Минотавра, или младенец-Геракл, разделывающийся с удавами, напавшими на него при рождении. Одни люди рассказывают о видении ослепительного света со сверхъестественным излучением божественного разума, или о переживании Бога как чистой духовной энергии, пронизывающей все вокруг. Другие описывают полупрозрачную небесно-голубую дымку, красивые радуги или захватывающее видение замысловатых узоров, напоминающих павлиньи перья. Там могут быть величественные образы явлений божественных сущностей с чертами ангелов и других небесных существ. Это время также весьма подходит для появления Великой Богини-матери из различных культур, излучающей любовь и защиту, - Девы Марии, Исиды, Кибелы или Лакшми.
В некоторых случаях духовное возрождение может быть связано с особыми переживаниями - союз Атмана-Брахма-на, описанный в древних индуистских текстах. Здесь человек ощущает глубокую связь со своей самой сокровенной духовной сущностью. Иллюзия индивидуального «я» (джи-ва) увядает, и человек радуется воссоединению со своим божественным «Я» (Атман), которое является также Вселен-
ским «Я» (Брахман), космическим источником всего бытия. Это прямой и непосредственный контакт с Вездесущим, с Богом, или с тем, о чем в Упанишадах говорится как о Тат твам аса («Ты есть То»). Это осознавание фундаментальной тождественности сознания индивидуума с творческим принципом Вселенной является одним из наиболее глубоких переживаний, какие только может иметь человек. Духовное возрождение, как оно переживается через БПМ-IV, может вновь привести к океаническому блаженству БПМ-1, и посредством этого мы ощутим космическое единство.
Этот символический союз с матерью, который, как правило, следует за переживанием возрождения («хорошая» грудь), очень близок к переживанию безмятежного существования внутри матки («хорошая» матка); они часто чередуются или даже сосуществуют. Переживание БПМ-IV может сопровождаться чувствами слияния со всем остальным миром, напоминая таким образом переживание единства, которое мы обсуждали в контексте БПМ-1. В этом состоянии окружающая нас реальность обладает качеством божественного. Когда мы чувствуем единение со всем существующим, то над всеми остальными интересами одерживает верх понимание ценности естественной красоты и простой, естественной жизни. Мудрость учителей и философских учений, подчеркивающая эти ценности (философские труды Жан-Жака Руссо, Ральфа Уолдо Эмерсона и Генри Дэвида Торо, а также учения даосизма и дзен-буддизма), кажется, говорит сама за себя и является неоспоримой.
При самых идеальных обстоятельствах смерть эго и возрождение могут иметь далеко идущие и часто продолжительные последствия. Это освобождает нас от параноидальной, самооборонительной позиции по отношению к миру, которую мы можем иметь в результате определенных аспектов нашего рождения и последующих болезненных переживаний. Нам кажется, будто с нас срывают фильтры и искажающие линзы, ограничивающие наше восприятие себя и мира. Вместе с переживанием возрождения все наши сенсорные проходы внезапно раскрываются. Виды, звуки, запахи, вкусы и тактильнью ощущения - все это предстает намного более сильным, живым и приятным. Мы можем вдруг почувствовать, что как бы видим мир впервые. Все вокруг нас, даже самые обычные и знакомые сцены, кажутся нам
необычайно будоражащими и вдохновляющими. Люди рассказывают при этом о совершенно новых путях к тому, как научиться ценить своих возлюбленных, наслаждаться звуками музыки, красотой природы и прочими удовольствиями, которые дарит нам мир.
Высшие побуждающие силы, такие, как стремление к справедливости, правильное понимание гармонии и красоты и желание творить ее, терпимость и уважение, возникшие по отношению к другим людям, а также чувство любви, становятся в нашей жизни все более важными. И более того, мы воспринимаем их как непосредственное, естественное и логичное выражение нашей истинной природы и вселенского порядка. Их невозможно объяснить в терминах психологических защит, таких, как фрейдистское «формирование реакции» (казаться быть любящим, когда на самом деле испытываешь агрессию и ненависть) или «сублимация» примитивных инстинктивных побуждений (затрата длительного времени на помощь другим как способ справиться с сексуальным напряжением). Интересно, что между этим новым осозмазанием и тем, что Абрахам Мэслоу называет «мета-ценностями» и «метамотивациями», существуют поразительные параллели. Он регулярно наблюдал подобные перемены в людях, имевших спонтанные мистические или «пиковые переживания». Такого рода положительные последствия больше всего ощущаются в течение нескольких дней или даже недель после духовного прорыва и имеют тенденцию со временем угасать; однако, на более тонком уровне они навсегда преображают человека.
Человек, удачно завершивший процесс смерть-возрождение, испытывает чувство глубокого расслабления, тихого наслаждения, безмятежности и внутреннего покоя. Правда, в некоторых случаях этот процесс не следует своим полным курсом, и результаты во временном состоянии напоминают манию. Подразумеваемый человек может ощущать чрезмерное возбуждение, гиперактивность и эйфорию, доходящие до абсурда. Например, после незавершенного прорыва в БПМ-IV и первого натиска космических прозрений некоторые люди начинают носиться туда-сюда и кричать о своих открытиях, пытаясь поделиться ими со всеми подряд. А кое-кто может считать их прозелитическими, тре-
бовать особых почестей, пытаться устраивать празднования и строить грандиозные планы по изменению мира.
Это часто случается в спонтанных психодуховных кризисах, где понимание, поддержка и руководство, как правило, недоступны. Когда открытие своей божественности остается привязанным к эго тела, то оно вместо искреннего мистического прозрения может принять форму психотической мании величия. Этот вид поведения указывает на то, что человек не соединился полностью с БПМ-IV и должен прорабатывать и интегрировать некоторые проблематичные элементы из БПМ-111. После того как эти остаточные негативные аспекты БПМ-ill полностью разрешены, возрождение переживается в своей чистой форме, как тихий восторг с безмятежностью и покоем. Это состояние является вполне удовлетворительным и самодостаточным и не требует никаких немедленных действий.
ТАМ, ГДЕ НАСТОЯЩЕЕ СОЕДИНЯЕТСЯ С БУДУЩИМ
Общие знаменатели, связывающие воспоминания из более поздней жизни с переживаниями БПМ-IV, включают в себя элементы побед, успехов в трудных делах и удачный выход из опасных ситуаций. Мы неоднократно видели, что, переживая момент рождения, многие люди проигрывают в памяти конец войны или революции, выживание в катастрофе или преодоление главного препятствия. На другом уровне они могут также напомнить о расторжении неудачного брака и о начале новых любовных отношений. В некоторых случаях в виде сжатого пересмотра могут воспроизводиться целые серии последующих успехов в жизни.
Как представляется, легким рождением закладывается программа легкого преодоления всех трудных жизненных ситуаций. Различные осложнения, такие, как продолжительные и болезненные роды, использование щипцов или сильная анестезия, по всей видимости, предопределяют наличие жизненных проблем, связанных с различными планами на будущее. То же справедливо и в отношении стимулированных, преждевременных родов и кесарева сечения.
В терминах фрейдовских эрогенных зон БПМ-IV связывают с удовольствием и удовлетворением, следующими за высвобождением напряжения. Таким образом, на оральном уровне физический аспект этого состояния напомнил бы уто-
ление жажды и голода или облегчение, ощущаемое нами, когда мы устраняем сильный дискомфорт в желудке при помощи рвоты. На анальном и уретральном уровнях это выглядит как удовлетворение, вызванное дефекацией и мочеиспусканием после длительной задержки. На гениталь-ном уровне это состояние соответствует удовольствию и расслаблению после хорошего полового оргазма. Для рожающей же женщины это было бы оргазмическим высвобождением, которое может переживаться сразу же после разрешения от бремени.
ДРУГИЕ МИРЫ -ДРУГИЕ РЕАЛЬНОСТИ
Та область бессознательного, которую мы связываем с этими четырьмя перинатальными матрицами, представляет интерфейс между нашей индивидуальной психикой и тем, что Юнг называл коллективным бессознательным. Как мы уже увидели, переживания, связанные с матрицами, часто сочетают в себе воспоминания различных аспектов биологического рождения с последовательностью событий из человеческой истории или мифологии и отождествление с различными животными. Эти элементы принадлежат к трансперсональным владениям - сфере новой картографии, пролегающей за пределами биографической и перинатальной сфер. Эта самая спорная в настоящее время область изучается современными исследователями сознания.
Трансперсональные переживания поставили под сомнение убеждение в том, что человеческое сознание ограничено диапазоном наших чувств и средой, в которую мы вошли, появившись на свет. В то время как традиционная психология утверждает, что наше ментальное функционирование и наши переживания являются прямым результатом способности мозга к отбору, определению смысла, и хранению информации, собранной нашими чувствами, трансперсональные исследователи выдвигают свидетельства наличия при определенных обстоятельствах доступа к фактически неисчерпаемым источникам информации о Вселенной, которые могут иметь аналоги в физическом мире, а могут и не иметь. Эту удивительную область мы будем исследовать в следующем разделе книги.
ПСИХОАНАЛИЗ
БЕРЕМЕННОСТИ
С. Фанти
УТРОБНАЯ ВОЙНА1
Оплодотворенное человеческое яйцо является результатом цитоплазматического и ядерного слияния гамет: яйца и сперматозоида.
Ультрамикроскопическая эмбриология и молекулярная биология доказывают, что с самого начала ИДЭ находится в полном распоряжении человеческого существа, развитие которого основывается на:
а) биологической нейтральности яйца и сперматозоида;
б) случайном характере их встречи;
в) их жизненно необходимой клеточной агрессивности.
Яйцо является единственной человеческой клеткой, которую можно различить невооруженным глазом. Ее сферическая форма и диаметр в 120 микрон делают ее похожей на точку над i. Ее объем в 10 000 раз превосходит объем сперматозоида. Что касается ее структуры и метаболизма, то в их основе лежит по сути дела самозащита: а) две защитных оболочки окружают ядро: corona radiata, составленная из короны клеток, которые склеены между собой гликопротеиновым гелем, и прозрачной оболочки, представленной плазматической стекловидной мембраной толщиной в 20 микрон; б) цитоплазма заключает в себе огромные питательные запасы, среди которых преобладают белки и жиры. Эти защитные меры, однако, не препятствуют тому, что яйцо умирает через двадцать четыре часа (в среднем), если остается неоплодот-воренным. Для того, чтобы клетка выжила, необходимо, чтобы установилась диплоидность, которая была присуща ей самой до ее овуляции.
Длина сперматозоида - 60 микрон. Его структура напоминает трехступенчатую ракету в миниатюре: а) головка, где содержатся наследственные факторы, покрыта как броней
* С. Фанти. Микропсихоаналиэ. - М. 1995.
шлемовидной мембраной (акросома) и наполнена энзима-тическим динамитом; б) промежуточная, средняя ступень и энергетический резервуар состоят из митохондриального завитка, который окружает неподвижную часть нити спер-мия; в) хвостовой отдел, состоящий из подвижной части нити, действует как хвост у головастика и служит двигателем.
Лишь некоторым из 300 миллионов сперматозоидов, выбрасываемых при одной эякуляции, удается достичь места оплодотворения: внешнюю треть (со стороны яичника) одной из двух фаллопиевых труб. И действительно, несмотря на высокую степень специализации своей клеточной энергии, почти все сперматозоиды погибают в пути. Подобное массовое погибание происходит по нескольким причинам:
а) привыкшие к щелочной среде семявыносящих протоков, сперматозоиды плохо переносят кислую среду влагалища;
б) даже если перед ними есть надежда трехдневного существования, их скорость, равная двум миллиметрам в минуту (это поразительно при таком масштабе) очень быстро исчерпывает их силы; в) лишенные ведущего органоида, определенной траектории и собственной цели, они легко теряются в лабиринте слизистой оболочки влагалища; г) поскольку женская зародышевая клетка не испускает направляющего sex appeal'a, сперматозоиды могут пройти мимо, не заметив ее, и даже попасть в брюшную полость.
И только выживший несмотря ни на что и совершенно случайно оплодотворяющий сперматозоид, наконец, проникает сквозь яйцевую оболочку corona radiata. Благодаря энзимам, разрушающим его акросому, начинается химический forcing (форсирование), типичный для бактерий. Ферменты гиалуронидаза и трипсина растворяют защитные слои яйца и сперматозоид проникает в нее. Когда спермий приближается к плазменной мембране, реакция типа антиген-антитело (система фертилизин-антифертилизин Ф. Лилли) пытается агглютинировать его. Эта реакция не в состоянии сдержать напор сперматозоида и тот проникает в яйцо. Вопреки тому, что мы думали в течение очень долгого времени, сперматозоид не довольствуется тем, что инжектирует свое ядро внутрь клетки, а проникает в него полностью.
В момент проникновения сперматозоида, по яйцу пробегает «электрическая дрожь» (Л. Кадмор), оно переживает физикохимический переворот, вследствие которого территория половой клетки становится неприступной для других сперматозоидов. Сжимаясь, цитоплазма освобождает место для околоклеточного водного пространства, которое играет роль (да-да!) заводи и напоминает фантастическую морскую лучину, необходимую для развития человеческого организма. Иначе говоря, без морской среды нет человеческого существа!
Гаплоидные наборы хромосом женской и мужской (гамет) сливаются, образуя первое диплоидное ядро. И вот здесь опять происходит нечто фантастическое: это диплоидное ядро окажется точно таким же во всех клетках взрослого организма.
Обладающее своим ИДЭ с анцестральными материнскими и отцовскими зарядами, оплодотворенное яйцо начинает передвигаться по направлению к матке за счет: а) перетони-альной жидкости, истекающей из отверстия трубы; б) мышечных сокращений трубы; в) движений ворсинок мерцательного эпителия. По пути к матке яйцо начинает дробиться: в нем насчитываются 2 клетки тридцать часов спустя после оплодотворения, 4 - еще через двадцать часов и 8 на шестидесятом часу.
На четвертый день 16 клеток, из которых состоит теперь яйцо, образуют меленькую ягоду тутового дерева, называющуюся морула. Эта морула совершает переход из трубы в матку и, свободно плавая в ней, продолжает делиться.
На пятый день 150 зародышевых клеток образуют бласто-цисту (от греческого blastos = росток, зародыш и cystos = киста, пузырь), в котором находятся: а) зародышевый пузырек, представляющий собой клеточную массу, при последующем делении которой образуется наибольшая часть эмбриона (четырнадцать недель спустя он начинает называться плодом); 6) трофобласт, представляющий собой единый клеточный слой, который окружает зародышевую почку; в) бластоцель или бластокистовая полость, в процессе органического микропсихоанализа которой выявляется ее определяющая роль.
Спокойствие этих первых пяти дней обманчиво. И действительно, во время своей «одиссеи» оплодотворенное человечес-
кое яйцо рискует погибнуть в девяти случаях из десяти. Причины ее гибели {это происходит незаметно для женщины) еще плохо изучены. Однако, не вызывает сомнения одно: литические механизмы вступают в действие, когда сохранение особи оказывается под угрозой клеточной патологии, прежде всего, связанной с генетическими аберрациями. Эта особенность зародыша подтверждает одну очень важную мысль, появившуюся в процессе микропсихоанализа: попытка индивидуального уничтожения часто скрывает попытку коллективного сохранения.
Кроме того, она подтверждает, что происходящие (оба) от влечения к смерти-жизни, со-влечения разрушения и сохранения: а) неотделимы от их происхождения: совлечение сохранения является в определенной мере разрушительным, а совлечение разрушения - сохраняющим; б) часто функционируют взаимодополняющим образом благодаря взаимозаменяемости своих характерных обязанностей; в) обладают индивидуальным динамизмом, подчиняющимся коллективной совокупности.
Итак, на пятый день, оплодотворенная яйцеклетка чудом превратилась в бластоцисту. Начиная с этого момента, матка становится полем битвы и останется им до конца беременности. Вот почему, вопреки тому, что обычно рассказывают, утробная среда во время беременности далека от того, чтобы быть средой ласки; матери чудом удается избежать клеточного взрыва своего маточного отростка, который выходит из нее, избежав или приняв на себя психобиологические, ею нанесенные, удары.
Но давайте изучим это состояние войны во время беременности более подробно.
Приблизительно на седьмой день начинается процесс имплантации яйца в матку. В продолжение семидесяти двух дней, пока он длится, бластоциста отчаянно пытается «устроить себе гнездо» в стенке матки, дабы поместиться в нем. Это происходит потому, что в отличие от яиц пресмыкающихся и птиц и некоторых млекопитающих, таких, как яйцекладущие ехидны, утконосы, человеческое яйцо лишено большого запаса питательных веществ. Оно быстро начинает чувствовать недостаток питательных веществ и выживает только в
том случае, если прикрепится к материнской ткани. Таким образом, на восьмой день человеческая бластоциста - это людоед.
И гораздо более существенно, чем в обычном смысле этого слова, поскольку это зародышевое людоедство предвосхищает на клеточном уровне символическое пожирание тотемичес-кого отца. Приведенная ниже последовательность сжато излагает процесс антропофагии, который осуществляется эмбрионом в лоне своей матери: обернутые в бластоцисту клетки размножаются - и образуют трофобласт - в котором образуются ворсинки хориона - они проникают между стенками матки - и разрушают их посредством апкалинового энзимо-лиза - остатки которого пожираются ими - и когда этот не совсем специфический способ питания оказывается недостаточным, трофобласт начинает свою плацентную специализацию - ворсинчатые периферийные клетки теряют свои мембраны и образуют синцититрофобласт, то есть про-топлазмовый слой, усеянный ядрами - который дифферен-циирует периферийные микроворсинки (щеткообразные края) -те «ввинчиваются» в соединительную материнскую строму -так, что участок соединения с матерью превращается в кровавые озера - и затем, на двадцатый день эмбрион омывается в материнской крови и питается ею, в то время как она пытается затянуть рану, которую он ей нанес.
В то время как некоторые эмбриологи (такие, как А. Дол-ландер и Р. Ортман) подчеркивают разрушительную функцию трофобласта, другие (такие, как Д. Стак) ее минимизируют. Микропсихоаналитики, в свою очередь, не только признают эмбрионную агрессивность, направленную на мать, но и выявляют ее клеточную основу (такой, какой она предстает, в частности, при каннибализме эмбрионов близнецов, что может породить нормального индивидуума, призрачное происхождение которого часто остается непознанным) и затем заново определяют ее согласно нейтральной энергетике ИДЭ.
Неискоренимая смертная ненависть некоторых анализируемых к своим матерям представляет собой несомненно фиксацию именно тех дней. С другой стороны, как это выявляется в течение долгих сеансов, взрослый человек хранит в глубине своего бессознательного воспоминание о том, как
они пожирали свою мать и уливались ее кровью. Для того, чтобы пережить эту кровавую эмбриональную эпопею, он не скупится на выдумки и пытается пожирать своих соплеменников и замещающих их фигур. И не изнутри больше, а снаружи. И больше не в роли «эндопаразита», а в роли «эктопаразита» (Ференци). Вот почему менструальные выделения иногда вызывают у таких субъектов (речь может идти здесь как о женщине, так и о мужчине) самое настоящее извращение вкуса, такую ненасытную потребность в отношении несъедобного, что перед ней не могут устоять никакие социорелигиозные предписания и медицинские и гигиенические советы:
Фразы, которые часто повторяются: «... и потом!... если я хочу поцеловать ее там, где у нее месячные, я же не прошу чего-то особенного...» - « мое наслаждение достигает своего апогея, когда... у нее между ног... я приподнимаю свое лицо, все в крови...» - «... я люблю лизать женщин, когда у них месячные... они мне говорят, что я не один такой...» -« ... проститутки-проститутки!... моей жене никогда не понять, что я упивался бы ее менструациями... и что если бы я не делал этого время от времени, то сошел бы с ума...»
С иммунологической точки зрения эмбрион является чужеродным телом, начиная с самых первых, предпринятых им попыток имплантироваться в стенку матки. Биологические приказы его отцовских генов (скорее родственных) безостановочно возбуждают иммуноцитарную систему его матери, которая отвечает ударом на удар и вырабатывает антитела, прикрепляющиеся на трофобласте. Затем они благоприятствуют лизису и, следовательно, фагоцитозу. Отсюда, для того, чтобы сдерживать антигенные атаки эмбриона, мать тоже прибегает к своим каннибалистическим средствам. И мы попадем в ловушку, если не признаем, что первой реакцией матери в отношении своего ребенка являются попытки отторжения.
Согласно принципам иммунологии при беременности -речь идет о тех принципах, которые проэкспериментярованы в лабораториях Инсерм или группой Реклина в Бостоне-эмбрион должен был бы быть ликвидирован полностью. Если же ему удается выжить, то этим он обязан изощренности клеточного и ядерного характера своих защитных механизмов,
говоря о которых, мы не можем не вспомнить о раке: его трофобласт выделяет иммунозадерживающую секрецию, ингибирующую выработку материнских антител и токсичное вещество, парализующее фагоцитоз. Может быть, эта эмб-рионная стратегия объясняет вспышки некоторых неопла-зий (например, неоплазию Ходжкина: рак ганглиев при беременности)? Во всяком случае, развитие человеческого оплодотворенного яйца можно отождествить с процессом развития злокачественной опухоли.
Даже если определенный modus vivendi, иммунологический или нет, устанавливается, насколько кажется, между эмбрионом и матерью, симбиоз их попыток и их со-влечений разрушения-сохранения является обманчивым. Взаимная терпимость их Оно очень непрочна,0 чему являются свидетельством попытки матери символически освободиться от маточного отростка, когда у нее бывает рвота. Modus vivendi матки и плода походит больше на ультраспециализированную таможенную систему, чем на мирный свободный обмен. Доказательством тому - плацента, которая для плода играет роль легко-го-почки-кишечника-печени-эндокринной железы, соотнося, но не смешивая, материнскую и эмбриональную кровь. И действительно, они все время отделены друг от друга плацентой, как перегородкой, которая достигает огромной (при таком масштабе) толщины: 2 микрона - содержащей в себе (это можно рассмотреть в электронный микроскоп): а) эндотелий эмбриональных капилляров (длина которых более пятидесяти километров); б) их основную мембрану; в) состоящий из тонких волоконцев слой; г) вторую основу; д) синцити-отрофобластовую цитоплазму.
Толщина и структурная специфичность этой преграды таковы, что для того, чтобы состоялся обмен между матерью и плодом, необходимо прибегнуть к исключительно изощренным механизмам. Среди них можно выделить три основных:
а) пиноцитоз, представляющий собой вариант фагоцитоза. Он обеспечивает улавливание сложных протеинов, жиров, некоторых антител... и силой заставляет их проникнуть внутрь клетки;
б) простая диффузия, зависящая только от градиента частичного давления вещества. Она имеет место: 1) в направ-
лении от матери к плоду, если речь идет о кислороде и электролитах; 2) в направлении от плода к матери, если речь идет об углекислом газе и содержащих азот остатках, включая мочу;
в) облегченная диффузия, при которой вступает в действие избирательная проницательность плаценТной мембраны и ее энзиматическая деятельность, а также процессы активного переноса абсорбции и секреции. Это касается аминокислот, большей части белков и сахара, некоторых жиров, кальция, железа, витаминов...
Сложность этих механизмов показывает, насколько клеточная идэическая стратегия стремится к поддержанию нормального функционирования синапса между плодом и матерью. Например,говоря об облегченной диффузии, нужно заметить, что некоторое количество белков и жиров материи сначала сводится под воздействием энзим к простым элементам, которые, активно направленные к прохождению сквозь пла-центную мембрану, вновь синтезируются в белки и жиры в плоде.
Необходимо совершить усилие (без него не обойтись при микропсихоанализе) по воображению в конкретных формах этой бесконечной работы по диффузии, не забывая о том, что она подчиняется законам клеточного биоэлектричества и, следовательно, должна удовлетворять изменениям потенциала различных слоев плацентной мембраны.
В заключение, то, что мать и плод выживают в этом внутриутробном конфликте, похоже на чудо. С другой стороны, согласно акушерской казуистике, одна беременность из пяти является «в высшей степени опасной» и может закончиться абортом. Это так, поскольку плод является ультрачувствительным рецептором материнской психосоматики и окружающей среды.
Технические приемы, устанавливающие это, многочисленны (фетоскопия, аминоскопия, пункция амниотической жидкости, экография, электрокардиография, кардиотохография...) они содействуют развитию эмбрионологии поведения. Эмб-рионология поведения подтверждает гипотезы, выдвинутые в 1942 году Л. Зонтагом; отсюда мы узнаем, что влияние, оказываемое матерью на плод, выходит далеко за рамки пе-
редачи ему повышенного давления, диабета, токсемии, краснухи, токсоплазмоза, сифилиса...
Мать передает плоду свое психическое состояние (сознательное и бессознательное), свои страхи и тревоги. Она как бы подчиняет его своим ощущениям-восприятиям и своим биологическим функциям. Мы знаем также, в частности, благодаря работам А. Лилса и С. Смита, что плод является очень верным экологическим барометром. Он реагирует на шум, на загрязнение, на условия освещения, температуры, атмосферного давления...
Сексуальность беременной женщины подвергает восприимчивость и повышенную чувствительность плода суровому испытанию. Это подтверждается не только в процессе микропсихоанализа беременных женщин, но и с любым анализируемым в ходе изучения первоначальных признаков в рамках идэического толкования того или иного сновидения. В отличие от других самок млекопитающих, которых беременность освобождает от сексуального желания, беременная женщина часто становится очень активной в сексуальном плане посредством: а) освобождения от страха (очень поверхностного, если не сказать, сознательного, поскольку это ее первое физиологическое желание) забеременеть; б) общего повышения эрогенной возбуждаемости; в) специфической интенсификации генитального наслаждения; г) акцентирования амбивалентного эдипова желания вернуться в материнское лоно; д) возрождения древнейших признаков прасцены (совокупления родителей) и обоих родителей в одном лице; с) ослабление садико-анального табу, что позволяет, следовательно, прибегать к практике содомии. Вот почему дома свиданий, проститутки которых находятся на последних месяцах беременности, пользуются таким успехом, и вот почему, в более общем плане, беременная женщина оказывает на многих мужчин исключительно сильное сексуальное влияние.
Одна анализируемая: «... Это произошло дней за пятнадцать до моих родов... мой муж несколько раз брал меня... иногда я опиралась на локти и колени... иногда лежала на боку... никогда еще ощущение его пениса в моем влагалище не приносило мне такого наслаждения... может быть, это было по причине его необычайно сильного желания?...
или потому, что ребенок шевелился во мне?., я чувствовала очень хорошо их обоих, их обоих одновременно...
(помолчав минуты две, продолжает):
... внезапно... он ввел свой пенис в мое анальное отверстие... я была парализована... я застонала... вены на висках чуть не лопнули... глаза вылезли из орбит...
... я вся вспотела... но это был не пот... что-то более густое... нечто более обильное, гораздо более обильное... я была вся как в мыле... маслянистая... нет!... я была какой-то клейкой массой...
... я была не просто как бы разбита вдребезги... каждый член моего тела жил своей собственной жизнью... жил для себя... между ними, ничего... мои сочленения больше не функционировали... если мне хотелось пошевелить рукой, то двигалось только плечо...
... я не знаю, что... пена, какая-то секреция вытекала у меня изо рта, из влагалища... я икала, потому что мой муж и мой ребенок сжимали меня с обеих сторон...
(помолчав минуты две, продолжает):
... и тут же мое тело как бы встало на дыбы, все тело стало жестким как одеревенело... у меня прервалось дыхание... мой муж испугался и перестал... у меня вышли экскременты... и я, собравшись в комок, в один огненный комок вверху влагалища... потеряла сознание...»
Если понимать описанный этой моей анализируемой па-раксизм наслаждения, как обострение и заразительность сексуальности при беременности, необходимо учитывать и другие факторы, кроме тех, о которых я только что упомянул. Эти факторы находятся в прямой связи с Оно. Функционирование со-влечений разрушения-сохранения повышает его чувствительность, что, в свою очередь, толкает беременную женщину к нейтральной идэической энергетике и к влечению смерти сообразно с принципом постоянства пустоты, за которые она крепко цепляется. Женщина осуществляет это действие на основе некоторых особенностей женской почвы.
а) восстанавливая эмбриональную эквивалентность своих тканей (в частности, пельвия) и своих клеток; б) объединяя в одно целое свои телесные отверстия (в частности, анальное и влагалище).
Состояние клеточного слияния, которое характеризует психосексуальность беременной женщины, охватывает плод, вздрагивающий при малейшем желании или половом акте, русские ученые установили, что он улыбается, морщит лоб, сжимает кулачки или сосет палец, когда женщина находится в состоянии удовлетворенного желания. Ничто не ускользает от внимания его идэической сейсмографии. Плод неизменно регистрирует любое возбуждение, мастурбацию, феллацию, влагалищный или анальный коитус материи. Случается так, что спазмы матки, обусловленные материнским оргазмом, сжимают его с такой силой, что он подает регистрируемые признаки сердечной недостаточности. Иногда это приводит к выкидышу плода. Короче говоря, материнская сексуальность ставит под опасность его жизнь. Но мать, несмотря на это, не лишает себя сексуального наслаждения. По этому поводу материал сеансов является стереотипным: ни одна женщина не лишает себя наслаждения из внимания к ребенку, которого она носит в своем лоне.
Находясь в плодном пузыре, плод в одинаковой мере подвергается воздействию со стороны отца, который входит в мать. Удары пениса, введенного во влагалище или анальное отверстие матери, оставляют след в памяти клеток плода, ставя ее в зависимость от сознательных и, прежде всего, бессознательных движений пениса, воспринимаемых как насилие со стороны отца. Таким образом, плод понимает (уже тогда!), что отец - это соперник, от которого можно было бы освободиться, что это противник, которого при случае можно было бы убрать. Извращенные в процессе эволюции следы такого неравного и давнего сражения остаются в человеке навсегда:
Фразы, которые постоянно повторяются: «... Это неясное чувство быть чьей-то жертвой...» - «... мне удалось уцелеть при каком-то таинственном покушении...» - «...как будто кто-то обидел меня, но я ничего об этом не помню...» ~ «... у меня впечатление, что кто-то когда-то нанес мне неизгладимое оскорбление...» - «... это ощущение - я чувствую его всем телом - того, что кто-то нанес мне смертельный удар...»-«...меня хотели убить, когда-то... очень-очень давно...»
Согласно учению Фрейда мы привыкли схематически разделять психосексуальное развитие ребенка на оральную, анальную и фаллическую стадии. С точки зрения микропсихоанализа, эти три стадии нужно считать вторичными и более поздними. И действительно, маточная война дает нам понять, что плод:
а) участвует в любовных утехах (и сражениях) своей матери и, через нее, в любовных утехах и битвах ее партнера;
б) отвечает на любую малейшую деталь материнской лсихосексуальности клеточным эротизмом;
в) таким образом одновременно с их реактивизацией в матери, в нем наблюдаются либидные импульсы: оральные, садико-анальные, фаллические и генитальные.
Эти импульсы психосексуальности плода складываются в то, что мы называем стадией посвящения. Мне могут возразить, что я злоупотребляю словом «стадия», уподобляя его организации либидо плода в соответствии с определенным видом объективного отношения. Но это было бы возражение дурного тона, поскольку синхронно вибрируя с предметным заполнением со стороны матери (как это подчеркивается В. Бионом) и смешивая филогенетические представления-аффекты (как это дает понять в своей работе «Психизм плода» А. Расковский), плод: а) придает форму своему Оно; б) устанавливает свои первые со-влеченческие связи, начиная с влечения к смерти-жизни; в) организует отогенетичес-кий уровень своих иконических экранов; г) преобразует свои психобиологические сущности в сущности психические и соматические; д) ставит онтогенетические вехи своего бессознательного. Таким образом, стадия посвящения - это агрессивно-сексуальное ученичество, на которое мать толкает свой плод.
Стадия посвящения, со своими психобиологическими импульсами:
а) превращает проекцию в самый первоначальный онтогенетический механизм. Этот механизм, скопированный с псевдоподического динамизма ИДЭ, является первой формой отношения с внешним миром. Она наблюдается раньше, чем идентификация, причиной существования которой является эта форма отношения. Кроме того, она регулирует ее
различные модальности на основе вытеснения. Вот то новое определение, которое дает микропсихоанализ (воспроизводя, с другой стороны, некоторые выводы, сделанные в свое время П. Шильдером): можно инкорпорировать-интер-нализовать-интериоризовать-интроектировать только то, что было первоначально проектировано;
б) открывает собой новый клеточный тип отождествления с агрессором, в котором мы обнаруживаем: 1) активный и разрушительный компонент, открытый Анной Фрейд; 2) пассивный и сохраняющий компонент, предложенный Ференци;
в) закладывает основы проекций-идентификаций, от которых будут зависеть психобиологическое развитие и функционирование человеческого существа;
г) выделяет из призрачного хаоса прасцену и придает ей статус прожитого;
д) направляет классические стадии детской сексуальности, которые - и теперь мы гораздо лучше понимаем это - присутствуют и накладываются друг на друга еще до рождения;
е) определяет характерные особенности (включая призрачные и онеирические) взрослой сексуальности и их тесную связь с агрессивностью.
Процитирую здесь слова А. Гезелля: «Дородовая организация закладывает основы всей последующей жизни, но она также является конечным результатом долгого процесса развития в далеком прошлом... Новорожденный - это очень старый старик, уже прошедший большую часть своего развития». Отсюда и в течение почти девяти месяцев он сидел в ложе - да что я говорю! - он сидел в первом ряду... и когда ребенок появляется на свет, он уже знает все об агрессивной и сексуальной жизни.
И поэтому случается очень часто слышать из уст анализируемого намеки на эту стадию посвящения:
Одна анализируемая: «... открытая или закрытая дверь, это мне ничего не говорит... приоткрытая дверь приводит меня в состояние ужаса...
(помолчав минут пять, продолжает):
... мне часто снилось, что я играла в прятки со своими братьями и сестрами... и я пыталась спрятаться в шка-Фу— в шкафу, стоящем в спальне... моих родителей?., и
тут приходил мой отец... может быть, он пытался выгнать меня из шкафа?., в этом шкафу... сколько раз я чуть не умерла со страха!., хотел ли он наказать меня побоями?., как мне вспомнить об этом?..
{четыре недели спустя):
... шкаф в моих сновидениях... - это, вероятно, половой орган моей матери?..
(помолчав минуты две, продолжает):
... когда я была в лоне моей матери... во мне запечатлелись все ее совокупления... с моим отцом или с каким-нибудь другим мужчиной... как мне было почувствовать это?., нарушал ли он просто мое спокойствие?..
... или же этот мужчина хотел выбросить меня из лона моей матери?., были ли они заодно?., ведь ее резкие спазмы сжимали меня как тиски...
(помолчав минуты две, продолжает):
...от всего этого, наверно, меня ужасно трясло... однажды мой отец сказал мне: «когда я был молодым, я не просто брал женщин, я пробивал их насквозь...» ... кстати, не знаете ли вы, может очень сильный мужской половой орган приоткрыть шейку матки беременной женщины?., матку беременной женщины, из которой течет... беспрестанно течет...
(помолчав минуты две, продолжает):
... тогда я думаю, что мы все оттуда выходим... все!...»
И вот, вопреки этим научно обоснованным аргументам относительно внутриутробной агрессивности и несмотря на фантастические фотографии, опубликованные Л. Нильссоном в 1965 г., врачи, физиологи и психоаналитики продолжают повторять, что плод находится в материнском чреве в состоянии «блаженства» в течение всех девяти месяцев беременности. И каково же было мое удивление, когда я услышал о том, что М. Балинт дает следующее определение отношению между плодом и матерью: «гармоническое слияние путем взаимопроникновения». И каково же было мое разочарование, когда я увидел, что П. Гринакр все еще топчется на гипотезе «внутриутробной несовместимости»! Со своей стороны, микропсихоаналик устанавливает, что
а) гармонии между матерью и ее плодом не существует;
б) наоборот, для их отношений характерны попытки взаимного разрушения;
в) несмотря на свою жестокость, в маточной войне рождается жизнь, благодаря тому, что влечение к смерти оказывает случайное влияние на созидательную идэическую относительность пустоты:
Психоаналитик: «... каким чудом взрослому пришлось бы так страдать от страха, если бы в чреве своей матери он уже не переживал бы его?., параноидно-шизоидный страх и депрессивный страх проявляются гораздо раньше, чем грудному ребенку исполняется шесть месяцев... они предшествуют страху родовой травмы... как предполагал Крапф, лет тридцать назад, в своей работе о регулировании кислорода у плода...
(помолчав минут пять, продолжает):
... ваша «злая-добрая грудь», дорогая Мелания, восходит к эмбриональной жизни!., с другой стороны, вы сами уже предчувствовали это в своей работе «Зависть и благодарность»...
(помолчав минуты три, продолжает):
... пребывая в матке, плод находится в постоянной опасности... и если вдруг мать заинтересуется им, то это лишь ради того, чтобы удостовериться в собственном выживании... перед лицом разрушительных атак плода, материнские попытки самосохранения преобразуются в попытки отторжения...
... здесь и кроются настоящие корни синдрома брошенного ребенка... обусловленного ненасытной агрессивностью, связанной с внушающей страх неуверенностью самоуничижения... что позднее выстраивается в определенную структуру на основе прожитого эмбрионом чувства отталкивания со стороны матери... «Невроз брошенного» Жермэн Ге - это всего лишь проявление a posteriori... проявление того, что уже по-настоящему пережил брошенный матерью плод...
... по-моему, каждый плод является брошенным из-за клеточной несовместимости... и отчаянно борется за выживание... и когда он станет взрослым, он снова почувствует себя брошенным, перипетии судьбы напомнят ему о том, что его когда-то бросили...»
ДЕТСКАЯ ВОЙНА
В течение 266 дней (согласно норме МОЗ) - иными словами, с момента оплодотворения яйцеклетки и до завершения беременности - происходит одно из самых удивительных явлений во Вселенной:
оплодотворенное человеческое яйцо, становясь зародышем, а затем плодом вновь проделывает всю эволюцию от протозоа до метазоа и от беспозвоночного до позвоночного, а затем проходит все стадии развития человека.
. И вот наступает момент родов: в этой ожесточенной битве невозможно предсказать ни одного удара, ни одного захвата, ни одной передышки. Плодо-материнские попытки и со-вле-чения разрушения-сохранения действуют заодно, сопрягая свой агрессивный динамизм. Будучи далеко непредсказуемым, исход этого сражения является идэически алеаторным, даже если в значительной мере он зависит от: а) реакций плода перед лицом сокращений матки; б) лредлежания плода в сравнении с материнским тазом; в) от отношения между размерами плода и размерами таза матери.
Как только разорвется пузырь с околоплодными водами,. достаточно одного мгновения, чтобы произошло удивительнейшее явление:
при рождении, как при коротком замыкании, пролетают миллионы лет, что понадобились для совершения перехода от жизни в воде к жизни на земле.
Когда новорожденный делает первый вздох, он - на острие ножа: его дыхательная система, как дерево расправляет свои ветви, его легкие, до тех пор будучи склеенными, наполняются воздухом. И тогда он издает свой знаменитый первый крик, истинное выражение влеченческой амбивалентности: а) крик жизни, празднующий свою победу над множеством опасностей, таящихся в матке и над преградами узкого прохода через кости;
б) крик смерти, в котором находит свое выражение ужас перед неизвестным, в виду своей полной психобиологической уязвимости.
Однако, подобная амбивалентность не подтверждает теории невроза Ранка, которую ученый основывает на «трав-
ме рождения» относительно «состояния наслаждения, в котором плод пребывает в материнском лоне».
С точки зрения микропсихоанализа, рождение представляет собой скорее освобождение, чем травму.
И действительно:
а) мать и зародыш-плод находятся на ножах с момента зачатия до момента родов. Сами того не желая? Сами того не замечая? Возможно! И все-таки, на ножах. В подобном глубоко враждебном контексте рождение представляет собой для плода единственную возможность выжить. Таким образом, становится понятным, почему так мало успеха получили некоторые акушерские приемы, направленные на то, чтобы смягчить переход плода из лона матери во внешний мир, и заключающиеся в откладывании перерезания пуповины на некоторое время и в создании обстановки, воспроизводящей среду матки (полумрак, тишина, физиологическая температура, тесный телесный контакт с матерью...);
б) созревший плод, запаздывающий появиться на свет, ставит под угрозу свою жизнь. Если период беременности превышает на пятнадцать дней установленные сроки, то эта излишняя продолжительность приводит, по причине недостаточности в питании посредством плаценты, к синдрому болезни плода: нарушается его рост (прежде всего, рост головного мозга), а также сами роды значительно усложняются;
в) к огромному удивлению экспериментаторов электро-эн-целографические исследования показали совсем недавно, что почти все плоды находятся в состоянии сна во время родовых схваток и самих родов;
г) несмотря на то, что плод находится в состоянии полнейшей зависимости и умирает, если его бросить на произвол судьбы, внешний, окружающий его мир не является для него совершенно незнакомым. Он уже научился узнавать его и оценивать тысячи таящихся в нем опасностей, еще будучи в утробе своей матери (в частности, в течение стадии посвящения), поскольку воспринимал и регистрировал проникавшие сквозь нее внешние стимулы.
Будучи все время начеку, ставший теперь грудным младенцем новорожденный, меряется силами с жизнью. Делает свои первые попытки жить, которые - пока - в конце кон-
цов, сводятся к его матери, поскольку он еще не осознает себя вне матери. Плод сравнивает каждую свою клетку по отдельности и все вместе одновременно с тем, что я называю материнской географией, т.е. с телом матери, которую он теперь изучает снаружи. Согласно мнению социобиоло-гов Э. Уильсона и Р. Трайверса, это сравнение обусловлено и тщательно отрегулировано генетически. Агрессивный потенциал матери точно указывает грудному ребенку, насколько далеко он может продвинуться вперед в ходе своих непрестанных атак и когда он должен приостановить их.
Отношения между матерью и грудным ребенком настолько сложны и многообразны, что вне долгих сеансов невозможно составить себе о них точное мнение. По этому поводу, как и по многим другим темам, главный козырь микропсихоанализа заключается в изучении фотографий (диапозитивов, фильмов и других аудиовизуальных документов). В то время как Шонди, как он сам объяснял мне в 1953 году использует в своем проекционном тесте стандартные фотографии для того, чтобы установить «формулу влечений» индивидуума и ограничить «семейное бессознательное», я пользуюсь личными фотографиями анализируемого, а также фотографиями его родственников и друзей. Анализируемый комментирует их, рассматривая каждую деталь - одну за другой - в электрическую лупу и через увеличивающий проектор. Без такой техники мы сможем увидеть то, что изображено на фотографии так, как если бы мы рассматривали содержимое капли воды без микроскопа! С другой стороны, анализируемый очень скоро сам удостоверяется в этом: изучение фотографий всей его жизни - это один из необходимейших инструментов его микропсихоанализа. Он понимает, что если, как говорят китайцы, изображение «переворачивает вверх дном бессознательное» (В. Бснжамин) лучше, чем тысяча слов, то один час времени «потраченного» на изучение фотографии, может дать результат, равный тому, что достигается в течение целого сеанса. И, именно под «воздействием невысказанного, которое хочет высказаться...» между анализируемым и фотографией, с которой он как бы сдирает кожу, возникает своего рода пуповина (Р. Барт). Итак, именно изучение собственных фотографий в младенчестве открывает анализируемому глаза на истин-
ный размах войны, которую вели между собой его мать и он сам. Прежде всего, он осознает, что это была неравная и вероломная со стороны матери борьба. Он оказывается перед лицом «ложного присутствия» матери, которому я дал следующее определение: ложное присутствие это отсутствующее отношение матери, прежде всего, бессознательное, к своему грудному ребенку.
Мать наносит своему ребенку обиды с завидным постоянством и изощренным коварством, исподтишка, гораздо чаще, чем это можно было бы предположить. Эти обиды - выражение глубоко эгоистической или пронизанной духом соперничества агрессивности матери, которая:
а) возобновляет утробную войну;
б) образует структурную пару месть-возмещение, усложненную неврозом тревоги-чувства вины;
в) в зависимости от почвы участвует в создании предпси-хотического или психотического расстройства;
С технической точки зрения ложное присутствие матери проявляется с особой четкостью при рассмотрении фотографий, изображающих кормление младенца молоком из бутылочки:
Анализируемый: «...Я же так хорошо знал эту фотографию... я так любил ее ... и вдруг - какое горестное чувство!., какое безутешное страдание... какая безграничная
тоска...
{рыдания, перемежающиеся бесконечно повторяющимися, подобными вышеприведенным, жалобами):
... Боже мой... как я надоел своей матери... как же я ей надоел... каким изнуряющим бременем был я для нее!., какой тяжелой и лишней кажется эта бутылочка с молоком!., почему она отворачивается от меня?., она, наверное, смотрит телевизор?., кажется, что она даже не замечает, что соска выскользнула у меня изо рта... какой же я несчастный!,, я так безуспешно пытаюсь добраться до молока, а оно для меня недостижимо!..
(помолчав минуты две,продолжает):
... у меня мурашки бегут по спине от этого ее усталого безразличия... у меня кровь стынет в жилах от этой невыразимой усталости... я ясно вижу, что она хочет убить меня...
(помолчав минуты две, продолжает):
... мне чудом удалось спастись... какойужас!.. какая мерзость!., как я ее ненавижу!..
... какое счастье, что я понял это здесь... если бы этого не произошло... еще сегодня... я не знаю, чтобы я сделал!,.».
Кроме изучение фотографий иногда свободные ассоциации позволяют достичь того, что ложное присутствие проявляется весьма четко. И это становится особенно очевидным в контексте материала перенесения:
Часто повторяющиеся фразы: «... Если мы проделаем только пять сеансов на следующей неделе, вы меня больше не увидите!..» - «... я никогда не допущу, чтобы вы отменили сеанс только потому, что он приходится на Новый год!..» - «... Если бы Вы отменили сеанс из-за моего поведения, я бы покончил с собой...» - «... с меня хватит, я не могу больше выпрашивать у вас христа-ради еще один сеанс...» - «... я вас до смерти ненавижу за то, что у другого Вашего анализируемого больше сеансов, чем у меня...».
Существует еще один агрессивный тип поведения матери со своим грудным ребенком. Это безумное присутствие, которому я дал следующее определение: безумное присутствие - это в разной степени сознательное зверское отношение матери к своему грудному ребенку.
Оно особенно хорошо просматривается, даже если проявляется очень кратковременно, во взгляде женщины, кормящей грудью своего ребенка. Далекий, остекленелый или блуждающий взгляд безумной женщины в сумасшедшем доме. Являясь нарцистической проекцией ИДЭ, он выражает зверскую агрессивность самки по отношению к своему детенышу, которую ей с трудом удается сдерживать. Вот почему безумное присутствие:
а) приводит грудного младенца в непосредственное соприкосновение с пустотой;
б) увеличивает его близость с ней;
в) таким образом, вызывает в нем структурное образование иконических экранов, т.е. создание системы отношений энергетической защиты от пустоты между тремя уровнями Образа (онтогенетическим, филогенетическим и(идэическим).
Ставя грудного младенца в зависимость от вездесущей
пустоты, безумное присутствие сказывается, прежде всего, на физиологическом уровне. Конечно, безумное присутствие может предрасположить индивидуума к распаду невротического ядра и его психотизации в соответствии со своей интенсивностью, моментом возникновения и почвой грудного младенца. В ходе долгих сеансов и только «сдирая кожу» со своих фотографий, изображающих его в момент кормления грудью, анализируемый открывает для себя (и без направляющих указаний микропсихоаналитика) безумное присутствие матери. Это приводящее его в недоумение и часто пугающее открытие должно быть переработано в течение известного периода времени, прежде чем анализируемый осознает, а затем признает пустоту:
Анализируемая: «... На этой фотографии мне нет и месяца... моя мать кормит меня грудью... вся ее поза выражает удовольствие... гордость от того, что она кормит и ограждает от любых опасностей свое дитя... она нежно смотрит на меня...
... однако... теперь я разглядываю эту же самую фотографию в не очень сильную лупу... и я читаю в ее глазах какой-то странный блеск недоверия... будто она боится, что я нападу на нее... будто она боится, что я укушу ее... нет никакого сомнения - она настороже... и готова ответить на удар...
... возьмем более сильное увеличительное стекло... невероятно!., у нее совсем другой взгляд!., какой ужас!., у нее взгляд смертельно раненного зверя!., умирающего зверя!., у нее глаза уже не от мира сего... ах, вот это что!., у нее пустые глаза сумасшедшей... без любви и без ненависти... потухшие глаза... до ужаса безразличные...
(помолчав минут пять, продолжает):
... в чем здесывопрос, в пустоте или в безразличии?., я больше не знаю...».
Рассматриваемая при помощи микропсихоаналитической техники иконография грудного младенца представляет собой неизмеримый научный интерес. Например, благодаря ей становится возможным различить - как у матери, так и у ребенка - бессознательные признаки детоубийственной потребности, о которой говорит Д. Блок. С другой стороны, она должна по-
мочь углубить изучение многих педиатрических синдромов в специфическом контексте бессознательной агрессивности матери по отношению к своему ребенку вместо ласки и любви к нему. Таким образом, некоторые расстройства, вызванные кормлением молоком из бутылочки (гастроэнтерит, бронхит, менингит, астма, экзема ... мгновенная-смерть), можно объяснить только ложным присутствием матери, которое усиливает химическую устойчивость искусственного молока и его иммунологические недостатки или плохое усвоение жиров, железа, кальция. Кроме того, некоторые «психотические расстройства» грудного младенца в этом свете оказываются объективными «соматическими эквивалентами депрессии» (Р. Спиц), вызванные безумным присутствием в сочетании с особенной почвой.
Ложное и безумное присутствие доказывают, что грудному младенцу приходится завоевывать ценой больших усилий победу за победой над своей матерью, которая по-прежнему представляет для него наибольшую опасность. Почти до трехлетнего возраста он постоянно обнаруживает и оценивает эту опасность, развивая и оттачивая тем самым свои органы чувств. Вот почему в течение этого периода времени, когда ребенок не спит, он держит все свои чувства в состоянии боевой готовности или, если прибегнуть к термину экспериментальной психологии, находится в состоянии «внимательного бодрствования». Можно было бы подумать, что он не закрывает глаз безо всякой причины или же пассивно наблюдая за игрой света и тени, а на самом деле он бдительно следит за внешними проявлениями самых благих и потому самым коварным образом замаскированных агрессивных намерений своей матери.
Точно так же, даже зная, что грудной младенец обладает очень сильно развитыми аудитивными способностями, здесь мы открываем, что он обладает особенной чувствительностью к звукам низкой частоты. И в этом нет ничего удивительного, поскольку, находясь в утробе своей матери, он различал ее голос только на низких частотах. И нет ничего удивительного в том, что утробная война обусловила у него немедленную ассоциацию звуков низкой частоты с агрессивностью. Вот почему в ходе микропсихоанализа тональность голоса
анализируемого понижается по мере того, как углубляется обработка его невротического ядра. И как только оно ликвидируется, голос его" вновь устанавливается на средних частотах.
В своей работе я все время придавал огромное значение интонациям и модуляции голоса анализируемого. В ходе долгих сеансов, так же, как и свободные ассоциации, они являются явными признаками бессознательного. Кроме того, представляют собой ценный критерий состояния невроза и его излечения. Этот критерий является еще более ценным и безошибочным, поскольку, повторяю, находится в непосредственной связи с утробной войной:
Психоаналитик: «... Голос человека выдает его настроение, его чувства, его усталость или напряжение... все это знают... но долгие сеансы... и, прежде всего, тщательное прослушивание записей незаменимы при изучении голоса... по голосу микропсихоаналитик может проверять свое обратное перенесение, судить о целесообразности и эффективности предпринятых мер... что же касается анализируемого, интонация его голоса совершенно точно указывает на какой глубине сейчас ведется работа... и его модуляции являются чувствительным барометром вытеснения...
(помолчав минуты три, продолжает): ... а кроме того, с некоторых пор я начинаю испытывать большее доверие к «ассоциациям голоса», чем к «ассоциациям идей»... как и взгляд, слова могут лгать... но только не голос... каждый голос - единственный в своем роде... и я все больше в этом убеждаюсь... голос - это сигнал Оно, который выражается через бессознательное».
Говоря о мире чувств и о вызываемых ими реакциях, мне хотелось бы сделать уточнение по поводу улыбки грудного младенца в микропсихоаналитическом ключе. Поскольку, даже если прошло уже тридцать лет с тех пор, как Р. Спиц описал Улыбку как спонтанный психомоторный вид деятельности, и Десять лет прошло с тех пор, как нейрофизиологи сновидения (в частности, О, Петр-Каданс) доказали, что у новорожденного наблюдается парадоксальный сон, многие психологи продолжают утверждать, что «настоящая улыбка у ребенка
появляется только через несколько недель после рождения» (С. Тревартен) и что она выражает состояние блаженства, вызванное материнской лаской. Теперь же, и опять-таки благодаря изучению собственных фотографий в младенчестве, анализируемый в ходе долгих сеансов открывает для себя, что улыбка:
а) уже присутствует в момент рождения; б) но очень часто представляет собой при сильном оптическом увеличении ужасную гримасу, такое искажение черт лица, которое не предвещает ничего доброго. Создается впечатление, что улыбающиеся грудные младенцы поджидают удобного случая для того, чтобы отомстить матери:
Врач: «... знаменитая ангельская улыбка младенца появляется у него совсем не для того, чтобы сделать приятное ... мать, которая думает, что это так... а они думают, что это так... могла бы с таким же успехом вообразить себе, что море синее ради ее прекрасных глаз...
... как пение птицы, улыбка - это сигнал тревоги... сигнал к мобилизации влечений разрушений-сохранения... когда грудной ребенок улыбается, он устанавливает тем самым границы своей территории ...он дает знать, что он здесь... у себя дома... что теперь придется с ним считаться... и делить с ним жизненное пространство под угрозой лишиться его совсем... когда мать вступает в игру с ним... и тоже улыбается... она делает это не потому, что хочет сделать приятное своему ребенку... а затем, чтобы заявить ему о своих преимуществах и прерогативах...
... и я бы не колеблясь поддержал идею о том, что... улыбку порождает естественная взаимная агрессивность, существующая между матерью и ребенком...».
Поскольку детская война ставит ребенка в отношение противоборства не только с матерью, но и с окружающим его миром, он никогда не складывает оружия. Исходя из энергетической канвы ИДЭ и под влиянием влечения смерти-жизни младенец оттачивает свои агрессивные и сексуальные совлечения, находясь в постоянном контакте с окружающей средой. Тогда Оно уступает часть самого себя для того, чтобы образовать Я, и отсюда Сверх-Я:
а) Я образовывается как защитная «буферная» инстанция и пытается приспособить Оно к внешнему миру, т.е. подчинить его принципу действительности. Его поверхностная часть, т.е. та, что может стать сознательной, представляет собой видимый фасад индивидуума, тот фасад, который он показывает самому себе и которым поворачивается к обществу, чтобы завоевать его симпатию. Поскольку Оно постоянно его пришпоривает, Я беспрестанно придумывает все новые и новые уловки. Когда поражают бессознательную часть Я, его ответом является тревога, которая затем метаболизи-руется, причем, на это уходит большая часть энергии;
б) Сверх-Я образует запрещенную инстанцию и пытается создать мораль. Т.к. Оно подгоняет и Сверх-Я, Сверх-Я пытается избежать его ловушек и перевоспитать Я. Оно и Я подвергаются постоянному обвинению - сознательному и, прежде всего, бессознательному - со стороны Сверх-Я, что выливается в чувство вины, которое затем метаболизируется на психосоматическом уровне, причем, это тоже стоит затрат энергии.
Воинственная ультраспециализация, которую представляют собой эти инстанции, - не роскошь, поскольку теперь ребенок будет иметь дело со всей семьей в полном составе. Дело в том, что с завидным упорством, которого никто и ничто не может изменить, его коварные враги не упускают случая устроить ему западню и нанести ему жестокий удар. Их стратегия -сознательная и бессознательная, произвольная и непроизвольная - разворачивается на двух фронтах:
а) на соматическом фронте. Не задерживаясь долго на микротравмах, которых родители и родственники беспрестанно наносят ребенку с неслыханным коварством, я хотел бы лишь подчеркнуть, что: 1) каждый год 100 тысяч детей бывает замучено до смерти своими родителями; 2) ежегодно 10 миллионов детей бывает изуродовано на всю жизнь по вине своих родителей:
Психиатр: «... в 1974 году в Женеве состоялся международный симпозиум по изучению увечий, нанесенных родителями своим детям... доклады, сделанные педиатрами, психиатрами, психологами, социологами, юристами показали, что синдром избиваемого родителями ребенка отнюдь не редкость в медицинской практике... что дети, забитые насмерть своими родителями, тоже далеко на редки... что зверство родителей очень часто прорывается наружу безо всякого предлога... и что причина разрушения существует сама по себе... короче, ребенка избивают ради того, чтобы его избить, ребенка убивают ради того, чтобы его убить... в соответствии с неизменным стереотипом... и с неумолимым бесчувствием... (помолчав минуты две, продолжает): ... хотя и бесполезно приходить от этого в ужас... но многие проблемы до сих пор остаются неразрешенными... например, как объяснить, что 80% избиваемых родителями детей нет и трех лет, что мальчиков избивают гораздо более жестоко, чем девочек... что мать с особой жестокостью избивает недоношенного ребенка, ребенка с врожденными физическими и умственными дефектами?.. ... как бы из злости от того, что ребенок был ею изувечен еще во время беременности...
...и, прежде всего, как объяснить, что эта агрессивность проявляется независимо от социального и культурного уровня?..
(помолчав минуты три, продолжает): ... и тут мне в голову приходит мысль... ядро отношений между матерью и ребенком должна составлять ненависть... питаемая чем-то вроде нейтрального асексуального садизма...».
б) на уровне психическом. И здесь тоже цифры более, чем красноречивы: 1) ежегодно 10 миллионов детей продается своими родителями; 2) 100 миллионов детей бродяжничает и побирается по миру, потому что их покинули родители. И кроме микропсихоаналитика никто не может измерить истинный размах умственной жестокости нормальных родителей. Судя по материалу долгих сеансов, можно придти к выводу о том, что нормальные родители располагают двумя средствами для того, чтобы нанести незаживающие раны психизму ребенка: 1) doubble bind или двойная связь, состоящая из противоречивых и несовместимых требований, одновременно предъявляемых ребенку; 2) взаимное непонимание и вражда между собой, что противопоставляет их ребенку. Несмот-
ря на то, что dubble bind часто принимает невинные формы совершенного садизма, прежде всего, раздоры между родителями лишают ребенка устойчивого ориентира, который раскалывается надвое, и, следовательно, ребенок ищет убежища в душевном расстройстве; это можно рассматривать как последнюю сознательную попытку сохранить свою личную цельность и семейный союз:
Анализируемая: «... Я до сих пор чувствую незаживающую рану, которую мне нанесли мои родители... их постоянные ссоры между собой... у меня до сих пор звучат в ушах: «иди туда... иди туда... убей ее... разорви ее на куски, съешь ее... уничтожить ее, пусть она сдохнет... сдохнет... чтобы я могла жить...»
(помолчав минуты две, продолжает):
... эта месть... эта месть...
(помолчав минут пять, продолжает):
... до сих пор аборт приводил меня в ужас... казался мне преступлением... мне хотелось быть женщиной-самкой... мне хотелось окотиться как кошка...
... а сегодня... если выбирать между таким преступлением, как аборт, и таким, как жизнь в семье, я предпочитаю первое... и теперь мне хотелось бы закричать об этом на все четыре стороны... закричать о том, что живущие вместе члены одной семьи - преступники... и меня удивляет, что так мало молодых людей убивает собственных родителей...».
ВЗРОСЛАЯ ВОЙНА
У человеческого существа не так много возможностей для того, чтобы катаболизировать скрытую ненависть (а понимать ее нужно без каких-либо назидательных намерений), которая накопилась в нем в течение утробной и детской войн. При причине Сверх-Я, стремящегося контролировать невероятные ухищрения, на которые идет Оно, человек вряд ли может выместить ее на своих родителях или родственниках. Таким образом, сначала он пытается обратить месть против себя самого, что вызывает в нем почти полную гамму переживаний (к тому же он очень активно действует в этом смысле, при-
чем, никто не сомневается в этом ни на йоту) или кончит жизнь самоубийством.
Все больше и больше подростков и во все более и более раннем возрасте выбирают самоубийство как освобождение, поскольку они не способны разрешить психосоматически агрессивную фиксацию своей утробно-детской сексуальности. Без каких-либо различий - расовых или половых, вопреки некоторым статистическим данным - самоубийство все чаще становится основной причиной смерти у молодых людей. Вот два примера самоубийства подростков, которые я взял из своего дневника:
Париж. Единственная встреча с шестнадцатилетним Д., которая состоялась по просьбе родителей. Его тело было найдено некоторое время спустя в Сене:
«... Есть ли что-нибудь более омерзительное, чем жизнь?., думать, что мы живем, когда разговариваем с кем-нибудь или когда кто-нибудь разговаривает с нами... думать, что мы живем, когда едим или пьем... когда смеемся или плачем... как долго еще придется разыгрывать этот фарс перед другими?... как долго еще придется выносить жизнь ради других?., неужели то, чем мы живем, -это жизнь?
... слушать, подчиняться, следовать за кем-нибудь по' какому-то пути?., заниматься своим делом?., каким делом?... думать, формулировать... быть правым или неправым... какая разница?., и все что-то говорят... может быть, гораздо больше правды в том, чтобы ничего не говорить... зарабатывать себе на жизнь..., как, зачем?.. (помолчав секунд тридцать, продолжает): ... мой отец зовет меня... вы слышите его?., вы слышите этот голос?., я ненавижу свое имя... страшно ненавижу... что мешает моему отцу сдохнуть?., он делает то, что может... и делает совсем не то... ... моя мать - это совсем другое дело... (помолчав минуты две, продолжает): ... мне ничего не интересно... когда я сижу на уроках, у меня встает... я зеваю... у меня опять встает... я очень устаю...
... я вас не буду смущать, если я буду ласкать себя?., мне не нравится слово «онанировать»... ласкать себя здесь... так, как я это делал сотни раз, когда бывал один... если же я буду заниматься этим перед вами, я одержу верх над самим собой...
... и смогу преодолеть то, что меня всегда сковывало... я смогу, наконец, сделать подарок... себе, вам...
(помолчав минуты две, продолжает):
...когда гомосексуализм настоящий, у него больше нет названия...».
Токио. Я только что вошел к С. Она молча протягивает мне руку. Я никогда не забуду ее огромных черных глаз. Очень худая. Молча пристально смотрит на меня как на вещь. На ковре разбросаны книги. Я заметил потом, что она хорошо знала их. Селин, Достоевский... Мы провели вместе час. Она неподвижна. Ее блестящие глаза не отрываясь следят за мной. Я собираюсь уходить, когда она решительным жестом кладет мне на руку свою длинную и холодную руку: «Я должна увидеть вас еще раз.» Ей шестнадцать лет. Она приходит ко мне, и мы идем в театр Но или в бистро «У Вийона». В этом французском бистро в центре Токио мы слушаем Моцарта, Баха, Дебюсси целый вечер. Она продолжает смотреть на меня, не говоря ни слова. Однажды она протягивает мне записку:
«Я бываю с вами, потому что люблю бывать с вами. Не беспокойтесь так. Воля здесь ни при чем. Я уже разработала план своей смерти. Я рассматриваю в свое удовольствие свою собственную гибель. И в этом нет ничего удивительного».
Она положила мне руку на запястье: «Вы не могли бы лишить меня девственности прежде чем, я умру?» Глядя на почти вонзившиеся мне в кожу ногти и на покрасневшую от моей крови руку, она спокойно добавила: «Не смогли бы вы это сделать ударом ноги мне между ног? Одним ударом ноги разнести мне живот... разбить его вдребезги, чтобы оттуда посыпалось все его содержимое?..».
... Однажды она не пришла на свидание... У нее на посте-пи, в изголовье, нашли «Чуму»... Я сказал об этом Камю, и тот ответил мне: «Что же делать, когда происходят такие трагические случаи?»
Что же делать, если еще вдобавок мы знаем с научной точностью, что наибольшая часть этих юных самоубийц представляет собой единственных подростков, которые не лгут? И, действительно, не остается ничего иного сделать, как признать, что самоубийство ничего не меняет. Ни для самоубийцы, ни для кого-либо вообще. Т.к. с сугуба идэической точки зрения, признав, что удавшаяся попытка по существу ничем не отличается от неудавшейся, самоубийство - это нейтральная попытка. Я выразил бы это так: а) самоубийство - это удавшаяся попытка уничтожить страх смерти вплоть до ее отношения со страхом пустоты; самоубийство - это неудавшаяся попытка уничтожить Образ вплоть до его идэического уровня.
Самоубийство по большей мере может вызвать на мгновение процесс обратного движения (в смысле возврата к пустоте и исключительно в сравнении с построением психобиологических сущностей) психики и соматики. Это чрезвычайно относительный процесс, поскольку он автоматически заменяется созидательной функцией пустоты, которая по воле случая делает конкретными колебательные интерференции ИДЭ, начиная с минеральных и растительных, животных и человеческих потенциальных возможностей. Итак, что же может быть более бесполезным, с идэической точки зрения, чем самоубийство?! В ходе микропсихоанализа^постоянно повторяемая людьми в угнетенном состоянии духа фраза: «Нет ничего, ради чего стоило бы жить!» превращается в иную: нет ничего, ради чего стоило бы покончить с собой!
Взрослый человек обычно сводит счеты со своей утроб-но-детской жизнью, прибегая к приему, который гораздо больше подражает псевдоподическому динамизму ИДЭ, чем самоубийство, а именно, к проекции. Он бессознательно выбирает замещающих родительскую инстанцию лиц, используя их как козлов отпущения. Затем этот скрытый бунт уступает место потребности в отмщении, и используя инкогнито, предложенном ей проекцией, месть разражается со всей безграничной и неукротимой яростью, характерной для ИДЭ. Таким образом, превратившись в исполнителя своей собственной идэической непримиримости, человек убивает по одной-един-ственной причине: только потому, что он должен убивать.
Убивать - это неизбежный закон ИДЭ, психобиологическая необходимость. Представляет ли собой эта нейтральная агрессивность нечто присущее человеческой природе или она характерна для всего живого рода? Самые последние исследования доказывают, что любое намерение убить у животных (включая и излишние, кажущиеся необоснованными убийства) связаны с выживанием индивидуума или особи. Таким образом, вместе с Э. Фроммом, различающим «злую агрессивность» человека и его «страсть к уничтожению» и простую животную агрессивность, направленную на выживание, я предлагаю сделать следующий вывод: за исключением человека ни одно животное не убивает ради убийства как такового.
Врач: «... Количество животных... подобных ему или нет... которых человек истребил и продолжает истреблять... переходит все воображаемые границы... конечно, мы давно знаем, что бесчисленное количество животных существует только для того, чтобы их пожрали другие животные... которых в свою очередь пожрут третьи... однако, настало время признать, что ни одно животное не убивает так много, как человек...
... повторять, что эта жестокость необходима для выживания... и что без нее человек бы погиб уже на одной из ранних стадий человеческой эволюции - типичная ложь...
(помолчав минуты две, продолжает):
... правда заключается в том, что наш ИДЭ, ИДЭ homo sapiens'a испытывает тоску по пустоте... роль царя природы, которую играет человек, лишь маскирует слепое желание уничтожения... желание, которое не имеет ничего общего с нами... и существует само по себе, независимо от нашей воли...
(помолчав минуты две, продолжает):
... с другой стороны, человек смутно ощущает... и это ощущение рождается как бы внутри каждой клетки... что он появился на свет вопреки самому себе... и что он продолжает жить по воле случая...
... и... я даже добавил бы так, в насмешку... что в теле человека достаточно глицерина, чтобы сфабриковать несколько килограммов взрывчатки...
... вот что не дает мне покоя...».
Многие этнопсихоаналитические данные проясняются при изучении их в свете нейтральной агрессивности ИДЭ. Например, становится понятным почему: а) основной антропологический признак человека - убивать - стал его основным табу: не убий! б) универсальность этого табу современна появлению самого человека, как это доказывает изучение И. Эйбл-Эйбесфельдтом первобытных племен; в) это табу неизбежно приговорено к неэффективности, потому что оно противоречит типичному, идэическому желанию; г) необходимость в нарушении этого первобытного табу тяготит человека и заставляет его чувствовать себя виноватым, причем, его Оно на психобиологическом уровне знает, что тот, кто не убивал, -это всего лишь потенциальный убийца.
То, что разрушительные явления преобладают в человеческом сообществе, совершенно совпадает с идэической точкой зрения на агрессивность. И действительно, увеличивая индивидуальную агрессивность, связывая ее синергически и многократно ускоряя ее фиксацию, сообщество людей совершенно естественно выполняет роль катализатора колебаний ИДЭ. Если бы безусловно это было не так, тогда было бы возможным существование общества без убийств. А в нашей истории нет примера такого общества, нет вплоть до исключения, подтверждающего правило. Вот почему я отнюдь не преувеличиваю, если утверждаю, что
а) убийство - это идэическая константа любой цивилизации и непременное условие перехода от одной цивилизации к другой;
б) взрослая война, за исключением параноической обработки горя, о которой говорит Ф. Форнари, зиждется на том, что я бы назвал коллективным навязчивым повторением, которое подчиняется универсальному нейтральному динамизму ИДЭ и сообразуется с влечением смерти согласно принципу постоянства пустоты;
в) человек отнюдь не убивает по уважительным политическим, идеологическим и религиозным причинам, которые он сам себе придумывает. И ни по причине «излишней преданности», и ни потому, что его якобы толкает на убийство «гипнотическая власть слова», как утверждает А. Кестлер.
И было бы ошибочным продолжать верить в то, что человек сначала создает более или менее четкую идею, а затем убивает или позволяет себя убивать, защищая её. ИДЭ, ставший человеком, не только насмехается над политическими и идеологическими изменениями и религиями, но и обличает их повседневность, т.е. разоблачает их крайнюю относительность и полнейшую несостоятельность.
Если постоянно повторяющаяся разрушительная деятельность человека до настоящего времени оказывала только временные и местные эффекты, то теперь, насколько кажется, она превратилась во все нарастающую идэичёскую коллективную эскалацию. Возможность мгновенной глобализации разрушительных попыток означает, что все или почти все может быть окончательно уничтожено. Кроме того, сверхдержавы располагают детально разработанными планами уничтожения Земли. Оптимизм Тейлора по поводу того, что атомная бомба сможет умерить агрессивность человека, трогательно наивна:
Физик: «... Только что создана еще одна, новая бомба... разрушительная сила которой в 1 000 раз превышает силу той, что была сброшена на Хиросиму... да нет, в миллион... или в миллиард раз... это верно, в миллион миллиардов раз более разрушительная... как зулу, возвращающиеся восвояси после сражения мы по пальцам будем пересчитывать оставшихся в живых... один, два, три.., много людей... дойдя до трех, наше воображение, так же, как и их воображение, исчерпывает свои возможности...
... короче! «не убий!» - со времен пращи и камня... позволило нам дойти до атомной бомбы... о которой говорят, но которую никогда не применят... никогда, потому что у нас есть нечто другое, то, о чем мы никогда не говорим, но обязательно применим... (помолчав минуты три, продолжает):
... для человека, который в течение десяти тысяч войн замучил и уничтожил 4 миллиарда человек... столько же, сколько сейчас живет на Земле!., неизбежная гибель человечества никого больше не удивляет... вот почему в то время как готовится эта новая катастрофа, все лишь бесплодно критикуют друг друга, протестуют против ничтожных бесполезных вещей...
...все это должно соответствовать обету, который не может быть совершенно бессознательным... никогда еще в обществе идея смерти не была такой захватывающей... и никогда еще не была такой очевидной...
... смерть?., ну, так что же ... человек настолько чувствует себя под постоянной ее угрозой.-., и он настолько измучен этим ощущением... что даже желал бы, чтобыэта угроза скорее осуществилась... и, если возможно, в космическом масштабе... в таких размерах, чтобы пламя, в котором горел древний Рим, или едкий дым современных крематориев вызвали бы только улыбку...
(помолчав минут пять, продолжает):
... и скоро, очень скоро наступит это время!., этим периодическим предсказаниям конца света скоро наступит конец..., т.к. даже если, в сравнении с потенциалом ИДЭ, человеческие попытки ничего не изменили... их взаимодействия удваивают агрессивность... вплоть до того, чтоона ускользает из-под какого бы то ни было контроля... (помолчав минут пять, продолжает):
... преступность среди молодежи, как мы ее называем... в ожидании того, что эти юноши превратятся в законченных террористов... они - ничто иное1 как прототипы этой цепной идэической реакции агрессивности... их разрушительное безумие исходит из самого сущего ИДЭ... который образует пустоту, распространяя нечто вроде нейтральной анархии, у которой нет будущего...
...не являются ли орды новых варваров, возникающих повсеместно, предвестием новой катастрофы? если это на самом деле произойдет, мы получим явное доказательство динамической относительности ИДЭ... которое продолжало бы действовать здесь и там... так или иначе...».
Случайные интерференции идэических колебаний и происходящее наугад устройство попыток предъявляют людям счет в один и тот же срок. Поскольку каждая клетка и каждая психическая инстанция имеют возможность функционировать как самостоятельный идэический взрыватель агрессивности, то можно представить себе потенциальный размах предстоящей психобиологической революции. И насколько трагической она будет, если мы знаем, что настоящий раз-
рушительный разгул представляет собой - в том, что касается ИДЭ - всего лишь невинную перепалку забавы ради. Движимое более или менее бессознательным паническим чувством все возрастающее число людей пытается узнать, что происходит в них самих. И тут они замечают, что они приспособлены к этому не больше, чем несколько мгновений назад, в каменном веке к изготовлению каменных орудий.
И здесь тоже, как кажется, опять наступает черед микропсихоанализа. Преимущество, которое дает нам знание пустоты-ДНВ-ИДЭ и идэического Оно по отношению к бессознательному позволяет нам выработать научный подход к агрессивности, и, прежде всего, позволяет дать ей новое энергетическое определение в нейтральных терминах. Позволяет определить агрессивность в том же порядке, что и сновидение, от которого она зависит, и сексуальность, которая является ее естественным физиологическим выходом: агрессивность - это деятельность, а не влечение или инстинкт.
Она выражает идеосинкразическое функционирование шарнира Оно, то есть такую синергию между нейтральной энергетической канвой попыток и динамизмом совлечений, какую психобиологические, психические и соматические сущности стремятся объединить в достижение общей цели ауто-или гетеронасилия:
Психиатр: «... Агрессивность - это один из камней преткновения... каждый предлагает свою теорию... в 1971 г. более двух тысяч аналитиков обсуждали эту проблему на международном конгрессе в Вене... даже спокойная Анна Фрейд не смогла примирить спорящих...
... агрессивность - это инстинкт?., сексуального порядка?., влечение?.. Оно, Я или того и другого вместе?., защитный механизм?., реакция разряда... присущая либи-дозному заполнению?., движущая сила?., рефлекс?., обуславливает ли она сама себя?., переплетение Эроса и Тана-тоса, в котором превалирует Танатос?.. естественная судьба влечения смерти?., и так далее...
(помолчав минуты две/продолжает):
... нейрофизиологи агрессивности периодически появляются на первых страницах журналов... заголовки которых можно сжато изложить следующим образом: «Аг-
рессивность, наконец, обуздана...» и под таким заголовком картинка, на которой изображен Дельгадо, мгновенно останавливающий быка посредством дистанционной электростимуляции специфической зоны головного мозга... в этих статьях мы открываем, что у кошек есть мимика, и у обезьян тоже, если подвергнуть их особым лабораторным опытам...
... скоро не останется ни одного института экспериментальной психологии и ни одного медицинского училища, где бы не было исследователей, специализирующихся в изучении агрессивного поведения... благодаря их работам топография основных центров агрессивности головного мозга теперь известна... центры боковой части гипоталамуса и центры средневентральной части tegmentum'a межуточного мозга являются центрами раздражения... в то время как средневентральные центры zunomojumvcu, среднедорсальные таламуса и серое центральное вещество межуточного мозга являются центрами торможения...
(помолчав минуты две, продолжает):
... но по мере того, как движется вперед техника исследования головного мозга, эти центры множатся... внезапно мы открываем, что нервная организация агрессивности гораздо сложнее системы пирамидных и экстрапирамидных проводящих путей... и, наконец, если нейрофизиологам и удалось классифицировать определенные анатомические пути агрессивности... то они вот-вот ускользнут из-под их власти...
... работа, посвященная Лаборитом агрессивности, демонстрирует эту неудачу, постигшую нейрофизиологов... таким образом, когда он пытается подвести биологические основы под агрессивное поведение, ему приходится следовать окружным путем, ведущим через архаический мозг рептилий Макпина... и затем теряется в лим-бической системе и в «эффективности» врожденных и специфических схем... впрочем - и это предал - в оглавлении его книги нет вообще слова «агрессивность»!..
(помолчав минуты две, продолжает):
... бихевиористы и необихевиористы тоже интересуются агрессивностью... но их опыты, тесты... разрабо-
танные в лаборатории и проведенные на определенных группах населения и представленные в статистической интерпретации... не оказывают большой помощи в углублении знаний об агрессивном поведении, они приводят к решительно бесплодной объективности, включая то, что подтолкнуло Долларди к теории фрустрации-агрессии...
... этологи публикуют почти везде с большим увлечением проведенные исследования... самое большое достоинство их заключается в том, что они разграничивают инфра- и интерспецифическую агрессивность ... и показывают, какую роль каждая из них играет в выживании индивидуума и особи...
... но большинство из них увязает в генетически предопределенном агрессивном инстинкте... который при нравоучительных намерениях становится «неизбежным злом»... и это еще более горестно, потому что их объяснения часто следуют психоаналитическим путем... для Лоренца, например, агрессивность функционирует инстинктивно, начиная с постоянной и специфической энергии, которая накапливается постоянно до тех пор, пока не достигнет критического порога разряжения... и тогда, эта «гидравлическая модель» напоминает принцип постоянства и удовольствия...
(помолчав минуты три, продолжает.):
... вот до чего дошли наши ученые... в конечном итоге, они - благонравные философы... которые ставят перед собой вопрос о том, являются ли агрессивными пожирающий своего укротителя лев и склевывающая своего червя курица... и для того, чтобы ответить на этот вопрос, превращаются в юристов международного права... подводя законодательную основу под вооруженную агрессию, под косвенную экономическую, психологическую агрессию, под осуждение и угрозу осуждения агрессора...
(помолчав минуты две, продолжает;:
... верно, что за пределами микропсихоанализа любое понимание явления агрессивности является иллюзорным... как можно придти к научному пониманию агрессивности, не прочувствовав и не познав ее - в ходе долгих сеансов!., при анализе взаимного переплетания, наложения одной на
другую, тысячи разломов и разрывов своих собственных попыток... это взрывающиеся каждая по отдельности петарды... и наполняющие тайком пустоту, которая могла бы поддержать траекторию какой-нибудь другой случайной попытки... которая в свою очередь снова могла бы кануть в пустоту...
(помолчав минут пять, продолжает):
...отныне для меня агрессивность располагается на уровне энергетики нейтральных попыток...
... и я думаю, что таким образом мне удалось преодолеть свою самую большую трудность... которая заключалась в уподоблении ИДЭ агрессивному инстинкту...».
Если вспомнить, что а) попытка представляет собой совокупность элементарных попыток в процессе взаимодействия; б) элементарная попытка представляет собой совокупность идэических колебаний в процессе интерференции; в) каждая элементарная попытка или колебание пересекают туда-сюда траектории других элементарных попыток и колебаний, то станет понятным, что эти взаимодействия-взаимоинтерференции-взаимопересечения включают в себя явления идэического вмешательства, т.е. явления нейтральной агрессии энергии в процессе психоматериальной и психобиологической организации. Агрессивность, основанная на динамизме, который естественно пересекается с элементарной попыткой и идэичес-ким колебанием, действует, мобилизуя всю силу ИДЭ и сообразовываясь с принципом постоянства пустоты. Отсюда можно с уверенностью утверждать - прибегая к формулировке, которая подходит ко всем трем войнам (утробной, детской, взрослой), что агрессивность - это динамические связывающее звено между энергетикой ИДЭ и влечением смерти.
Агрессивность действия? Конечно.. Но не в том смысле, который придавал ей Адлер, согласно которому агрессивность -это иногда инстинкт, иногда влечение. И не в том смысле, как ее понимал Фрейд, который сделал из концепции действия «универсальный и необходимый для всех влечений атрибут», связанный со «способностью привести в действие двигательную систему». Однако, интересно заметить, что, в конце концов, Фрейд уподобляет агрессивность толчку влечений и, таким образом, приближается к пониманию агрессивности как
неотъемлемой части идэической универсальной деятельности.
С точки зрения микропсихоанализа и сообразно определению деятельности совлечения вступают в действие а posteriori и имеют второстепенное значение несмотря на то, что они стремятся привлечь идэическую энергетику агрессивности к достижению той же психобиологической цели. Специфические агрессивные совлечения, т.е. те, что обладают своей собственной целью, непосредственно связанной с общей целью деятельности, представляют собой:
а) совлечение разрушения, направленное на уничтожение источника со-влечений или внутреннего объекта. Это со-вле-чение управляется самим человеком и, прежде всего, является саморазрушительным. Неудача в достижении первичной цели (что происходит гораздо чаще, чем это дает понять классический психоанализ) облегчает проекцию этого совлечения на внешний объект и стремится свести его к динамизму самосохранения;
б) со-влечение сохранения, направленно на сохранение источника со-влечений или внутреннего объекта путем разрушения - частичного или полного - любого внешнего противодействующего объекта. Оно сводится, таким образом, к динамизму разрушения в целях обеспечения экономического гомеостазиса самого человека;
в) со-влечение агрессии, которое в сочетании с со-влече-ниями разрушения и сохранения ставит себе на службу сексуальность. Оно направлено на внешний объект, случайно оказываясь в прямой или символической связи с сексуальным совлечением.
Подводя итоги можно сказать, что будучи нейтральной и относительной по отношению к идэической сущности, агрессивность:
а) возникает вопреки самой себе по воле энергетики ИДЭ, которая объединяет ее с влечением смерти;
б) сохраняется благодаря силовым линиям сети, которую образуют идэически колебания и попытки;
в) черпает свою нейтральною универсальность вдоль этих энергетических линий, а также свою внутренне присущую аспецифичность и свою аморальность;
г) основывает на этом безразличие между разрушением и сохранением, что характерно для ее совлеченческого функционирования, которое создается по мере того, как образуются лсихобиологические структуры совокупностей попыток.
Сможет ли изменить судьбу человека микроанализ, дающий агрессивности новое, созданное на основе идэической нейтральности, определение? На коллективном уровне имеет значение только эффективность внутренних психических изменений. На индивидуальном уровне - у него все козыри. (Однако, нельзя упускать из виду, что индивидуальные сочленения разрушения-сохранения имеют коллективные корни, с которыми те находятся в постоянном осмосе). Как бы то ни было, уметь понимать всю подноготную моментов разрушения-сохранения, характерных для агрессивности, на мой взгляд, является просто элементарным приличием... И кроме того...
Знание пустоты и знание энергетической модели ДНВ-ИДЭ позволяет выявить три уровня воздействия их на агрессивность:
а) на уровне ДНВ-ИДЭ. Это предполагает вмешательство в гранулярную энергетику. Итак, поскольку первичная эволюция располагается по эту сторону нашего психоматериального мира, на нее невозможно оказывать непосредственное влияние. А можно ли делать это через пустоту в качестве посредника, поскольку она располагается непрерывно по ту и другую сторону условной границы? Может быть, но пока мы не располагаем возможностями, чтобы проверить это. Зато можно было бы представить себе, что ИДЭ начинает случайно актуализировать неизвестные доселе возможности попыток, повышая тем самым сохраняющую роль агрессивности. Подобное идэическое изменение, если мы захотим его так назвать, могло бы стать настоящим шансом выживания только в том случае, если оно психически стабилизируется (в представлениях, аффектах, призраках). Или же биологически (посредством генетики). Из того, что мы знаем об эволюции, для подобной стабилизации потребовалось бы несколько поколений;
б) на уровне идэических колебаний. В этом случае все зависит от пустоты, находящейся в процессе психоматериальной организации. Несмотря на то, что многим лауреатам Нобелевской премии удалось сфотографировать пустые про-
странства (сфотографировать «то, чего не существует!») между частицами электромагнитной волны; несмотря.на то, что им удалось уничтожить эту волну, бомбардируя пустые пространства; физика и химия в настоящее время гораздо меньше овладели пустотой, чем микропсихоанализ. И действительно, не только психическая бомбардировка пустоты имеет место в ходе каждого долгого сеанса, но микропсихоанализ умеет еще и искусно управлять ею. Под этим углом зрения серия направленных на идэическую энергетику агрессивности микропсихоанализов смогла бы привести к психическим изменениям, создавая посредством общения между бессознательным и сознательным нечто вроде клона с контролируемой разрушительной силой;
в) на уровне попытки. Чем бы ни вдохновлялся психоанализ, сознает он это или нет, предметом его исследований является совокупность пЪпыток, которые в свою очередь образуют психобиологические сущности и создают признаки совлечений. Однако, только микропсихоанализ изучает попытки как таковые и следует в своем изучении за ними по ту сторону бессознательного и Оно, вплоть до их безличной энергетической канвы. Таким образом, в то время как классический психоанализ работает над агрессивностью, условная организация которой выражается в представленных им аффектах, микропсихоанализ доходит до самой сердцевины универсальной нейтральной агрессивности и даже способен вызвать психобиологическое изменение агрессивной экономики: иначе говоря, микропсихоанализ в состоянии продлить жизнь индивидуума. Как я только что сказал, вызванные подобными изменениями последствия на коллективном уровне возможны, но их весьма трудно оценить.
Пункты б) и в) могли бы дать некоторую неясную надежду на выживание человечества. Со своей стороны, микропсихоаналитики, как кажется, обладают монополией. На психическое постоянство, гораздо более трезвое и ясное, чем религиозное терпение, которое заставляет фанатически переживать катакомбы, арены с дикими зверями и священные войны. Здесь же речь идет о постоянстве приносить в жертву на этой Земле скорее самого себя, чем кого-либо другого, если это необходимо. Того другого, кто в силу обстоятельств еще не научился этой новой жертвенности.
Динора Пайнз
БЕРЕМЕННОСТЬ И МАТЕРИНСТВО*
БЕРЕМЕННОСТЬ И МАТЕРИНСТВО: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФАНТАЗИЙ И РЕАЛЬНОСТИ
Для многих женщин беременность и деторождение становится колоссальным сдвигом к зрелости и повышению самооценки; однако другие не приходят к здоровому решению в этой сфере, а находят лишь патологический путь, кончающийся потенциально вредоносными и нагруженными виной отношениями мать-дитя. Ситуацию беременности у очень молодых женщин и особенности раннего периода отношений мать-дитя ярко обрисовали нам Бибринг и соавт., Бенедек и другие авторы. Изучив эти работы и соотнеся их с собственным опытом психоаналитического и психотерапевтического лечения беременных и молодых матерей, я пришла к предположению, что в ряде случаев возможно предвидеть патологический исход и, следовательно, своевременным вмешательством предотвратить послеродовую депрессию.
Первая беременность - время стресса, в особенности для молодой женщины, у которой психическое равновесие, необходимое для того, чтобы иметь дело с непрестанными требованиями беспомощного, зависимого человечка, еще не установилось надежно. Одна из наиболее выразительных черт, на которые надо обращать внимание во время анализа беременных, это возврат ранее вытесненных фантазий в предсознание и сознание и судьба этих фантазий после рождения реального ребенка. Нелегкие конфликты, принад-
* Д. Пайнз. Бессознательное использование своего тела женщиной. СПб. 1997.
лежащие прошедшим стадиям развития, оживают, как это бывает в любой кризисной точке человеческой жизни, и молодая женщина должна заново приспосабливаться к своему собственному внутреннему миру и к внешнему объектному миру. В это время она нуждается в эмоциональной и физической поддержке и заботе, чтобы она, в свою очередь, могла помочь своему ребенку и облегчить ему вхождение в жизнь. Суть этой адаптации женщины на пути к зрелости состоит в достижении устойчивого и удовлетворительного баланса между бессознательными фантазиями, мечтами и надеждами и реальностью отношений с самой собой, мужем и ребенком.
Беременность, в особенности первая,- кризисная точка в поиске своей женской идентичности, ибо это точка, из которой нет возврата, независимо от того, рождается ли в должный срок ребенок, случается выкидыш, или делают аборт. Беременность подразумевает конец существованию женщины как независимого отдельного существа и начало непременных и бесповоротных отношений мать-дитя. Одна из обязательных внутрипсихических задач первобеременной включает внутреннее, физическое и ментальное приятие того, что можно назвать ее образом своего сексуального партнера. Это влечет за собой слияние новых либидинозных и агрессивных чувств с теми, которые уже заложены в женщине опытом детства, в особенности ее отношениями с родителями и сиблингами и отношением к своему собственному телу.*
К счастью, беременность - не статичное состояние, а непрерывный физиологический и эмоциональный процесс, включающий в себя либидинозное заполнение образа (катек-сис) развивающегося и изменяющегося плода, который сперва является невидимой частью материнского тела и продолжением ее Собственного Я. Этот катексис плода должен позднее быть переведен на реального живого младенца, когда тот родится и станет отдельной частью объектного мира и продолжением как самой матери, так и ее сексуального
* Следует, однако, отметить, что другие равно важные задачи, входящие в подготовку к рождению и вскармливанию ребенка, такие как изменение межличностных отношений, не обсуждаются в данной статье.
партнера. Таким образом, от молодой матери требуется не только достичь этой ступени, но и доказать свою способность делить подобные эмоционально нагруженные отношения с отцом ребенка.
Для женщины, которая ожидает первенца, беременность доказывает ее половую принадлежность- и видимым образом заявляет внешнему миру, что она состояла в сексуальных отношениях. Психологически это подтверждает, что она обладает сексуально зрелым телом, способным к репродукции, но это вовсе не означает, что она имеет равно зрелое эмоционально Эго, способное к принятию ответственности и требований материнства. На женщину, а возможно и на ее окружающих, ложится дополнительное бремя: гормональные изменения, которые сопровождают беременность, приносят с собой непривычные колебания настроения и физический дискомфорт.
Для будущей матери такая огромная перемена, физическая и эмоциональная, является нормальной критической переходной фазой и, следовательно, сопровождается оживлением конфликтов и тревог прошлого, которые утяжеляют ее ношу. Как бы сильно ни идентифицировались ее муж и семья с ней в это время, изменение эмоциональной жизни матери семейства ведет также к перемене внутрисемейных отношений, так что каждая беременность и рождение ребенка должны неизбежно сопровождаться нормальным семейным кризисом и заканчиваться абсорбцией нового члена семьи.
Беременность - самое серьезное испытание отношений матери и дочери: беременная женщина должна играть роль матери для своего ребенка, оставаясь ребенком для своей матери. Ранняя детская идентификация беременной с матерью вновь пробуждается и сравнивается ею с реальностью отношений со своим ребенком. В то же время, вместе с но-вонайденным пониманием задач, которые ставит материнство, отношения беременной с ее матерью могут реально измениться и стать более зрелыми. Так жизнь может разрешить проблему старой амбивалентной идентификации, давая дорогу новому и более мирному отношению к матери.
Беременность доказывает и укрепляет успешное достижение женской сексуальной и полоролевой идентичности, тогда как процесс создания новой формы объектных отношений - материнство - может начаться только тогда, когда ребенок отделяется от материнского тела и вливается в объектный мир. Ребенок, таким образом, соединяет в себе часть материнских образов Собственного Я и ее сексуального партнера, но матери также предстоит увидеть в нем отдельного индивида. Этот сложный процесс внесения необходимых изменений в образ ребенка - одна из главных задач, с которыми должна справиться молодая мать.
Для целей настоящей статьи девять месяцев нормальной беременности разделены на три этапа.
ПЕРВЫЙ ЭТАП
От зачатия до шевеления плода приблизительно четыре с половиной месяца.
Физиологию этого этапа отличает высокий уровень прогестерона, что ведет к физическому недомоганию и изменениям в телесном Эго беременной, таким как увеличение молочных желез, тем самым пробуждая у нее фантазии и ощущения, порожденные в свое время подростковыми телесными изменениями. Наблюдаются характерные быстрые колебания настроения и воскрешение прежних тревог. У некоторых женщин с самого начала этого этапа возрастает пассивность и появляется ощущение высшей удовлетворенности и наслаждения: либидинозное заполнение Собственного Я увеличивается за счет либидо, отобранного у внешнего мира. У других в это время наступает легкая депрессия и усиливается физическая активность - в связи с особыми женскими проблемами или потому, что беременная пытается отрицать новое ощущение собственной пассивности.
Некоторым женщинам, по-мужски активным в работе, бывает трудно принять усиление зависимости от мужа, неизбежное при беременности и вскармливании. Если при этом они фрустрированы в выбранной ими карьере или не могут следовать собственным интересам, они иногда чувствуют зависть к мужу из-за того, что он может свободно заниматься своими делами или интеллектуальной деятельностью. Дру-
гим бывает трудно принять свое тело, изменяющееся по мере увеличения срока беременности. По моему опыту, женщины, которые ощущали неприязнь к своей подростковой полноте и стыдились ее, испытывают особые трудности в адаптации к тому, что их «разнесло».
Для некоторых женщин плод является- катексисом с момента подтверждения беременности, как ребенок, имеющий определенную внешность и даже определенный пол, тогда как для других - плод составляет часть их тела, от которой можно избавиться с той же легкостью, как от аппендикса. По моему мнению, этот фактор имеет диагностическую ценность, когда встает вопрос о прерывании беременности, так как в первом случае есть вероятность при аборте по терапевтическим показаниям расплатиться за него патологической скорбью и депрессией.
К концу первого этапа часто наблюдается выраженный регресс к оральной стадии, включая тошноту, рвоту и стремление к специфическим видам пищи. Женщинам часто трудно в это время готовить на семью, и у домашних и мужа появляется отличная возможность поддержать жену и облегчить ей жизнь. В своих фантазиях беременные часто идентифицируются с плодом. Молодая женщина, радостно предвкушающая рождение первенца, вынесла на анализ ряд сновидений, в которых становилась все моложе, по мере увеличения срока беременности. В самом конце, незадолго до родов, она видела себя во сне младенцем, сосущим грудь, тем самым соединяя образ Собственного Я как матери и образ Собственного Я как новорожденного ребенка.
ВТОРОЙ ЭТАП
Второй этап беременности с самого начала отмечен необходимостью взглянуть в глаза реальности, так как ребенок начинает шевелиться, тем самым заставляя признать, что его, хотя и скрытого в убежище материнского тела, следует признать отдельным человеческим существом со своей собственной жизнью, которой мать управлять не может. Многие женщины пережили момент невыразимого вневременного погружения в свой внутренний мир, когда их дитя впервые пошевелилось; и однако даже самой.желанной беременности
сопутствует пробуждение тревоги. Когда до сознания матери доходит, что в конце концов ребенок станет частью внешнего мира, в ней просыпается страх перед отделением от объекта и страх кастрации. Самой примечательной чертой, наблюдаемой на этом этапе, является оживление регрессивных фантазий, которые были бы сильнейшим нарушением у других пациенток, но преобладают и обычны в аналитическом материале беременных. Такое впечатление, что брыкающийся малыш прибавляет Это защищенности, так что ранее вытесненным первичным фантазиям позволяется легко всплыть в сознание. Сексуальные теории детства сочетаются с сознательными и бессознательными фантазиями, где плод, например, представлен как прожорливое деструктивное создание внутри материнского тела. Позднее оживают анальные детские сексуальные теории, где плод - что-то гадкое и грязное, что матери необходимо изгнать из своего тела. Некоторых женщин беспокоит любое незначительное изменение самочувствия. Высокообразованная женщина, отлично зная о том, что носит ребенка, вынесла на анализ вытесненные воспоминания и фантазии, относящиеся к ее детскому стыду, отвращению и страху в период, когда она страдала глистами. Психотичная пациентка утверждала, что ее увеличившийся живот полон газов и кала в результате запора, а когда ей предъявили ребенка после родов, настаивала, что это ее экскремент. Подобные примитивные фантазии можно наблюдать и у пациенток, не страдающих психозом.
Ближе к родам для матери нормально воображать плод в виде новорожденного, а когда срок разрешения становится еще ближе, она может воображать его неким идеальным малышом или ребенком постарше, часто тем самым идеальным существом, которым хотела быть сама.
На этом этапе часто происходит вступление в «тайное общество женщин» с его ритуалами и старушечьими сказками, а мужчины иногда видятся непрошеными гостями, способными повредить ребенку. Многие женщины удерживаются от полового акта на этом этапе, хотя и остаются либи-динозно активными, как будто старые фантазии о том, что
секс нанесет ущерб их телу, оживают, подразумевая, что сексуальная активность так же потенциально повредит ребенку, как вредила в фантазии его матери.
Беременная женщина, чьи фантазии о половом акте были агрессивной садистической природы, позволяла своему мужу совершать анальный половой акт, хотя это и не входило в ее привычки, так как боялась, что трение пениса о стенки влагалища повредит мозг ребенка. Некоторые женщины боятся не только полового акта, но и акушерского осмотра, словно рука акушерки может повредить ребенку, как ранее они бессознательно боялись (из-за чувства вины), что мастурбация вредит их собственному телу. В аналитической ситуации этому соответствует подавление и отрицание материала, относящегося к беременности, словно предъявление ребенка аналитику также подразумевает опасность. -
Фантазии о том, что плод - потенциально опасное, прожорливое создание, приходят в голову даже самым рассудочным пациенткам. Возможны и фобические страхи: например, что от клубники, съеденной матерью, у ребенка будут родимые пятна. Определенные виды пищи считаются полезными ребенку, а другие - вредными, без всяких разумных доказательств, даже вопреки медицинским свидетельствам противоположного. Доводы рассудка тут бесполезны, даже самые интеллектуальные из женщин в это время вновь по-детски верят в волшебство. Одна очень образованная, но недалекая женщина регулярно во время беременности ходила в музей созерцать прекрасные картины, чтобы родить красивого ребенка. Ее сознательная фантазия состояла в том, что поступая так, а также думая только о прекрасном, она сделает ребенка совершенным.
Испытывая толчки старых фантазий и неразрешенных конфликтов прошлого, Эго нуждается в дополнительной поддержке окружающих, особенно Эго первобеременной, для которой ее переживания новы и непривычны. В этом случае роль реальной матери женщины мне кажется очень важной, а ее поддержка - бесценной. Если реальной матери нет, муж может взять на себя поддерживающую материнскую роль, в дополнение к роли отца-защитника. Неоценимую помощь могут оказать прочие члены семьи и друзья. Какой бы ни
была ситуация внешней поддержки, в ней, тем не менее, присутствует особая психическая реальность, основа которой - первичные, младенческие отношения будущей матери с ее матерью. Эти отношения могли быть конфликтными и тем самым предопределить конфликтность будущего материнства дочери. Таким образом, материнство - это опыт трех поколений. Вопрос состоит в том, будет ли беременная женщина во внутрипсихическом плане идентифицироваться со своей интроецированной матерью или же будет соперничать с ней и достигнет успеха в своем желании быть лучшей матерью для своего ребенка, чем была (по ее ощущениям) ее мать для нее самой.
ТРЕТИЙ ЭТАП
Третий и последний этап беременности отличают телесный дискомфорт и усталость по мере приближения родов. Так как возрастает потребность беременной в материнском внимании, то, по моему опыту, у нее воскресают и воспоминания о соперничестве с сиблингами. В случае, если она является единственной дочерью, соперничество может сместиться на родственников или друзей. У молодой женщины, которая ожидала ребенка одновременно со своей золовкой, были повторяющиеся сновидения о том, что она родила крупного красивого мальчика, а золовка - безобразную девочку.
В этот же период имеют место характерные колебания настроения: от радости - потому что ребенок вот-вот станет реальностью, до различных сознательных и бессознательных тревог всех беременных (о возможности смерти от родов, о том, нормален ли ребенок и не повредят ли его во время родов). Как бы сильно ни успокаивал женщину внешний мир, страхи упорствуют, словно в игру вступило старое чувство вины и шепчет ей, что ничего хорошего из нее не выйдет. И однако она одновременно испытывает нетерпение, стремится завершить свою задачу и родить. На этом этапе превалируют фантазии об изгнании из тела, а некоторые женщины испытывают радостное возбуждение от того, что снова смогут играть активную роль при родах и оставить вынужденно пассивную роль беременной. Самые
рационалистичные женщины могут утратить контроль во время родов и упиваться катарсическои свободой выражения всяческих агрессивных чувств и порывов, им доступных, как бы в оргастическом состоянии. Однако чувство вины проявится снова в первом же вопросе, который неизменно задает после родов каждая мать: «Что с ребенком?»
Реальность ребенка входит в сознание матери и внешнего мира только когда появляется головка. По моему опыту, мать очень подбадривает к продолжению родов ответ внешнего мира (сестер и врачей) на реальность ребенка. Любопытство, касающееся его внешности, помогает преодолеть тревогу, которая в противном случае может вызвать вялость потуг.
ПОСЛЕ РОДОВ
После родов наступает период приспособления к чувству опустошенности и ощущению пустоты в том месте, где был ребенок. Матери опять требуется изменить образ своего тела, чтобы чувствовать себя целой и не пустой внутри, прежде чем произойдет сживание с реальным рождением ребенка и признание его как отдельного человека, и, кроме того, ей одновременно необходимо с этим реальным ребенком совместить того, который был столь сокровенной частью ее тела. Матерей нередко неприятно удивляет, что они не ощу щают немедленного прилива всепоглощающей материнской любви к ребенку, которого им показывают. Таким образом, возбуждение и облегчение от родов часто сменяется периодом упадка и депрессии, как это бывает после долгожданного успеха. Однако с помощью и при поддержке мужа и семьи, эти трудности можно преодолеть. Фантазии беременности и даже тяготы родов быстро вытесняются и забываются, и, к счастью, отношения мать-дитя могут щедро вознаградить за все и удовлетворить их обоих.
Я бы хотела теперь обратиться к отклонениям от нормы у некоторых пациенток, к тем случаям, когда в ранних отношениях матери и младенца просматривались патологические черты, обязанные отчасти фантазиям, которые мать не вытеснила, но продолжала отыгрывать, а отчасти конфлик-
там ее прошлого, которые не были разрешены и, следовательно, влияли на настоящее. В ткань конфликта вплетались как позитивные, так и негативные образы Собственного Я и своего мужчины, а также продолжение амбивалентных отношений к родителям и сиблингам в раннем детстве. В подростковом возрасте растущее осознание своей телесности стимулирует неодолимый порыв испробовать ее, чтобы доказать себе свою ценность через физическую привлекательность или испытать возбуждение, потому что другой признает твое тело источником наслаждения. Важным обстоятельством при этом является то, что телом пользуются для защитного отщепления и обхода мыслительного процесса (то есть происходит подмена обдумывания телесными ощущениями, будь то агрессия или удовольствие) или даже как средством избежать депрессии или вины. У пациенток такого рода поэтому налицо расщепление различных аспектов образа Собственного Я, напоминающее симптомы деперсонализации, наблюдаемые у некоторых больных. Одна молодая пациентка так отзывалась о себе. «Мое тело - гулящее, но в душе я девственна как первый снег». Изучая истории болезни молодых женщин, чей промискуитет имел ком-пульсивный характер, легко заметить, что желание иметь ребенка играет очень малую роль в их материале, хотя одна пациентка, у которой не наступала беременность в течение пяти лет при отсутствии контрацепции, забеспокоилась о своей фертильности. Когда же она забеременела, тревога улеглась и самооценка восстановилась, она тут же приготовилась делать аборт. У этих девушек тело служит для поиска вымышленного объекта (который они никогда не обретают в актуальном опыте), поиска, основанного на фантазии, что он, этот объект, будет их опекать, баюкать и кормить. Гени-тальная сексуальность для них - расплата, и совершенно очевидно, что такие девушки отнюдь не наслаждаются проникновением в их тело, но получают бесконечное удовольствие от предварительной игры, в которой оживают догени-тальные переживания. В своем воображении они младенцы, и это может служить одной из причин того, что они вовсе не хотят забеременеть. Если же это происходит, им бывает чрезвычайно трудно дать ребенку ту любовь и заботу, кото-
рой они сами недополучили, как они считают. У этих девушек наблюдаются высоко агрессивные садистические наклонности, направленные против сексуального партнера, а если такая девушка становится матерью, эти наклонности начинают играть роль в ее адаптации к реальности младенца и могут сместиться на ребенка, особенно на мальчика.
Первую группу случаев составляют девушки, очень рано вступившие в половую жизнь и забеременевшие. В ответ на требования реальности материнства в их распоряжении имелись лишь неадекватные ресурсы подросткового, неустойчивого Эго. Мы знаем, что у нормального подростка повышены регрессивные тенденции и оживлены старые конфликты. Таким образом, в случае, если к этой норме добавляются нормальные фантазии беременности, мы получаем жесткую патологию.
СЛУЧАЙ ТЕРРИ
Терри, очень хорошенькая девушка, была приемной дочерью пожилой пары. Единственное, что ей рассказали о ее матери, это то, что мать была гулящей и родила Терри в семнадцать лет. Сама Терри была непослушным ребенком, испытывала терпение своих приемных родителей (ей нужно было проверить, сильно ли они ее любят), в шестнадцать лет сбежала из дому и загуляла. К семнадцати годам она забеременела и спокойно готовилась отправиться в дом незамужних матерей, где можно родить И оставить ребенка на усыновление Во время беременности она была бодра и весела, достигнув своих главных целей: она установила свою сексуальную принадлежность, идентифицировалась со своей матерью и обратила пассивность в активность, отдавая на усыновление своего будущего ребенка. Она отрицала, как во сне, реальность беременности и приготовилась отдать ребенка через несколько недель после родов. И никого не оказалось рядом, чтобы подготовить ее к материнству! После родов картина драматически переменилась. Терри ошеломила реальность хорошенькой маленькой дочки, с которой она сильнейшим образом отождествилась, она была глубоко ранена тем, что ей пришлось пойти на удочерение, потому что она никак не могла содержать ни себя, ни ребен-
ка и не сделала к этому никаких приготовлений. Долгие годы она горевала о дочке, беспокоилась о ее судьбе, а в дни ее рождения и на Рождество погружалась в глубокую депрессию.
СЛУЧАЙ ДЖЕННИ
Дженни, студентка двадцати трех лет, страдала от жестокого невроза характера с истерическими и фобическими симптомами. Она была очень зависимой от мужа и требовательной, а он любил ее и старался удовлетворить ее требования, включая взрывы истерической ярости против него, служившие ей защитой против всепоглощающего страха, который охватывал ее всякий раз, когда он оставлял ее одну. Ее отношения с матерью складывались нелегко с самого раннего детства, и она полностью отвергла мать, оставив дом в семнадцать лет. За время лечения ее фобические симптомы значительно ослабели, улучшилась успеваемость, а ее муж смог сделать большой шаг в своей профессии, как только ее требования к нему изменились. В конце концов они решили завести ребенка и оба бурно радовались, когда Дженни забеременела. Ее беременность протекала спокойно, муж присутствовал при родах и значительно помог ей во всех отношениях. Они оба радовались новорожденной, и весь процесс способствовал взрослению Дженни, ее превращению в зрелую женщину, принимающую свою роль. Она стала преданной и понимающей матерью и женой и, в конце концов, примирилась с родителями.
Но к несчастью для себя она открыла, что беременность имеет для нее дополнительное преимущество - она ни на миг не остается одна. Ей захотелось быть беременной, но не нести ответственности за будущего ребенка. Вопреки советам врачей она вновь забеременела через несколько месяцев после рождения дочки, и вскоре исследование показало, что на этот раз у нее будет двойня. Несмотря на значительный телесный дискомфорт, она была бодра и весела всю беременность и у неё установились хорошие отношения с ребенком, мужем и даже матерью. Однако когда жизнь потребовала кормить близнецов и старшую девочку, она стала впадать в депрессию под этим бременем. Муж не мог ей
помогать, так как ему приходилось ради денег работать больше. Она стала боятся своих маленьких и голодных близнецов, и вскоре стала полностью неспособна их кормить из-за оживления своих старых садистских фантазий. Требовательные прожорливые близнецы стали представлять собой для нее орально-садистские аспекты ее образа-Собственного Я. В результате под грузом вины и тревоги у нее наступил психотический срыв, она была госпитализирована, но так и не оправилась и в итоге покончила с собой. Таким образом, в истории Дженни был зрелый шаг к укреплению Эго во время ее первого материнства, но она оказалась неспособна закрепиться на этой позиции под грузом дополнительного бремени - выкармливания других детей.
СЛУЧАЙ РУТ
Рут, интеллигентная женщина двадцати пяти лет, с высшим образованием, пришла для прохождения анализа после года семейной жизни с ласковым, по-матерински внимательным мужем. Она искала помощи от истерической тревоги, которая проявлялась, в основном, в уверенности, что она заболеет раком матки и умрет. Это заставляло ее бояться сношения, потому что она была убеждена, что сперма содержит канцерогены. Она придумывала разные магические ритуалы, чтобы избежать опасности, включая регулярные посещения гинеколога-мужчины, на приеме у которого, сопротивляясь введению зеркала, испытывала боль и оргастический спазм. Мать Рут страдала от астмы, у нее часто бывали ночные приступы болезни, и это провоцировало фантазию девочки о том, что матери по ночам причиняет ущерб половое сношение. Отец Рут, агрессивный, нетерпеливый человек, покончил с собой незадолго до смерти матери Рут. Рут вышла замуж уже после ее смерти. В курсе анализа ее чувства тревоги и вины перед родителями были проработаны, включая ее оральную фантазию о том, что она, находясь в утробе матери, пожирала ее изнутри и повредила матку. Она больше не была фригидной с мужем и в конце концов забеременела.
Во время беременности ожили ее старые бессознательные фантазии, центром которых была тревога, что ребенок
будет пожирать ее и принесет ей вред, какой она, в своей фантазии, принесла матери. Первые три месяца беременности чувства торжества и удовлетворения (поскольку она доказала, что может, как и ее покойная мать, забеременеть и иметь ребенка) поддерживали в ней мирное равновесие. Однако на втором этапе беременности, когда ребенок зашевелился, у нее снова появились, бок о бок с сильным чувством реальности, ранее подвергнутые анализу деструктивные фантазии: плод был для нее ее ребенком и продолжением ее реального Собственного Я, но был и продолжением ее фантазийной идентификации с плодом-пожирателем. Деструктивные фантазии не были всепоглощающими, как это было в начале анализа, когда она даже не осмеливалась размышлять о беременности и материнстве. На третьем этапе беременности она была в приподнятом настроении, не только от ожидаемого возобновления активности, которую подразумевает изгнание ребенка из тела, но и от агрессивного желания поскорее избавиться от этой вредоносной репрезентации ее садистских желаний по отношению к матери. Этот материал был успешно проработан, а с рождением ребенка фантазии претерпели вытеснение - Рут стала преданной, счастливой матерью, наслаждалась жизнью со своим мужем и высоко ценила его. Без помощи анализа у нее никогда бы не возникло намерения забеременеть и она, возможно, была бы в жестокой депрессии и кончила самоубийством, как ее отец.
СЛУЧАЙ ЕВЫ
Ева обратилась за помощью по совету матери, которая много лет назад была моей пациенткой и получала поддерживающее лечение, когда по неосторожности забеременела в немолодом возрасте. Сперва она хотела сделать аборт, но потом передумала и при врачебной поддержке выносила и родила сына, к которому Ева ее страшно ревновала, хотя ей к тому моменту было уже десять лет и она, как могла, прятала ревность за маской материнской заботливости. У матери были проблемы при воспитании мальчика, но они были успешно преодолены, и сын доставлял ей много радости.
Ко времени обращения Ева бьша беременна в третий раз. Она вышла замуж в девятнадцать лет и, хотя была первое время фригидна, с помощью понимающего мужа сумела создать счастливую семью. От первого ребенка - девочки, она была в восторге, так как малышка представила собой для нее образ красивой девочки, которой она была сама, да и оставалась. Поэтому она любила и ценила дочку как продолжение Собственного Я. Второй ребенок - мальчик, родился с мягкой формой младенческой экземы, и это отпугнуло ее. Хуже того, грудничком он был плаксивым и требовательным, а выучившись ходить, не отцеплялся от мамы и все равно был несчастным. К своему горю, Ева компуль-сивно отвергала этого ребенка, наказывая его за малейшую оплошность, и была не в состоянии ласкать его, несмотря на большие усилия следить за собой. Забеременев в третий раз, Ева испугалась, что если и третий ребенок будет мальчиком, это вынудит ее отвергнуть и его, и по совету матери обратилась ко мне. Интересно было видеть, как трудности матери в отношениях с сыном повторяются у дочери; действительно, по мере увеличения срока беременности у Евы нарастала неизбежная погруженность в процесс и влекла за собой уменьшение внимания к внешнему миру, а потому -нарастали требования сына, и ее тревожило, что к сыну она все больше испытывает неприязнь и раздражение, в то время как с дочкой она терпелива.
В курсе анализа было проработано соперничество с младшим братом, и отношения Евы с сыном улучшились. Чем больше она открыто проявляла любовь к нему, тем меньше он становился требователен и зависим, делая большие шаги к самостоятельности, что очень радовало маму и бабушку. Тогда стало ясно, что мальчик не только представлял собой образ соперника из детства: его экзема оживила более ранние ее фантазии о своем теле. Мать ее была тяжело больна язвенным колитом во времена раннего детства Евы, и это отразилось на фантазиях Евы о деторождении: она и ее брат - анальные, грязные и позорные продукты болезни матери. Экзема сына, которую она уравнивала с грязью, не только возродила в ней отвращение, которое она чувствовала к больному телу матери, но и породила тревогу, что болезнь матери повторилась у нее и сказалась на внешности ребенка.
Именно сильнейшая материнская забота о своем ребенке заставляла Еву чувствовать, что ее отвержение сына не согласуется ни с ее образом Собственного Я как женщины, ни с ее воспоминаниями о своей матери. Она поняла, что если не положит конец своей компульсивной агрессии, то может повредить и ему, и следующему ребенку, а она этого не хочет. Ее доверие к матери подвигнуло ее искать помощь там же, где в свое время получила эту помощь мать.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задача, которую предстоит выполнить беременной и молодой матери, это соединение реальности с бессознательными фантазиями, надеждами и мечтами. Кроме того, ей предстоит впервые встретиться с требованиями беспомощного зависимого создания, которое представляет собой для нее сильно катектированные области Собственного Я и не-^ Я, а также многие конфликтные отношения прошлого. Задача может оказаться непосильной, особенно для юной, неопытной женщины. В это время поддержка от окружения бесценна, особенно поддержка от мужа, матери или любого значимого и заинтересованного лица. Поскольку вмешательство врача в критический момент может быть именно такой ценнейшей помощью, особенно при отсутствии адекватной поддержки со стороны семьи, то, видимо, было бы полезно помнить об этом факторе не только в пренатальный и пост-натальный период, но также и при оценке возможного воздействия аборта по медицинским показаниям, чтобы предупредить и смягчить последующую депрессию. Подобным вмешательством также можно избежать передачи следующему поколению нагруженных виной отношений мать-дитя, которые эмоционально депривируют младенца, лишая его надежного и приносящего удовлетворение жизненного фундамента. Следует, однако, подчеркнуть, что некоторые из рассмотренных случаев заставляют нас понять: какой бы адекватной ни была поддержка от окружения, тяжесть неразрешенных конфликтов требует иногда психоаналитического или психотерапевтического вмешательства для достижения успешного их разрешения.
ПОДРОСТКОВАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И РАННЕЕ МАТЕРИНСТВО
Просто удивительно, что, несмотря на успехи контрацепции и доступность искусственного прерывания беременности, значительное число девушек-подростков все-таки беременеют и становятся малолетними матерями. Для многих из них нормальные кризисы развития подросткового и юношеского возраста, вслед за которыми наступает кризис первой беременности и материнства, способствуют дальнейшему психическому взрослению. Но для других эти кризисы, скорее всего, оживляют первичные тревоги и конфликты, принадлежащие предыдущим фазам развития, что приводит к регрессу. Для некоторых из этих молодых матерей рождение реального ребенка оказывается гибельным. Физическая зрелость, наступающая в пубертате, предлагает им альтернативное средство для разрешения психических конфликтов и утверждения своей женственности. Хотя желание девушки испытать, что такое беременность, можно рассматривать как часть нормального девического развития, дальнейшее продвижение к зрелости -это желание принести миру нового человека и достичь зрелого Эго-идеала. Девушки-подростки, о которых я говорю, по всей видимости, делают только первую часть этого шага развития. В данной статье я остановлюсь на бессознательных конфликтах некоторых незрелых молодых женщин, которые не позволили им стать достаточно хорошими матерями.
ЗРЕЛОЕ РАЗВИТИЕ И ОТНОШЕНИЯ С МАТЕРЬЮ
Этапы зрелости жизненного цикла описаны Эриксоном. Из них основными вехами на пути становления зрелой женской личности являются: 1) уникальные изменения женского тела в пубертате, приводящие к психологическому рывку юности; 2) первая беременность и 3) рождение ребенка. Каждый шаг взросления, инициированный изменениями тела, неизбежно сопровождается нормальным эмоциональным кризисом постольку, поскольку во внутреннем и внешнем мире должны быть изменены либидинозные, агрессивные и нар-
циссические компоненты отношений к Собственному Я и к объекту. Каждый кризис может или облегчить психический рост, или выдвинуть на передний план фиксацию на ранней фазе развития. По моему мнению, решающую роль здесь играет то, какая у моЪодой женщины была мать (насколько она способна была быть матерью) и каким образом она относилась к своей женственности и к женственности своей дочери. Как мы уже знаем, развитие зрелой женской личности {базирующееся на доэдипальном развитии здорового ощущения Собственного Я и здоровых объектных отношений, а также на прочном ощущении полоролевой и сексуальной идентичности) включает в себя не только идентификацию с внутренним образом матери, но еще и противоположную задачу всей последующей жизни: отделение от матери и индивидуализацию.
ЮНОСТЬ
М.Лафер и Э.Лафер считают главной функцией развития в юности установление окончательной сексуальной организации. Образ тела теперь должен включать физически зрелые гениталии. Они рассматривают различные юношеские задачи развития - изменение отношений к эдипальному объекту, к сверстникам и к своему телу - скорее как подразделы ведущей функции развития, а не как отдельные задачи. Девушка может пройти через трудные испытания в подростковом возрасте, если ее доэдипальные отношения с матерью не привели к прочному ощущению Собственного Я и своей половой принадлежности. Всплеск эмоциональных регрессивных тенденций и подъем на поверхность неразрешенных конфликтов прошлого могут затормозить продвижение к эмоциональной зрелости и психическому взрослению. В подростковом возрасте самооценка особенно зависит от внешности и образа Собственного Я, отраженных в позитивном и негативном ответе равных субъекту фигур. Однако, хотя только что обретенная зрелость и сексуальная отзывчивость тела молодой женщины вводит ее в мир взрослой сексуальности, она может также толкнуть ее к тому, чтобы начать использовать свое тело для защиты от неразрешенных эмоциональных конфликтов гораздо более раннего этапа жизни. Как мы увидим в следующей главе «Влияние
особенностей психического развития в раннем детстве на течение беременности и преждевременные роды», секс может стать способом достижения душевного равновесия и понимания, идущим скорее от желания пережить вновь до-эдипальное ощущение материнской ласки, чем от стремления к взрослым сексуальным отношениям.
У таких девушек наблюдаются сильные агрессивные и садистские чувства к матери - фактор, который усложняет нормальный подростковый процесс отделения от нее. Таким образом, амбивалентность по отношению к матери может разрешиться скорее негативным образом, чем позитивным (любовью к ней). Предшествующие конфликты детства, касающиеся идентификации с матерью, в пубертате оживают и получают подкрепление, осложняя последующий этап первой беременности, на котором впервые возможно достижение идентификации (физически и эмоционально) со взрослым Эго-идеалом.
ПЕРВАЯ FFPEMEHHOCTb
Первая беременность женщины - это опыт переживания глубокой биологической идентификации со своей матерью, что может реактивировать сильнейшие амбивалентные чувства. Для молодой женщины, чья мать была «достаточно хорошей», временная регрессия к первичной идентификации со щедрой жизнедающей матерью и с младенческим Собственным Я - приятная фаза развития, на которой достигаются дальнейшая зрелая интеграция, повышение самооценки и духовный рост.
Но для других, чьи амбивалентные чувства к матери не получили разрешения, а по отношению к Собственному Я, к своему сексуальному партнеру или важнейшим фигурам прошлого доминируют негативные чувства, неизбежная регрессия беременности облегчает выход на поверхность ранее неразрешенных конфликтов, против которых до сей поры существовала защита. Беременная женщина часто проецирует на плод амбивалентные или негативные стороны Собственного Я и свои внутрипсихические объекты, словно плод является их продолжением. Отсюда следует, что особое эмоциональное состояние при беременности, в котором моло-
дая женщина может идентифицировать себя со своей матерью (и, следовательно, с желанием стать матерью младенцу), входит в конфликт с ее идентификацией с плодом, которая, естественно, усиливает универсальное инфантильное желание снова стать объектом материнской заботы. Новое появление в сознании беременной ранее вытесненных: фантазий, которые я описывала более подробно в другом месте, тоже следует принять в расчет, так как женщине предстоит интегрировать их с реальностью ребенка, как только он появится на свет. Ибо новые объектные отношения, которые начнут развиваться только с рождением ребенка, будут зависеть не только от самого ребенка, его пола, внешности и поведения (влияющих, конечно, на мнение матери о Собственном Я и о своем умении,заботиться о ребенке), но и от конкретных переживаний матери во время беременности и родов, этих важных этапов на пути материнского узнавания: ребенок вне меня и есть тот плод, который когда-то был столь сокровенной частью моего тела.
Адаптация к этому ребенку требует достижения устойчивого и достаточного баланса между тем, что пережила мать ранее в качестве объекта материнской заботы, ее бессознательными фантазиями, надеждами и мечтами о своем ребенке и реальностью ее отношения к Собственному Я, своему сексуальному партнеру и ребенку. Если психическое равновесие матери реорганизуется и кризис разрешается до того, как она столкнулась с реальностью новорожденного, то исходом временного регрессивного состояния беременности становится дальнейший шаг к зрелости, но если этого не происходит, нездоровым и даже патологическим решением проблемы становятся вредоносные и нагруженные виной отношения мать-дитя.
В случае девушки-подростка, чья амбивалентность по отношению к матери осложнила как эмоциональную идентификацию с ней, так и надлежащее отделение от нее и индивидуализацию, преждевременное использование (в попытках разрешить эту проблему) своего физиологически зрелого тела и присущей ему сексуальности может привести к формированию незрелых объектных отношений. Если этот кризис еще более осложнен требованиями беременности и
материнства, ею будет найдено, скорее, патологическое решение, и мы увидим не здоровое развитие в зрелую мать, а столкнемся с искажениями материнства.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛА КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО СРЕДСТВА ПРИ ОТДЕЛЕНИИ-ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ И ПРОДВИЖЕНИЕ К ПСИХИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ
Желание маленькой девочки идентифицировать себя со своей матерью можно наблюдать в ее играх и фантазиях задолго до появления физической возможности иметь ребенка. Чувство принадлежности к своему полу устанавливается в раннем детстве; сексуальная идентификация во многом выясняется к началу юности. Когда девушка-подросток взрослеет, она входит в важный новый этап отделения-индивидуализации. Сильнейшим образом оживает сексуальность и влечет ее к первому половому акту, который подтверждает ее право брать на себя ответственность за свою сексуальность и право на свое собственное взрослое тело, отдельное от материнского. Здесь, как и на каждой переходной фазе жизненного цикла, телесные изменения (изменения в нарциссизме, в объектных отношениях, в определяемых культурой образцах полоролевого поведения и в способах выражения своей сексуальности) непременно влияют на образ Собственного Я и изменяют его.
Винникотт подчеркивал важность роли воспитывающего окружения, которое обеспечивает ребенку мать, на первичных стадиях развития Эго. То, как именно мать физически и эмоционально обращается с телом младенца и его нарождающимся Собственным Я, входит в состав опыта этого ребенка и его сознательные и бессознательные фантазии. Внутренний образ матери, создающийся при этом, и есть тот образец, с которым дочь всю жизнь стремится как идентифицироваться, так и отойти от него. Только на этом раннем этапе маленькая девочка имеет возможность интроециро-вать ощущение их с матерью взаимного телесного удовлетворения. Если в младенчестве девочка не получала удовлетворения от матери или не ощущала, что удовлетворяет ее, она никогда не сможет восполнить этот базальный про-
бел (отсутствие первичных устойчивых ощущений телесного благополучия и благополучного образа своего тела), если она не жертвует своим нормальным стремлением к позитивному эдипальному исходу. Более того, она может так и остаться с образом Собственного Я: «Я не приношу удовлетворения ни другим, ни себе», который сохраняется неизменным в Истинном Я, неважно, насколько сильно ее взрослый опыт не подтверждает этот образ. Ее продвижение к дифференцированной сексуальной идентичности, такой же, как у матери, и все же отдельной, также требует интернализа-ции женского тела матери и идентификации с ним. В эди-пальных желаниях родить отцу ребенка мы уже можем усмотреть отделение от матери и попытки маленькой девочки идентифицироваться с ней.
Биологический пубертат требует от девушки изменить образ своего тела: образ ребенка предстоит превратить в образ взрослой женщины, у которой есть груди и гениталии. Она должна признать в своем влагалище способность вмещать пенис мужчины (в фантазии - сексуального партнера матери) и согласиться с дальнейшей возможностью беременности.
По моему впечатлению, те девочки-подростки, которые не испытали в свое время достаточно хорошего материнства, могут использовать свое тело, пытаясь снова стать младенцем: они гоняются за миражом утраченного нарцисси-ческого состояния. Кроме того, они надеются, родив ребенка, обрести в нем свое Идеальное Я. У этих девочек, я полагаю, была мать, которая умела заботиться только о теле дочери и не могла вместить ее тревоги и аффекты. М.М.Р.Хан утверждает, что во взрослой жизни такие девушки используют в объектных отношениях сексуальную активность взамен возможностей Эго,- и я разделяю этот взгляд, ибо сексуальность в пубертате и ранней юности основана на опыте младенческих отношений с матерью.
КЛИНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Случай г-жи X.
Госпожа X. первый раз стала матерью в шестнадцать лет. Она обратилась за помощью к аналитику после того, как ее младший ребенок попал на лечение в детскую воспитательную клинику (child guidance clinic). Г-жа X была в жестокой
депрессии, говорила, что ее брак развалился, и чувствовала, что больше так жить не может. Она была первым ребенком и единственной девочкой в семье, у нее было три младших брата, за которыми она часто - с досадой - присматривала. Ее мать была жесткой и сердитой и не ценила женщину ни в себе, ни в дочери. Между ними не могло существовать ни отношений, где удовлетворение дается другому, ни отношений, где оно получается от другого, и девочка не могла любить ни материнское, ни свое тело. Отец г-жи X., грубый и скандальный, больше любил своих приятелей, чем жену и маленькую дочь, так что она не могла обратиться и к нему за защитой и любовью. Девочку не подготовили к тому, что у нее будут менструации, и она сочла, что это ее экскременты, грязные и болезненные, а мать закрепила это впечатление, настаивая, чтобы девочка пользовалась старыми тряпками, вместо того, чтобы покупать гигиенические пакеты. Таким образом ее женственность, ее образ своего тела и ее сексуальность были с самого начала крепко привязаны к стыду и ненависти к себе. Мы можем предположить, что и мать не любила ни себя, ни свое тело. Г-жа X. всегда чрезвычайно ревновала мать к своим младшим братьям, которых, как она чувствовала, мать любила больше просто потому, что они были мальчиками. Ненависть матери отдалила г-жу X. от нее на этом этапе жизни.
Приобретения пубертата позволили ей по-новому распорядиться своей жизнью. В четырнадцать лет она научилась пользоваться своим телом и сексуальностью. Для подъема самооценки и для того, чтобы ощущать себя любимой, она вступала в половые гетеросексуальные отношения, играя при этом всегда соблазняющую, активную роль. Физически зрелое тело г-жи X. и ее возраст дали ей возможность прикрыть сексуальным возбуждением душевную пустоту и боль. Создавалось впечатление, что она адекватно взрослеет, выполняя нормальные задачи развития подростка. Она взяла на себя ответственность за свое зрелое тело и взрослую сексуальность и экспериментировала с этим новым отношением к мальчикам своей возрастной группы. Бессознательно она искала объект, который бы любил ее и поднял бы ее самооценку, так как сама она не умела любить ни себя, ни других.
Она плохо успевала в школе и все сильнее обращалась к промискуитету как средству обойти свои трудности в учебе и в осмыслении мира.
Когда г-жа X. в шестнадцать лет забеременела, ее мать страшно рассердилась и велела делать аборт. Семнадцатилетний отец ребенка настаивал на свадьбе, но несмотря на это мать со злобой гнала дочь от себя. После венчания г-жа X. и ее муж уехали. Беременность была трудная, тревожная, но наконец родилась девочка. И здесь юный муж помогал и поддерживал ее, заменив ей тем самым ей мать, отвергшую дочь. Их взаимное сексуальное наслаждение сгладило ее неудовлетворенность своим телом и собой как женщиной. Поскольку муж нянчился с ней, она, в свою очередь, могла нянчить свою малышку - не „только как свое дитя, но и как свое Идеальное Я, которое никогда не видело материнской ласки. Второй ребенок, мальчик, быстро последовал за первым, но семейная жизнь г-жи X. ухудшилась, и она стала фригидной. Поскольку г-жа X. всегда пользовалась своим телом, чтобы выразить сознательные и бессознательные чувства, ей было трудно одновременно быть матерью ребенку и оставаться сексуальным партнером мужа. В ответ на фригидность жены, которую он не мог ни понять, ни изменить, г-н X., чувствуя себя эмоционально кастрированным, постоянно стремился доказать ей свою потенцию. Хуже того, поскольку его любовь к ней всегда выражалась через секс, она теперь отвечала на это злостью, считая, что он не понимает ее первичной потребности - в защите и любви, а не в сексе. Вытесненные проблемы, которые предшествовали ее первой беременности и сопровождали и ее, и рождение первенца, повторились и в этой беременности, поскольку не были решены и проработаны. Г-жа X. радовалась телу своей дочурки, как если бы оно было ее собственным, и эта ситуация взаимного удовлетворения смягчила ее базальный взгляд на себя и свою мать как на неудовлетворительную пару. Так как она перестала ценить своего мужа и сердилась на него за непонимание ее потребности в поддержке, отношения с ним не могли больше поддерживать в ней предыдущее ощущение своей взрослой личности как привлекательной женщины. Она регрессировала к своему базальному взгля-
ду на Собственное Я как на неудовлетворяющий и неудовлетворенный объект. В этом плане ее брак повторил ее доэ-дипову ситуацию. Ее сын, который теперь был для нее живым доказательством ее греховной сексуальности, стал вместилищем для негативных сторон ее Собственного Я, маленьким жадным позорищем, которым-она ощущала себя в детстве и продолжала ощущать в браке. Детская ревность к братьям и нежелательные аспекты мужа были смещены ею на ребенка, и мальчик стал объектом нелюбви и агрессии. Казалось, что она не видит в этом ребенке отдельной личности со своими правами, а ее Идеальным Я он не мог стать, как ее дочка, потому что был мальчиком, что ей самой было недоступно. Мы поняли в ходе нашей совместной работы, что поскольку мысль, символизация и фантазия были недоступны г-же X., то, став матерью, она стала плохой матерью из своего собственного детского опыта, оставаясь при этом эмоционально ребенком. Ее брак воспроизводил теперь ее доэдипову ситуацию, словно муж был той самой матерью, которая заботилась лишь о ее теле, но не о чувствах.
В курсе ее анализа стало ясно, что г-жа X. не может почувствовать и принять ничего доброго, хорошего и приятного. Она постоянно критиковала мужа и сына, ради повышения своей очень низкой самооценки. Проецируя на них обоих все то, что ей не нравилось в самой себе, она могла позволить себе продолжать с ними жить. При переносе она видела аналитика как критикующую и наказывающую фигуру, и любая зависимость или достижение внутреннего озарения вели к постоянным угрозам бросить анализ, как если бы анализ и привязанность к аналитику тоже были чем-то слишком хорошим и приятным. Ее жизнью управляло чувство стыда, и главной чертой в переносе был тоже стыд. Стало видно, что ее агрессивные попытки пристыдить мужа и сына были попытками превратить пассивность в активность, поднять самооценку и тем самым избежать депрессии.
В курсе анализа взгляд г-жи X. на Собственное Я начал изменяться. Ее зависть к аналитику и острая наблюдательность позволили ей научиться с большим уважением относиться к собственному телу. Это улучшение мнения о себе отра-
зилось на ее внешнем виде и одежде, как и в ее попытках загладить свое предыдущее враждебное поведение с мужем и сыном. Как только повысилась ее самооценка, она смогла вынести на анализ как свою интенсивную мастурбацию, которая никогда не снижалась с раннего детства, так и отыгрывание своих мастурбационных фантазий, которые всегда возбуждали ее и приносили удовлетворение. В своих фантазиях в детстве, замужестве и в процессе анализа, она всегда была эксплуатируемой рабой. Кроме того, она отыгрывала тему депривации, воруя продукты в магазинах по дороге на аналитическую сессию. Ее очень возбуждала опасность: она вот-вот попадется, но все-таки оказывается хитрее продавщиц. Всплыло, что в раннем детстве она таскала молоко из кухонного буфета, пока мать кормила грудью младших братьев. При переносе она ощущала каждую интерпретацию, которая ей помогала, украденной у аналитика-матери и у других пациентов-сиблингов. Анализ зависти к матери в раннем детстве и (при переносе) к способности аналитика давать ей что-то ценное, помогли проработке некоторых из этих ее проблем.
Как только к г-же X. вернулась способность думать, она вернулась к работе и хорошо с ней справлялась. Она теперь могла позволить себе ощущать аналитика заботливой фигурой, которая не бросит и не выгонит ее за плохие поступки, как ее мать отвергла ее: в детстве ради братьев, и вновь - во время первой ее беременности, когда г-же X. так нужна была забота и ласка, словно она опять стала младенцем. Забота, которую она получала в процессе анализа, помогла ей больше заботиться о своем ребенке. Она также смогла выразить свое удовольствие через вновь разрешенное себе желание наслаждаться своей женственностью и женской ролью, и произошли некоторые изменения в ее семейной жизни. Ее муж отвечал усилением ответственности за семью, а она смогла позволить себе насладиться заботой о себе и больше не чувствовала себя рабой. Она смогла также позволить своей матери участвовать в некоторых из вновь обретенных семейных радостей и к своему и моему удивлению обнаружила, что ее мать в свое время тоже забеременела в шестнадцать лет {моей будущей пациент-
кой) и ей тоже пришлось выйти замуж по этой причине.
По моему опыту, многие пациентки, входя в заключительную фазу анализа, высказывают сильное желание зачать ребенка, как бы заканчивая (в своей фантазии) анализ эквивалентом рождения менее конфликтного Собственного Я. К концу анализа и у г-жи X. возникло сознательное желание зачать последнего ребенка, чтобы это стало исходом вновь обретенных удовлетворяющих и любовных отношений с мужем. Но тут она узнала, с яростью и болью, что теперь беременна ее дочь - в шестнадцать лет, как она сама. После многих конфликтов г-жа X. решила удовлетвориться ролью молоденькой бабушки.
Случай г-жи А.
Г-жу А. удочерили в очень раннем возрасте, и у нее было счастливое детство, пока не умерла ее приемная мать. Девочка изо всех сил стремилась быть матерью для своей матери во время ее смертельной болезни. Ей было десять, когда она осталась одна с неадекватным отцом, находящимся в жестокой депрессии. В день смерти приемной матери она настояла, чтобы отец сводил ее к той, которая ее родила. Эта женщина, к удивлению девочки, жила неподалеку и в то время нянчила ее брата. Все надежды девочки найти новую мать были разбиты - эта женщина очевидным образом не хотела иметь ничего общего с дочерью. Итак, обе матери покинули ее, и она осталась одна, с болью и злобой на женщин. Социальные работники поместили ее в интернат, так как отец был неспособен ни воспитывать ребенка, ни вести хозяйство. Она часто сбегала домой к отцу, пока наконец не стала достаточно большой, чтобы уйти из интерната и вернуться к нему насовсем. Пубертат и юность дали ей новые возможности строить свою жизнь. Она натащила домой бездомных животных, словно они были утерянными сторонами ее Собственного Я.
Еще в интернате (где она не могла учиться, поскольку ее разум был блокирован) она пользовалась своим телом, чтобы обрести любовь и поднять самооценку. Она сознательно желала, чтобы какой-нибудь мальчик любил и обнимал ее, что нормально для девочки-подростка, но кроме того, она бес-
сознательно хотела воскресить все младенческие телесные удовольствия, словно мальчик был ее матерью. В то же время ей нужен был мужчина, чтобы удерживаться от угрожающей сексуальной привязанности к своему одинокому отцу. Позднее она говорила мне во время анализа, что использовала свое красивое юное тело, чтобы спровоцировать отца показать ей свой пенис. Как отец он провалился, и тогда она принялась опекать его, словно сильная мать, которая оберегает отца и маленькую девочку от отыгрывания их бессознательных инцестуозных желаний.
Физически зрелое тело г-жи А. и ее возраст способствовали тому, чтобы сексуальное возбуждение заполнило душевную пустоту и вытеснило боль. Казалось, что она адекватно продвигается к зрелости, выполняя нормальные задачи развития подростка. Она взяла на себя ответственность за свое зрелое тело и взрослую сексуальность, экспериментировала с новым отношением к мальчикам своей возрастной группы, и внешне освобождалась от инфантильных пут, привязывавших ее к отцу. Бессознательно ее эксперименты со своим телом были безнадежным поиском утраченной приемной матери, которую она не смогла никем заменить, и их ранних аффективных отношений. Каждого сексуального партнера она бросала столь же жестоко, как бросили ее обе ее матери. В конце концов, соблазнив одного молодого человека, она забеременела, и он, к ее удивлению, женился на ней. Теперь у нее был мужчина, который любил ее, и в ее фантазиях, представлял собой и покойную мать и ее сексуального партнера - здравствующего отца. Надо сказать, что моя пациентка искала кого-нибудь, кто бы любил ее, так как сама себя она любить не умела. Беременность заставила ее почувствовать, что она теперь зрелая женщина, как ее физическая мать, и пробудила в ней восхитительные фантазии о возвращении в утробу, словно она сама была плодом внутри своего тела. Теперь ее пустующее тело заполнилось, и ее стремление к покойной матери несколько ослабло, так как она ожидала ребенка," который всегда будет с ней и будет ее любить. Когда дитя зашевелилось, она не могла больше отрицать, что надвигается отделение от него, неизбежное после его появления на свет, и слегла с депрессией.
Она ощущала, что будет снова одна, так же, как она была одинока и заброшена после того, как смерть разделила ее с матерью, ибо рождение - это отделение, и смерть тоже, и потому они тесно связаны в нашем внутреннем мире. Таким образом, первая беременность г-жи А., фаза дальнейшего развития в жизненном цикле женщины, стала для нее началом упадка.
Для г-жи А., чей сын родился, когда ей было семнадцать, материнство обернулось бедствием. Она часто катала сына в коляске мимо дома своей «настоящей» матери, надеясь, что та выйдет посмотреть на внука и поможет дочери стать матерью, но чуда не случилось. Оставаясь с ребенком одна, г-жа А. принималась бить его, стоило ему заплакать, впадая в панику при его требованиях, которых она никогда не могла ни понять, ни удовлетворить. Чувство к ребенку, изначально амбивалентное, обернулось скорее ненавистью, чем любовью.
В ходе нашей совместной работы мы поняли, что теперь она как бы стала плохой матерью из своего прошлого, оставаясь при этом эмоционально ребенком. Для этого ребенка внутри нее собственный сын по многим причинам представлял собой соперника. Он, во-первых, представлял собой образ брата, о котором физическая мать заботилась, отвергнув дочь. Далее: поскольку муж был для нее фигурой матери, ей не нравился его интерес к ребенку, и она завидовала той безусловной любви, которую сын получал от отца. Любое агрессивное чувство, которое возникало в ней к мужу или отцу, она смещала на своего ребенка мужского пола. Она бросала сына при любой возможности. Она бросала его, поскольку ощущала себя дважды брошенной плохими матерями, ибо для десятилетнего ребенка смерть матери означала, что мать ее бросила. Но более всего сын представлял собой те стороны ее Собственного Я, которые она в себе не любила. Г-же А. случалось намочить постель вплоть до беременности, но тут подобные эксцессы прекратились, так как она ощущала, что мать должна быть чистоплотной. Став чистоплотной, она стала фригидной, потому что генитальная сексуальность ассоциировалась у нее с грязью и испражнениями. Ребенок, следовательно, был для нее конкретным
доказательством ее. грязной сексуальности, и, вдобавок, лишил ее наслаждения сексуальностью. Рядом с ней, вне ее, был беспомощный младенец, плачущий, описанный и закаканный, прямо как ее внутренний ребенок, которого она ненавидела. Она очень старалась заботиться о сыне, но с самого начала она не только ненавидела в нем эти свои черты, но еще и ненавидела его за одиночество и изоляцию - домашний арест, под которым она оказалась из-за него. Рождение ребенка повторило тревожные хлопоты и изоляцию времен болезни приемной матери, а ребенок еще и представлял собой эту ее мать, приучившую ее к чистоплотности. Иногда эти чувства выходили из-под контроля, и она била ребенка. Но частью она была еще и идентифицирована со своей хорошей приемной матерью, так что чувствовала себя виноватой и подавленной, когда ее что-то толкало побить малыша. Муж г-жи А. настоял, чтобы она обратилась за помощью. В результате лечения она начала понимать, кого ребенок представляет собой для нее и что она проецирует на него. Это помогло ей увидеть сына самого по себе, увидеть в нем реального ребенка. Перенос г-жи А. был подчеркнуто лишен аффектов. Она являлась с равнодушной улыбкой, одетая в черную кожаную мотоциклетную одежду, часто с каской на голове. Много раз я чувствовала сильный гнев, когда она рассказывала мне, на вид совершенно бесчувственно, о своем поведении, из-за которого маленький мальчик получал травмы. Он падал у нее с лестницы, она распахивала дверь у него перед носом, зная, что он к ней подползает. Однажды она принесла его с собой, и я была свидетельницей ее скверного обращения с ребенком. Мои сильнейшие контрперенесенные чувства - гнев на пациентку за ее бесстрастную жестокость и страх за ребенка - позволили мне осознать, что для пациентки во мне воплотилась живая физическая мать пациентки, злая, отвергающая и жестокая и нашла внешнее воплощение эмоциональная смерть в душе г-жи А ее доброй приемной матери, которая могла бы смягчить эти ее нападки на сына. Г-жа А. словно утратила эту часть себя. Разобравшись в тяжелом положении пациентки, я научилась становиться для нее материнской фигурой, которая эмоционально «держит на ручках» ее
перепуганное незрелое младенческое Собственное Я, тем самым давая ей возможность защитить сына от собствен^ ных же завистливых и садистских нападений. Моя тревога за ребенка отражала ее тревогу за него. Испытав эту тревогу, я смогла не только соприкоснуться с ее отчаянием и с бедственной безвыходностью ее ситуации, но и поняла, что никто другой не мог бы поддержать ее младенческое Собственное Я, как могла бы это сделать ее хорошая мать - в ее психике не было жизнеспособной альтернативы отвергающей злой матери и травмированному ребенку. Когда мы проработали эти проблемы, которые привязывали ее настоящее к грузу прошлого, переменилась валентность ее отношения к ребенку. Она смогла сдерживать свою фрустрацию и ярость, и так как она больше не была беспомощно раздавлена собственной виной, то смогла установить более нежные отношения с ребенком. Оплакав приемную мать, она вновь обрела способность пользоваться своим разумом и вернулась в колледж закончить образование.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Клинический материал моих пациенток, матерей-подростков, служит иллюстрацией к теме данной статьи. Я хочу подчеркнуть, что на первый взгляд поведение обеих этих молодых женщин было нормальным раннеюношеским поведением, но при пристальном рассмотрении нарушения оказывались куда глубже, чем казалось сначала. Обе они сломались психически на этапе беременности, и их ранние отношения мать-младенец были серьезно расстроены.
Проблемы переноса и контрпереноса, вошедшие в анализ этих пациенток, позволили увидеть, что в их душевной жизни не было жизнеспособной альтернативы отвергающей матери и отвергнутому ребенку. Обе пациентки экстернали-зовали грубую, карательную фигуру Супер-Эго (проецируя ее на аналитика) и отыгрывали ее же, отвергая и наказывая своих детей. И однако также необходимо понять, что тайное удовольствие от психического вмещения, объектом которого они обе ощущали себя в аналитической ситуации, вызывало у них сильную тревогу (остаться во вместилище, как в ловушке, навсегда), и в случае г-жи X. эта тревога подска-
зывала ей сердитые угрозы и неоднократные уходы. Г-жа А. ушла, когда стали всплывать ее позитивные чувства. Мой контрперенос был важным орудием, позволившим мне понять эти проблемы. Сначала моим ответом было чувство гнева и возмущения жестокостью этих матерей к своим детям. Мне было очень неприятно, что я так сильно сержусь на своих пациенток и так сильно их осуждаю. Я осознавала, что мне очень хочется срочно восстановить душевное равновесие, наказав пациенток вербально. Но тщательное отслеживание собственных реакций и напряженные старания прорабатывать свои чувства, дабы остаться на аналитических позициях, привели меня к убеждению, что в обоих случаях пациентки сильнейшим образом активизировали мои материнские чувства. Я была поставлена перед выбором линии поведения. Я могла повторить грубую установку карающей и отвергающей матери из внутреннего мира моих пациенток и садистски напасть на их уязвимое инфантильное Собственное Я. Или же я могла защитить их от того, что возбуждало во мне их поведение, и, поступая так, понять на собственном опыте, как трудно это было для них - защитить собственных детей от садистского повторения их собственной инфантильной ситуации (с плохой матерью). Так проблемы переноса и контрпереноса отражали трудные отношения пациенток с их матерями, отношения, в процессе которых инфантильные аспекты личности пациенток не были «растворены» (не получили разрешения) и успешно интегрированы в их взрослое Собственное Я.
И наконец, может быть не лишено интереса замечание, что обе пациентки имели опыт работы с психоаналитиками-мужчинами. Г-жа А. большую часть времени молчала, и терапия, по-видимому, никак на нее не повлияла, а г-жа X. испытала сильнейшим образом эротизированный перенос, который напугал ее и заставил уйти. Мне кажется, важным фактором при проработке некоторых из их проблем был тот факт, что я - женщина. Я конкретно предоставляла им обеим более доброжелательную фигуру матери, которую они могли интроецировать и с которой они могли себя идентифицировать. Кроме того, мне кажется, что я как женщина-аналитик/мать могла также дать каждой из них позволение наслаждаться ее телом женщины и ее сексуальностью - позволение, которого им ни в коем случае не давали их враждебные матери.
ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ
Фрейд, человек и мужчина своего времени, верил, что наступление беременности исполняет основное желание каждой женщины. Мужчина дарит ей ребенка, и это возмещает ее неисполнимое желание иметь пенис. Мой опыт аналитика не подтверждает этот взгляд. Этот опыт привел меня к убеждению, что существует заметное различие между желанием забеременеть и желанием подарить миру нового человека и стать ему матерью. Ибо первичные тревоги и конфликты, произрастающие из пожизненной задачи женщины - достичь отделения от матери и индивидуализации - могут неожиданно быть обнажены опытом первой беременности и материнства.
Тема данной статьи - трудности, связанные с идентификацией женщины с внутренним образом своей матери, идентификацией, которой беременность дает телесное подкрепление. Я также собираюсь остановиться на оживлении у беременной инфантильных фантазий о себе как плоде в теле своей матери, которые активируются ее нарцис-сической идентификацией с конкретным плодом, реально зреющим в глубине ее тела. Физически симбиотическое состояние беременности параллельно эмоционально сим-биотическому состоянию будущей матери, а присущие последнему идентификации женщины с ее собственной матерью и с Собственным Я как с плодом могут реактивировать напряженно амбивалентные чувства. Если так, то беременность предоставляет будущей матери возможность решить: жить плоду или умереть. Анализ пациентки, которая неоднократно позволяла себе забеременеть, но затем прерывала беременность, послужит нам иллюстрацией к данной теме. Проблемы переноса и контрпереноса, с которыми я встретилась, проводя ее анализ, отражали трудные отношения пациентки с ее матерью, в процессе которых, инфантильные аспекты ее Собственного Я не были успешно «растворены» (не получили разрешения) и не интегрировались в ее взрослое Собственное Я.
ПЕРВАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
Бибринг и соавт. пишут: «Особая задача, которую надлежит разрешить беременности и материнству, лежит в сфере распределения и сдвигов между катексисами представления о Собственном Я и представления об объекте». Для некоторых женщин беременность может стать одной из наиболее обогащающих стадий их жизненного цикла, ибо когда же еще человек чувствует себя Богом, как не тогда, когда создает новую жизнь? Понятно, что для молодой женщины, чья мать была «достаточно хорошей», временная регрессия как к первичной идентификации со всемогущей, плодовитой, жизнедающей матерью, так и к идентификации с младенческим Собственным Я (словно беременная становится собственным ребенком) - это приятная фаза развития, на которой возможны дальнейшее взросление и созревание Собственного Я. Для других женщин неизбежная при беременности и рождении ребенка регрессия может стать болезненным и пугающим переживанием. Оживают инфантильное желание слиться с матерью и страх перед этим желанием, которые и были причиной частичной неудачи дифференциации Собственное Я/объект. На этом пути фантазии о первичном единстве матери и младенца не могут быть успешно интегрированы со взрослой реальностью, где дифференциация Собственное Я/объект является первостепенной.
ИНФАНТИЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ ИМЕТЬ РЕБЕНКА
Детское желание идентифицировать себя с первичным объектом - могущественной доэдилальной матерью - намечается в игре и фантазии задолго до наступления реальной возможности стать матерью.
Знание о своей половой принадлежности устанавливается в раннем детстве, а сексуальная идентификация в основном заканчивается к концу подросткового возраста. Физиологическая зрелость тела вынуждает подростка вступить в важную стадию отделения-индивидуализации. Генитальная сексуальность влечет девушку к ее первому половому акту, который подтверждает ее права на собственное тело. Ей остается освоить более позднюю стадию родительства. Пер-
вая беременность позволяет женщине вступить в следующую стадию идентификации, укорененную в биологической почве. Она становится окончательно «как мама», физиологически зрелой женщиной, беременной от своего сексуального партнера (партнера матери, в ее фантазии) и достаточно могущественной, чтобы самой творить-новую жизнь. Отсюда следует, что физические изменения во время беременности облегчают телесное переживание первичного единства беременной с ее матерью и в то же время позволяют приобрести опыт дифференциации от материнского тела, которое когда-то вмещало собственное тело беременной. Ее влечет к следующему этапу отделения-индивидуализации.
Подобные телесные изменения неизбежно сопровождаются воспроизведением инфантильного эмоционального развития. Молодая мать может осознать у себя первичные, ранее вытесненные фантазии и конфликты, выросшие из детских сексуальных теорий о своем зачатии, внутриутробной жизни и рождении. Отсюда следует, что позитивные и негативные аспекты Собственного Я и объекта могут быть спроецированы на недоступный взору плод, как если бы он был их продолжением.
Уникальное сочетание телесных и эмоциональных ощущений во время первой беременности предоставляет молодой женщине альтернативное средство для разрешения психических конфликтов. Плод можно физически поддерживать, оберегать и хранить его жизнь, но можно физически отвергать невынашиванием или абортом, когда мать отказывает плоду в жизни, а себе в материнстве. Таким образом, и на этом пути тело может быть использовано для выражения эмоциональных состояний сознания, как это было на ранних стадиях инфантильного развития. Фантазии маленькой девочки о жизни плода, касающиеся ее сиблингов или ее самой, могут усиливать либо ее ощущение всемогущества, либо беспомощности. Подобные реакции основаны не только на собственном раннедетском опыте (что такое младенец и что такое родители), но и на тех историях о деторождении, которые она слышит дома. Если девочка слышала об амбивалентных чувствах своей матери по отношению к ее зачатию, это должно, по моему мнению, осложнить ее окончатель-
ную идентификацию и заставить, в свою очередь, относиться к беременности амбивалентно.
ТЕЛО КАК АЛЬТЕРНАТИВНОЕ СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
Теперь я обращаюсь к отношению молодой женщины к своему телу, к Собственному Я, к своей матери как объекту и к ее опыту, физическому и эмоциональному, приобретенному в качестве объекта материнской заботы. Для своего ребенка мать - символ как взрослого человека, так и материнства. Ее физическое присутствие и эмоциональные установки по отношению к ребенку и его телу интегрируются с опытом ребенка и его сознательными и бессознательными фантазиями. Внутренний образ матери, созданный таким путем, является пожизненным образцом для ее дочери. С этим образцом она стремится идентифицироваться, но столь же сильно стремится отличаться от него. Все, в общем, согласны с тем, что основа Собственного Я и отличение Собственного Я (самого себя) от объекта формируются путем интеграции телесного опыта с мысленным представлением (образом). Лишь в раннем детстве маленькая девочка может начать не только идентификацию с матерью, но также и интроецирова-ние ощущения их с матерью взаимного телесного удовлетворения. Я бы добавила, что если девочка на доэдипальной стадии не ощущала ни себя удовлетворенной матерью, ни что она удовлетворяет ее, то ей никогда не восполнить этой базальной недостачи первичного устойчивого чувства телесного благополучия и благополучного образа своего тела, не жертвуя своим нормальным влечением к позитивному эдипальному исходу. Нарциссическая рана, дающая начало нарциссической уязвленности, зависти к матери и низкой самооценке, может быть болезненной и усиливать трудности отделения.
На отделение-индивидуализацию ребенка влияют способность матери радоваться своему взрослому телу женщины и ее отношения с отцом ребенка. Если мать удовлетворена своей жизнью, психологически симбиотическая стадия в жизни ее ребенка не будет неоправданно затянута. Атмос-
фера взаимного удовлетворения родителей друг другом и материнского наслаждения своим телом и Собственным Я не только предоставляет дочке удовлетворяющий объект для интернализации и идентификации, но и дает девочке надежду на такую же судьбу и для нее.
Отсюда следует, что матери, недовольной собой как женщиной, не умеющей принимать отца как мужчину, трудно отделить себя от ребенка, ибо она надеется жить в нем заново, наверстать все упущенное ею самой. Фантазии и реальность смешиваются для матери, если состояние слияния и симбиоза, в котором она находилась во время беременности, не прервано психологически. Фантазии и реальность смешиваются для ребенка, если поведение матери не дает ему опыта достаточно хорошего приспосабливающего материнства, в котором хорошее и плохое интегрированы, а не расщеплены. Это приводит к трудности отделения как матери от ребенка, так и ребенка от матери. Чувствует ли девочка, что ее тело и, позднее, ее мысли - несомненно, ее собственные, или же они все еще слиты с материнскими, как это было с ее телом на первичных симбиотических стадиях, предшествующих дифференциации Собственного Я и объекта?
Биологический пубертат вынуждает девушку изменить образ своего тела: образ ребенка - на образ тела взрослой женщины, которая сама может родить. Девушка осознает свое развивающееся взрослое тело, и это не только оживляет предшествующие конфликты, касающиеся ее идентификации с матерью, но и усиливает телесные ощущения и возбуждение. Происходят взрыв эмоционально регрессивных тенденций и рывок к зрелости, и надо достичь компромисса между ними. Психологическая зрелость юной женщины и ее сексуально отзывчивое тело не только устанавливают для нее статус взрослого человека, но также позволяют ей отщеплять и отрицать эмоционально болезненные состояния путем их подмены телесными ощущениями. На этом пути могут быть конкретно выражены чувства любви или ненависти к Собственному Я или объекту, избегнута депрессия и повышена самооценка. Отсюда следует, что половой акт, который кажется внешнему миру актом взрослой, генитальной сексуальности, может бессознательно стать средством
удовлетворения неисполненных догенитальных стремлений - к матери и к материнской заботе о себе.
По моему опыту, девушки-подростки, чересчур рано вступающие в гетеросексуальные связи, используют свое тело для того, чтобы вновь пережить первичный контакт матери и младенца. Им нравится прелюдия, но при интромиссии они обычно фригидны. Таким путем они пытаются установить объектные отношения, которые компенсировали бы им отсутствие ранней интернализации приносящих взаимное удовлетворение отношений мать-младенец. Эти попытки обречены на неудачу, так как физическое проникновение или эмоциональное влечение к сексуальному партнеру реактивируют у девушки первичные страхи - перед поглощением или перед аннигиляцией Собственного Я, которые первоначально возбуждали у нее отношения мать-младенец. Эти девушки не движутся к более зрелой идентификации с материнским взрослым сексуально отзывчивым телом, способным к сексуальному ответу на интромиссию, совершаемую отцом, и на беременность от него. Точно также неспособны они воспринимать своих сексуальных партнеров или другие объекты как реальных людей с эмоциональными потребностями, так как все, чего они ищут - это возврат к инфантильному всемогуществу младенца. Физическая зрелость, развитый интеллект и всемирный успех могут никак не сказаться и не повлиять на регрессивную фиксацию (на инфантильной стадии) этого аспекта эмоционального роста. Зрелая объектная любовь (как взаимное понимание и удовлетворение своих и объекта потребностей) так и не наступает, и рождение ребенка может стать катастрофой.
КЛИНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Г-жа X., тридцатишестилетняя белая преподавательница, обратилась за помощью по поводу жестокой депрессии. За спиной у нее остались обломки брака и многочисленных связей с чернокожими партнерами. В юности она страстно хотела быть писательницей, но ощутила в университете, что ее интеллект блокирован, и потому вместо этого стала преподавательницей и профессиональным литературным критиком.
Она всегда интересовалась сном и сновидениями. На первых же сеансах анализа стало ясно, что ее депрессия началась через девять месяцев после ее последнего аборта, к которому ее привели отношения с очередным черным любовником. Она сознательно планировала этот аборт, без колебаний или видимого чувства вины, так как приехала из страны, где запрещены межрасовые половые отношения. Никто бы не потерпел черного ребенка, особенно ее мать. После этого события г-жа X. бросила работу и приехала сюда, в Англию, со своим любовником, который заботился о ней и после аборта относился к ней особенно трепетно, словно она сама была утраченным ребенком. Г-жа X. наслаждалась своей зависимостью от него, словно и была его ребенком, до того момента, когда должен был бы родиться настоящий ребенок, а ей предстояло принять на себя обязанности матери.
Г-жа X, была старшей из двух детей - очень умных и красивых девочек. Когда г-же X. было пятнадцать лет, ее отец, пассивный и замкнутый, умер от карциномы полового члена, долго пролежав перед этим в больнице. Ее мать, энергичная, красивая женщина, немедленно после смерти отца вышла замуж за своего любовника. Перед смертью отец г-жи X. говорил девочке, что оставляет ей деньги на учебу в колледже, и она с горечью и виной осознавала в себе желание, чтобы отец умер поскорее, ибо продление его страданий разоряло семью. Но после его смерти мать объявила дочери, что на «ее колледж» денег у нее нет, хотя было совершенно очевидно, что она много тратит, покупая на деньги дочери (для нее и для себя) то, что улучшает физическую внешность; тряпки, побрякушки и косметику, считая, видимо, эти вещи более необходимыми.
Это был далеко не единственный случай за всю их жизнь, когда личные, отдельные от материнских, эмоциональные и духовные потребности дочери не получили признания у матери, хотя о теле дочери мать заботилась всегда. Г-жа X. всегда чувствовала при этом, что ее красивое тело и внешность никогда не приносили матери удовлетворения, но как продолжение материнских тела и внешности служили той лишь приманкой для мужчин. Мать г-жи X. часто говорила ей, что отец
никогда не удовлетворял ее сексуально, и девочка улавливала подтекст - она тоже не удовлетворяет мать. Она знала, что мать продолжает тайно встречаться с любовниками, несмотря на болезнь отца, и сердилась на него за вялое смирение с положением вещей и надвигающейся смертью. Она никогда не высказывала свой гнев, а потому оставалась хорошей девочкой, вот только стала плохо учиться: мысли ее так путались, что она просто ничего не соображала, не могла думать.
Пубертат предоставил ей альтернативный путь выхода из болезненной ситуации. Пользуясь своим телом, она могла уйти от скорби по отцу и нарциссического гнева, который возбуждала в ней связь матери. Тело также позволяло ей вновь обрести регрессивное, первичное удовлетворение, присущее отношениям мать-дитя, в которых она искала утешения, так как мать никоим образом не успокаивала и не утешала ее. Мать г-жи X. злилась на попытки дочери отделиться от нее и заставляла девочку чувствовать себя виноватой. Ситуация, в конце концов, стала настолько невыносимой, что г-жа X. совершила попытку самоубийства. Полицейский, который спас ее и отвел обратно к матери, грубо бранил ее, говоря, что до восемнадцати лет она - собственность матери и у нее нет права убивать себя. Это подтвердило убеждение девочки, что ее тело принадлежит не ей самой, а ее матери.
Одно сновидение и ассоциации на него в курсе анализа позволили нам понять ее дилемму. Г-же X снилось, что она плачет и поворачивается за утешением к своему любовнику. В ответ он подходит к ней, стаскивает с себя фальшивую белую оболочку и предлагает ей свою черную грудь. Но грудь мужчины не дает молока, и г-жа X. остается голодной и в отчаянии. Мы проработали это сновидение и сопутствующий материал, и тогда г-жа X. осознала, что в каждом мужчине она искала себе мать, и отношения даже с тем, кто так был физически непохож на ее мать, в своей основе были повторением эмоционально неутешительных отношений с матерью, когда она ощущала, что цепляется за кого-то, кто может отказать ей в жизни и в еде (как это было в сновидении) в любую минуту. Сновидение обозначило момент внут-
реннего озарения, когда она не могла не увидеть ясно, что стремится к материнской груди, которую ей никогда не обрести вновь.
Отношения г-жи X. с матерью, симбиотические и взаимно удовлетворяющие вначале, впоследствии, как только ребенок попытался начать эмоциональное отделение, резко изменились. При любой такой попытке мать приходила в ярость, требовала беспрекословного послушания, угрожала. Она неустанно расписывала дочери, какой она плохой ребенок, и со злостью повторяла, что с ней было не совладать, даже когда она была еще в животе, и что она фактически предпринимала попытку аборта. Г-жа X. никогда не проявляла открытого гнева на мать, как бы та ни провоцировала ребенка, но выросла с образом Собственного Я как плохого ребенка и с образом матери как убийцы.
Отношения г-жи X. с мужчинами строились по тому же образцу. Они всегда были бурными; г-жа X. провоцировала мужчину на бешеный гнев, сама гнева не проявляя совершенно и оставаясь жертвой. Отношения всегда разваливались, в основном их рвала г-жа X. Так она становилась (в фантазии) не только ребенком, который вынужден цепляться за мать-убийцу, чтобы остаться в живых, но также и матерью, в свою очередь вынужденной изгнать плод. Фантазия о цепляний за жизнь, несмотря на попытки могущественной матери абортировать ее, была основой нарциссической фантазии о всемогуществе, которую она отыгрывала, сама принимая решение жизнь/смерть для плода.
После работы со сновидением г-жа X. призналась, что за свою жизнь она сделала три заранее предусмотренных аборта, каждый раз от соблазненного ею мужчины. Никто из этих мужчин не хотел детей. Вскоре после прерывания беременности она рвала и с мужчинами, точно так, как она прервала две предыдущих попытки анализа. Еще в процессе анализа всплыло, что эмоциональная близость, в которой она искала и обретала первичное наслаждение от симбиотических, взаимно удовлетворяющих отношений с матерью, также оживляла в ней первичный страх быть поглощенной, ибо мать не соглашалась признавать ее как эмоционально отдельное существо со своими потребностями и позволить ей самой, в свою
очередь, отделиться от нее. Следовательно, беременность для г-жи X. была конкретным доказательством, что она обладает собственным телом и является самостоятельной женщиной, но эмоциональное отделение от матери так и не было достигнуто. Если бы плод развивался и превращался в младенца у ее груди, она бы никогда уже не смогла снова эмоционально стать младенцем, а это-то и было нестерпимо. Она страстно желала вернуться к инфантильному всемогуществу и слиянию с матерью. Как только беременность подтверждала ее сексуальную идентичность и отдельность от материнского тела, она могла абортировать плод, будто ничего не значащую часть своего тела. И однако г-жа X. помнила, когда должен был родиться каждый ребенок, и сколько ему теперь было бы лет.
В курсе анализа г-жа X. пришла к мысли, что пользовалась своим телом, чтобы отомстить подавляющей ее матери. Она получала наслаждение от секса с мужчинами, которых ее мать не одобряла, и не дарила матери внуков на замену себе. Мы поняли это так: прерывая беременность, отношения и предыдущие попытки анализа, г-жа X. чувствовала себя даже более грандиозной и всемогущественной, чем плохая мать - убийца и агрессор, с которой она себя идентифицировала. А плод представлял собой и ее как нежеланного, трудного ребенка (каким она была по словам матери), и саму мать - агрессора и убийцу. В ней не было жизнеспособной альтернативы идентификациям с плохой матерью и плохим ребенком.
Это нашло отражение и в ее переносе. Г-жу X. направил ко мне ее соотечественник и мой коллега. Когда мы встретились, у меня не было вакансии для нее, и я хотела отослать ее к другому аналитику. Когда я сказала ей об этом, она, несмотря на свою депрессию, заявила, что сможет работать только со мной и подождет. Вскоре у меня образовалась неожиданная вакансия, и мы начали совместную работу. Г-жа X. уловила на первой же встрече мой интерес к ее рассказу о ее первой беременности и аборте, так как беременность является особой областью моих профессиональных интересов. Ее ответ на мое затруднение в поиске вакансии для нее - она упорно этой вакансии дожидалась -
был проявлением переноса на меня ее базисной фантазии: она цепляется за амбивалентную мать и улещивает-соблазняет ее на то, чтобы дать ей (г-же X.) жизнь.
С самого начала г-жа X. пыталась установить амбивалентный контрперенос, в котором мы бы воспроизводили садомазохистские отношения. Часто она задерживала плату и никогда не придерживалась установленных выходных. Это была попытка превратить меня в жадную, требовательную, злобную фигуру, которая заставит ее почувствовать себя виноватой за отдельное существование. Улечься на кушетку г-жа X. не могла, но выносила на анализ множество сновидений, которые на этом этапе были богатыми и красочными. Она записывала их в тетрадку, которую приносила с собой на каждый сеанс, и читала их странно невыразительным голоском маленькой девочки. Она и толковала их очень умно, не оставляя места для моего собственного творчества. Моей ролью было смотреть с восхищением, какая она умненькая и как умеет держать под контролем ситуацию - быть пациентом и аналитиком сразу. Это было воспроизведением ее семейной легенды. Она была первым ребенком и внуком, которым все восхищались. Ее мать часто повторяла, что считала ее, ребенка, умнее самой себя. Так повторялась ситуация детского всемогущества и беспомощности. Умненький ребеночек в начале анализа служил прикрытием для чувства тревоги. Сновидения были полезным, плодотворным продуктом, но она не могла рискнуть выслушать мои интерпретации: они могли оказаться критическими нападками, от которых рассыпалось бы на части ее хрупкое Собственное Я.
Проверив мою способность быть терпеливой, выдерживать и выносить ситуацию, не превращаясь в деструктивную и контролирующую родительскую фигуру, чего она ожидала от меня, надеясь все же, что этого не произойдет, г-жа X. смогла улечься на кушетку и позволить себе регресс в аналитической ситуации. Многочисленные случаи садизма ее любовника и его контроля над нею потекли передо мной. Она выкладывала их все тем же ровным голоском, а я молча кипела от гнева и жалости к ней, беспомощной жертве его жестокости, и удивлялась - как ей удалось выжить. Со-
здавалось впечатление, что мы вместе заново проходим первичную психологически симбиотическую стадию отношений мать-младенец, в которых невербальные переживания ребенка опосредуются не только материнским ответом данному ребенку, но и ее предшествующим жизненным опытом, и ее настоящим. С этой точки зрения мой контрперенос - в основе которого был мой ответ данной пациентке, а также и моя жизнь - должен был стать самым тонким инструментом, доступным мне для анализа г-жи X.
Исходя из нашего понимания аналитической ситуации, большая часть последующей работы была сосредоточена на потребности г-жи X. в эмоциональном слиянии с матерью, несмотря на противоположное желание - быть отдельной и свободной личностью,. С детства она рассказывала о всех своих проблемах с родителями своим друзьям и поступала в соответствии с их суждениями, так как ей не оставили возможности научиться судить обо всем самой. «У меня такое чувство, будто во мне нет сердцевины меня самой»,- сказала она. Мы поняли, что ее неспособность продолжать вынашивать свои беременности была симптомом глубинного ощущения потребности оставаться пустой и мертвой.
По мере того как развивался лечебный союз, г-жа X. все сильнее приходила в соприкосновение со своими чувствами. Теперь она боялась собственных сновидений, так как позволила мне толковать их, чтобы я могла ей помочь; но утрата контроля и инфантильного всемогущества была трудно переносима для нее, равно как и углубление нашей близости. Ее депрессия и горе (не только из-за потери положения умненького ребенка в аналитической ситуации и в отношениях с любовником, но также из-за утраты ее профессиональной идентичности как умного критика, своей критиканке-матери) были вербализованы и дали возможность горевать и о своей последней беременности. Но что любопытно, она не выражала никакой вины по этому поводу. Тем не менее, за каждой сессией, на которой мы понимали друг друга и углублялось ее самопонимание, следовала или негативная терапевтическая реакция, или усиление садомазохистских аспектов ее отношений с любовником.
Было похоже, что установление взаимно удовлетворяющих отношений между нами было слишком приятным и слишком целительным для нее. Интерпретации, которые показывали ей, что я ее понимаю, возбуждали в г-же X. страх перед слиянием со мной, и она опять использовала свое тело, чтобы отделиться, совершая сношение с любовником перед каждым аналитическим часом. Тем самым возбуждение от хорошей эмоциональной близости со мной и страх поглощения рассеивались путем физического переживания оргастического слияния с мужчиной. Мы поняли, что на глубинном уровне каждого мужчину история г-жи X. провоцировала на ненависть к ее матери и желание вырвать г-жу X. из ее лап. Связи с чернокожими партнерами служили г-же X. для того, чтобы, используя свое тело как продолжение материнского, утонченно унизить мать этим путем. Мать часто критиковала и упрекала ее, говоря: «Как может твое тело, которое когда-то было во мне, чувствовать что-нибудь к мужчине, которого я не выношу!» Мать г-жи X. очевидным образом разделяла фантазию дочери о том, что мать владеет ее телом и нераздельна с ним. Выбирая себе таких незавидных мужчин, г-жа X избегала страха перед материнской завистью. На взрослую женщину давили последствия ее сильнейшей детской зависти к своей красивой матери. Эта зависть повторилась и в подростковом возрасте, а в переносе проявлялась в завистливых нападках на нашу совместную работу. Мы не должны были быть взаимно удовлетворены и возбуждены сотворением совместного живого опыта, переживания, но должны были зачать ребенка, которого г-жа X. потом абортирует. Это отражалось и в творческих способностях г-жи X.: она могла раздавать свежие, яркие, живые и будоражащие идеи своим студентам, но не могла развивать их сама. Ее неспособность писать лишь дополняла неспособность произвести на свет живого ребенка, так как она проецировала свои деструктивные желания на окружающий мир, где каждый читатель был критиканкой и садисткой матерью, с которой она ощущала себя слитой воедино. Наша аналитическая работа была теперь сосредоточена на проецировании садистских импульсов: на мать - изначально, на аналитика - при переносе. Г-жа X. теперь уже
могла воспринимать свой собственный садизм. Сперва она говорила: «Я делала только то, чего хотела мать». Позже она плакала: «Я убила этих детей». Интерпретация, что г-жа X. неспособна признать хорошую мать в своем аналитике, в своей матери или в самой себе, помогла ей рассказать о фантазии, которая тайно владычествовала над ней в детстве и никогда не была вытеснена. Согласно этой фантазии не было такого времени, когда ее не существовало. Она просто была Яйцом, сокрытым в материнской утробе и ожидающим оплодотворения спермой отца. Фантазия делала ее участницей родительского соития и собственного зачатия. Отсюда следует, что эта фантазия не только делала ее причиной рака полового члена, от которого скончался отец, поскольку она кусала его член при интромиссии (известное неразличение рта и вагины), но еще и поддерживала первичное единство матери и ребенка, так что становилось неясно: она - это она или собственная мать. Любая беременность г-жи X., таким образом, угрожала выполнить эдипальное желание, которое не было вытеснено. Оплодотворенное яйцо, плод внутри ее тела, можно было реально изгнать, не ощущая вины: плод представлял собой как опаснейший рак, убивший отца, так и садистские аспекты ее Собственного Я, слитые с теми, которые она проецировала на свою мать.
Теперь мы разглядели катастрофу, которая грозила, если ей станет лучше от анализа. Если она сможет принять своих родителей как хороших и способных приносить друг другу удовлетворение (аналогично тому, как ей нужно и невозможно было принять аналитика и себя как хороших и способных к взаимно удовлетворяющим отношениям), тогда ей придется столкнуться с глубочайшим чувством вины за всемогущественную фантазию, разрушившую их брак. Отсюда следует, что в своей всемогущественной фантазии она разрушала также свой собственный анализ. За эту садистскую фантазию, которую она никогда не подавляла, она платила своей жизнью. Сознательно желая достичь взрослых отношений, биологически зрелой женской идентичности, академических успехов, она могла бороться за выполнение своего желания, но сама себе отказывала в этих достижениях. Она еще могла оставаться в
живых, но не позволяла себе ЖИТЬ, так как чувствовала, что и ее мать никогда ей этого не позволяла.
Стало ясно, что невытесненная инцестуозная сексуальная фантазия (принадлежащая доэдипальной и эдипальной фазе) владела и распоряжалась жизнью г-жи X. Садистское наслаждение, содержащееся в этой могущественной фантазии и в удовольствии от того, что она вредила матери в утробе и причиняла ей боль, влекло ее к выбору чернокожих сексуальных партнеров, физически непохожих на отца, причем таких, которые не хотели детей. Этим путем она разрешала свои амбивалентные желания, возлагая ответственность на партнеров. Таким образом, она могла абортировать нерожденного ребенка, который, кроме вышеназванного, тайно представлял собой эдипального партнера - покойного отца, больного раком, которого она могла абортом разрушить вновь. Сновидение и ассоциации на него, последовавшие за анализом этого материала, открыли нам следующий аспект ее дилеммы. После нашего совместного решения завершить анализ за год (так как г-жа X. должна была вернуться в свою страну) ей приснилось, что она решила сделать аборт. Это было тем более примечательно, что наяву она более не желала ни забеременеть, ни сделать аборт. И вот ей снилось, что после аборта врач показывает ей плод и дает его кровь для теста на родительство. Это выглядит ужасно, но врач делает это, чтобы помочь ей. В ее ассоциациях проявилось, что плод был раковой опухолью, внутренним представителем отца, которого она не могла оплакать и позволить ему уйти, упокоиться с миром. Ни один сексуальный партнер не мог заменить его, так как эмоциональное отделение от отца подтвердило бы его разрушение, аналогично тому, как отделение от матери было бессознательно уравнено со смертью. Плод, который можно было разрушить абортом и заменить новым, был конкретным телесным представителем обоих родителей, которых она и любила, и ненавидела. Начиная с этой точки своего анализа, г-жа X., размышляя о смерти своего отца, поняла, что раньше она думала: отец так никогда и не отделился от своей матери, и в ее фантазии его смерть равнялась возвращению в
утробу матери. Таким образом, смерть и внутриутробная жизнь до рождения были бессознательно уравнены.
Анализ позволил г-же X. оплакать покойного отца. Всплыли прежде вытесненные воспоминания о временах, когда все было хорошо между ее родителями и между нею и родителями. Она опять начала писать; в этом ей помогло ожившее воспоминание о покойном отце как о любящем родителе, который о ней заботился - для него она и писала. Она пришла к более взрослым отношениям с матерью и смогла сказать ей: «Если бы отец был жив, моя жизнь сложилась бы иначе». А мать тоже в первый раз позволила себе заплакать о своем первом муже. После этого они разделили и ее скорбь о покойном втором муже, оплакав его. Г-же X. снятся до сих пор беременность и аборты, но у нее нет больше потребности отыгрывать их. Она думает о том, чтобы закончить не приносящие удовлетворения отношения со своим любовником и ощутить себя отдельной, самостоятельной личностью. Она встретила человека, с которым, как она считает, у нее сложатся более подходящие отношения. То, что она приняла свои садистские желания, так же, как и свои любовные чувства к отцу и скорбь о нем, позволило ей выбрать между выживанием и жизнью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выводы, которыми я завершаю эту статью, покоятся не только на анализе г-жи X., но и на моем клиническом опыте работы с другими пациентками. Первая беременность - важный этап продвижения в задаче, которую всю жизнь решает женщина' отделение от своей матери и индивидуализация. Беременность дает женщине возможность вступить на дальнейший, основанный на биологической почве этап эмоциональной идентификации с доэдипальной матерью. Ощущение от ребенка внутри ее собственного тела также позволяет женщине отличить свое тело от материнского, из которого она сама явилась на свет. Конкретное физическое переживание симбиоза матери и плода (теперь внутри ее взрослого тела) идет параллельно эмоциональному симбиозу. Мать и ребенок на этой стадии считают себя единым объек-
том - Собственным Я. Женщина, беременная в первый раз, должна достичь новых рубежей адаптации в своем внутреннем мире и во внешнем объектном. Внутренняя идентификация со своей матерью как объектом и нарциссичес-кая идентификация с плодом как с Собственным Я усиливаются нормальной регрессией, которую испытывает беременная.
Если маленькой девочке становится известна амбивалентность матери по отношению к ее зачатию, это может впоследствии исказить ход первой беременности молодой женщины, так как в это время в первый раз достигается биологическое основание для идентификации со своей матерью. Плод внутри тела беременной теперь представляет собой хорошие и плохие стороны ее Собственного Я и объекта, и она может не дать ему позволения жить, если считает, что и ее мать этого ей не позволяла. Амбивалентность беременной к своему нерожденному ребенку может отражать ее более раннюю напряженную амбивалентность к своей матери, результатом которой явились трудности дифференциации Собственное Я/объект и дальнейшие трудности отделения-индивидуализации. Слабые отношения с отцом, никак себя не проявляющим, отнюдь не помогают девочке отделиться от матери и не способствуют взгляду на себя как желанного и любимого обоими родителями ребенка, одаренного своей собственной жизнью. Всепоглощающее чувство вины за выживание вопреки материнской амбивалентности к зачатию может породить у девочки проблему: решив, что ей дано право только оставаться в живых, как она сможет жить полной жизнью? Гордость за свое выживание вопреки могущественной матери - убийце и агрессору, может также стать у ребенка источником всемогущественных фантазий и оправданием для садистских фантазий, воплощаемых в более широких объектных отношениях. Отделение становится бессознательным эквивалентом смерти Собственного Я или объекта. Трудность в приятии матери как хорошей матери может привести к тому, что женщине будет трудно принять творческие и жизнеда-ющие аспекты Собственного Я.
БЕРЕМЕННОСТЬ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ И АБОРТ
Несмотря на растущий интерес к психоаналитическому пониманию беременности, все еще нет литературы по самопроизвольным выкидышам и недонашиванию, хотя абортам и уделяется некоторое внимание. Анализ пациенток, у которых был выкидыш*, часто открывает - много лет спустя после этого события - чувство утраты, долгое горе и не нашедшую выхода скорбь (продолжительную депрессию), потерю самоуважения и ненависть к своему женскому телу, которое не родило живого ребенка, как родило тело их матери. Выкидыш наносит урон представлению о самой себе.
Здесь я буду говорить и о выкидыше, и об аборте, и об их психологических предпосылках и последствиях. В обеих ситуациях молодая женщина беременеет, вступает в нормальный этап дальнейшего развития жизненного цикла, но не способна выносить беременность и стать матерью, даровать миру живого ребенка. Таким образом, нормальной первой беременности нередко угрожает выкидыш. Причины этого врачу зачастую трудно бывает установить и устранить, и они вовсе не обязательно повторятся в последующих беременностях. Большинство выкидышей случается в первой трети беременности, когда женщина сознательно ощущает развивающийся плод как часть Собственного Я. Ее сновидения могут раскрыть другие стороны бессознательной фантазии и тревоги, например, о том, кого представляет собой плод и кто именно на эдипальной стадии девочки стал отцом ее ребенка в запретном, нагруженным виной половом акте.
При анализе женских сновидений на меня произвело сильное впечатление влияние физиологических телесных изменений на душевную жизнь. В сновидениях могут найти отражение даже гормональные изменения в теле женщины во время менструального цикла. Как в ежемесячном, так и в жизненном цикле развития женщины, психические и телесные изменения влияют друг на друга, и тесная связь меж-
* Следует отметить, что каждая четвертая из первых беременностей заканчивается выкидышем.
ду ними позволяет женщине бессознательно использовать свое тело в попытках избежать психического конфликта. Моя практика работы с пациентками, страдающими невынашиванием, заставила меня задуматься о возможности существования некоторых бессознательных причин для выкидыша. Психоанализ, при котором бессознательные причины невынашивания будут осознаны пациенткой, поможет ей сохранить беременность и родить живого ребенка.
Первая беременность, рывок от дочернего состояния к материнскому,- время эмоционального и психологического переворота. Однако, несмотря на эмоциональный кризис, который она провоцирует, это нормальная фаза развития и драгоценное время для эмоциональной подготовки к материнству. Во время беременности, особенно первой, оживают конфликты предыдущих этапов развития, и молодая женщина вынуждена разрешать их внутренне и внешне новым путем. Мы можем, таким образом, рассматривать первую беременность как кризисную точку в долгом поиске женской идентичности, как точку, из которой невозможен возврат. Беременность - важный этап решения задачи отделения от матери и индивидуализации, задачи, которую женщина решает всю свою жизнь. Как мы это видели в главе 6 («Влияние особенностей психического развития в раннем детстве на течение беременности и преждевременные роды»), детское желание идентифицироваться с первичным объектом (могущественной доэдипальной матерью) можно наблюдать в играх и фантазиях девочки задолго до реальной возможности стать матерью.
Когда в юности девушка вступает в свою собственную сексуальную жизнь, она подтверждает тем самым свои права на свое тело и ответственность за него, отдельное от материнского. С этого времени слабеет власть матери над телом дочери. Однако беременность позволяет женщине вновь пережить первичное единство с матерью и одновременно нар-циссически идентифицироваться с собственным плодом как с Собственным Я в глубине материнского тела. Подобное симбиотическое состояние будущей матери может активировать у нее напряженно амбивалентные чувства как к своему плоду, так и к своей матери. Для молодой женщины,
чья мать была достаточно хорошей, временный регресс к первичной идентификации с щедрой жизнедающей матерью и к идентификации с Собственным Я в качестве собственного ребенка - это приятная фаза развития. Для других женщин, у которых амбивалентность к матери не получила разрешения или даже преобладают негативные чувства к Собственному Я, сексуальному партнеру или важнейшим фигурам прошлого, неизбежный регресс беременности облегчает проецирование этих негативных чувств на плод. Таким образом, ребенок задолго до своего появления на свет может обладать для матери негативной пренатальной идентичностью.
В период первой беременности перед молодой женщиной лежат два пути разрешения психического конфликта. Она может удерживать плод внутри себя, защищая его и позволяя ему месяц за месяцем расти и созревать, или же она может физически отвергнуть его выкидышем или абортом. Таким образом, мать может содействовать жизни плода и собственному материнству или разрушить и то и другое. Незавершенная беременность и отказ от рождения живого ребенка (по бессознательным мотивам или в силу сознательного решения сделать аборт) для каждой женщины имеют индивидуальное значение. На эмоциональный исход беременности влияет взаимодействие фантазии и реальности в сознании беременной. Некоторые женщины, как только узнают о своей беременности, начинают мечтать и фантазировать о своем ребенке, его образ возникает в их сновидениях или же в их бессознательных фантазиях, иногда даже с его собственной сексуальной идентичностью. Эти женщины предвкушают свое достаточно хорошее материнство, какое они пережили со своими матерями. Выкидыш для них- болезненная утрата, потеря полноценного ребенка, смерть которого требует оплакивания.
Другие женщины относятся к плоду как к части собственного тела, без которой легко можно обойтись. Их сознательное желание забеременеть вовсе не имеет своей конечной целью материнство. Беременность для них может быть бессознательным средством подтверждения женской сексуальной идентичности или взрослости, физической зрелости.
Плод представлен в фантазиях, сновидениях или реальности не как ребенок, а, скорее, как аспект плохого Собственного Я или как плохой внутренний объект, который следует изгнать. Анализ таких пациенток открывает нам их раннедетс-кие отношения с матерью: они до предела заполнены фрустрацией, гневом, разочарованием и виной. Утрата плода в результате выкидыша или аборта для них, скорее, облегчение, а не потеря. Внутри них словно продолжает сидеть плохая мать и не разрешает своей дочери самой стать матерью. Возможно, что бессознательная тревога беременной, связанная с фантазией о плоде как представителе плохих и опасных аспектов ее Собственного Я и ее партнера, вносит вклад в стимуляцию изгоняющих движений матки, которые и приводят к выкидышу. Аналитик в этих случаях воспринимается при переносе как злонамеренная внутренняя мать. Анализ этих аспектов душевной жизни может помочь женщине сохранить беременность и стать матерью.
Главенствующая установка Фрейда на материнство состояла в том, что первенец для матери служит продолжению ее нарциссизма; таким образом, ее амбивалентность к живому ребенку получает позитивное разрешение. Ребенок становится любимым и желанным. Любовь к ребенку вызывает у нее вину за негативные к нему чувства и желание эту вину загладить. Однако Фрейд также признавал материнскую амбивалентность и то, что матери трудно иметь выжившего, но нежеланного ребенка. «Как много матерей, нежно любящих своих детей, даже, может, чересчур нежно, неохотно зачали их и хотели иногда, чтобы живое существо внутри них не развивалось бы дальше?».
Клинический опыт заставляет нас признать, что амбивалентность, скрытая или явная, присутствует во всех отношениях ребенок-родитель и во многом зависит1 от отношений между самими биологическими родителями и их установкой на будущего ребенка. Библейский миф о Моисее, греческий миф об Эдипе и кельтская легенда о Мерлине - детях, выброшенных родителями после рождения, показывают нам универсальность этой темы. Клинический опыт подтверждает также универсальность искушения быть физически или эмо-циональн жестоким к беспомощному, требовательному
младенцу или трудному, растущему ребенку. На эту универсальную родительскую дилемму могут пролить яркий свет наши чувства контрпереноса, возникающие, когда поведение пациента противоречит нашим личным нормам нравственности. В подобных обстоятельствах, особенно с перверсны-ми пациентами или садистами, аналитику особенно трудно удерживаться на позиции нейтральности. Аналитику приходится отслеживать свою позицию, чтобы противостоять искушению принять на себя роль родителя-судьи, который устанавливает моральные нормы для упорствующего ребенка.
Я попытаюсь иллюстрировать мои взгляды на универсальность дилеммы материнской амбивалентности и различные пути ее разрешения, представив три клинических случая. Первая пациентка была жертвой концлагеря, и пережитые испытания привели к неоднократным выкидышам. У второй пациентки были чрезвычайно нелегкие отношения с матерью; анализ открыл ее бессознательную амбивалентность к плоду (несмотря на сознательное желание иметь ребенка) и помог выносить беременность. Третья пациентка прервала три беременности и почувствовала облегчение, когда приблизилась менопауза, и она больше не могла забеременеть.
КЛИНИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ 1
Г-жа А. выжила в концлагере. Через неделю после начала ее первой менструации она была отправлена в Аушвитц. Ее родители там и погибли. После освобождения из лагеря г-жа А. эмигрировала в Англию и вышла замуж. Ее менструации бьши нерегулярны. Она страстно желала забеременеть и дать новую жизнь новому миру, где больше не царят садизм и смерть. Для нее, как для многих из уцелевших при Катастрофе, дети являли собой возвращение к нормальности из мира психоза и восстановление семейной жизни. Бессознательно будущие дети г-жи А. призваны были заменить ее погибших родителей. Г-жа А., которой так нужен был ребенок, с радостью беременела несколько раз, но каждый раз происходил выкидыш. Каждый раз это было нестерпимо физически. Ей требовалось много времени, чтобы поправиться, и она часто подолгу лежала съежившись в сво-
ей постели в затемненной комнате.
Г-жа А. жила как в настоящем, так и в прошлой реально-сти Аушвитца, где столько времени провела, прячась под тряпьем в кровати. Ее прошлое не было слито с настоящим, скорбь по убитым не излилась наружу. Ей необходимы были два жизненно важных аспекта эмоциональной идентификации при беременности: идентификация с собственной матерью и идентификация с плодом как с Собственным Я. Хотя г-жа А. видела тело своей погибшей матери, она не могла позволить ей умереть в своем сознании и потому не могла оплакать ее, ибо скорбь включала вину дочери за то, что пережила мать, оставшись в живых. Идентификация с плодом, представляющим ее Собственное Я, была тоже невыносимо травматичной. Ее желание забеременеть включало бессознательное желание родиться вновь, с новым Собственным Я, но в ее сознании не было жизнеспособной альтернативы убитой матери и травмированному ребенку. Таким образом, в то время как беременность удовлетворяла ее желание стать матерью, невынашивание давало возможность избежать судьбы своей матери и уберегало нерожденное дитя от ее собственной участи. Анализ помог г-же А. начать оплакивать свое прошлое и бороться за право выжить эмоционально. Она приняла своего аналитика (при переносе) как сильную жизнедающую мать, и это дало ей силы подарить новую жизнь более безопасному миру. В конце концов в семье г-жи А. родилось трое детей, но она никогда не забывала, сколько лет было бы теперь ее утраченным детям, если бы им удалось выжить.
КЛИНИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ 2
Г-жа В. вышла замуж поздно и сознательно стремилась осуществить желание своего детства - иметь ребенка - в то короткое время, которое еще оставалось у нее до менопаузы. Она была дочерью женщины, которая прежде всего ценила свою профессию, а не свою женственность или женственность своей дочурки. Своих двоих сыновей (старше девочки) она обожала и постоянно хвалила их физические качества и достижения в учебе, тогда как достижения г-жи В.
оставались, казалось ей, незамеченными. Отец г-жи В. был болезненным и замкнутым, так что идентификация матери с сыновьями сказалась на разрешении Эдипова конфликта у ее дочери. Г-жа В. помнила, что в детстве все время хотела быть мальчиком, чтобы добиться материнской любви, как ее братья. Ее способности позволили ей завоевать высокие награды за академическую успеваемость, которые и вызвали, в конце концов, восхищение матери, но г-жа В не была счастливой женщиной и не получала удовольствия от своего тела, так как мать никогда не ценила ни собственной, ни дочкиной женственности. Однако в детстве, в течение нескольких лет тайные отношения с младшим братом (взаимная мастурбация) позволили ей наслаждаться тем, что она приносила сексуальное удовольствие и получала его от лица мужского пола, и это подняло ее самооценку. Тем не менее, оставляющие более глубокий след младенческие отношения с матерью, в которых (в данном случае) удовлетворение не приносилось и не получалось ни одной из сторон, привели к непрочности, нестабильности базального ощущения благополучия и к нарциссическим проблемам, которые г-жа В. пыталась разрешить в ряде гетеросексуальных отношений. Они были физически удовлетворительными, но эмоционально болезненными. Ее первый возлюбленный был немолодым и мягким человеком, как ее отец; те, кто последовал за ним, были моложе и обращались с ней плохо и пренебрежительно, как ее братья.
В начале анализа я видела, что г-жа В. проецирует на меня ужасную могущественную мать ее внутреннего мира, которая ни дает, ни принимает любви, но в курсе анализа чувства, которые пациентка переносила на меня, женщину-аналитика, очень изменились. Из этого проистекли более теплые и легкие отношения с матерью и с аналитиком. Г-жа В., став способной давать и принимать любовь, нашла ласкового и внимательного партнера, вышла за него замуж и забеременела. Сознательно она была в восторге, однако по мере увеличения срока беременности, становилось ясно, что она осталась бессознательно амбивалентной к будущему ребенку. Она не следила ни за своим здоровьем, ни за здоровьем плода (УЗИ показало, что это мальчик). Всплыли старые кон-
фликты и проблемы, которые, казалось, были уже проработаны в курсе анализа, словно новая идентичность пациентки (будущая мать) угрожала старой. Мать не обрадовалась беременности дочери. У г-жи В. бывали кровотечения, но она не желала лежать, как следовало бы, чтобы сохранить ребенка. Ее конфликты обнажило сновидение, которое посетило ее после того, как я отменила три сессии. Ей приснилось, что она гуляет с матерью и чувствует, что ей угрожает выкидыш. Мать говорит, что ничего, мол, не поделаешь, но г-жа В. понимает, что немедленно должна попасть в больницу, а там уж врач поможет спасти ребенка. Мать говорит, что это ни к чему, и никак не помогает ей - не позволяет ей родить живого ребенка. Г-жа В. толковала свое сновидение так: врач - это аналитик, чей позитивный ответ на ее беременность подкрепил подтверждение ее женственности со стороны мужа. Анализ показал ей, что с прошлым можно все-таки многое сделать, и она с нетерпением ждет возвращения аналитика. Выкидыша и на самом деле не случилось. Когда ребенок зашевелился и подтолкнул ее к новой идентификации, серия сновидений обнажила новое, непреодолимое возвращение тем ее анализа. В первом сновидении она обзаводилась новым паспортом; во втором она была в плавательном бассейне, где большие мальчишки грубо обращались с маленьким, сталкивали его в воду, топили. Какая-то женщина прыгнула в воду и спасла малыша, и г-жа В. с облегчением увидела, что он жив. В своих ассоциациях на это сновидение г-жа В. вспомнила, как ее когда-то вот так же топили братья, а наблюдавшая сцену женщина прикрикнула на них и заставила прекратить это. Г-жа В. была напугана, что даже в ее сновидениях ее ребенка спасает аналитик, а не она сама, словно она идентифицирует себя с матерью, которая не спасла ее самое. Она почувствовала облегчение от того, что аналитик может спокойно принять ее амбивалентность; ее бессознательное чувство вины вошло в сознание, и она нормально доносила беременность. В других сновидениях на первый план выступала детская зависть г-жи В. к братьям. Ей снилось, что она гермафродит, и она позволила себе вспомнить, что когда была маленькой, думала о себе, как о слабоумном маленьком мальчике. Этот
новый материал помог дальнейшей проработке ее амбивалентности по отношению к мальчикам вообще и к нерожденному еще сыну в частности. Наконец стало ясно, что для нее он - эдипальный ребенок, и тем самым свидетельствует о ее вымышленных инцестуозных отношениях с братом. Избавление от столь тяжкого груза бессознательной вины во время беременности помогло впоследствии г-же В. стать хорошей матерью своему мальчику, с которым она тесно идентифицировалась.
КЛИНИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3
Мой последний случай - молодая женщина, которая не смогла преодолеть во всем объеме трудности развития при переходе от отрочества к юности. Несмотря на брак с молодым человеком, которого она любила, г-же С. было трудно эмоционально отделиться от матери и взять на себя ответственность за свое отдельное существование, тело и сексуальность. Анализ вскрыл, что ее проблемы настоящего времени начались еще в детстве, когда ей трудно было принять свою женственность и свое женское тело. Поскольку мышление г-жи С. было блокировано давней инфантильной фрустрацией и застарелым гневом на родителей, которые ей возбранялось выражать, а также виной за свою инфантильную сексуальность с ее вытесненным телесным возбуждением и сексуальными фантазиями, то она бессознательно отыгрывала свои эмоциональные проблемы - посредством своего тела. До замужества г-жа С. сделала три аборта и предпринимала попытку начать анализ. Но эта попытка тоже была прервана - неожиданным необходимым переездом мужа (в связи с его профессией) в Лондон, где она и появилась на приеме у меня.
Г-жа С. происходила из южноамериканской католической семьи, получила образование в строго католической школе у монахинь. Там ей вдолбили, что сексуальность - не для удовольствия, а для деторождения. Из-за подобной «науки», даже став взрослой женщиной, она не могла пользоваться контрацептивами. Семейная легенда о том, что родители полюбили друг друга с первого взгляда и с тех пор
жили исключительно счастливо, тоже оказала свое воздействие. В фантазии маленькой девочки их сексуальная жизнь началась после брака, в котором они и зачали четверых детей. Мать твердила ей, что они хотели, чтобы дети увенчали их счастье. Г-жа С. была младшей и единственной девочкой, и ее тело подвергалось строжайшему материнскому контролю. Когда она была грудной, ее кормили строго по часам, а не по ее потребностям, приучение к горшку тоже было очень жестким, навязывалось ребенку.
Она была угрюмой, непокорной девочкой, пока ее рассерженные родители не пригрозили, в конце концов, отослать ее в интернат. С тех пор она сделалась шелковой. Часть своего гнева ей удавалось выражать, приводя свою комнату в ужасный беспорядок. Отец сердился на это поведение, которое мы поняли во время анализа как провокацию виноватой девочки, желавшей, чтобы отец наказал ее за вытесненный гнев. Однако многочисленные служанки быстро все убирали перед его приходом, так что бессознательное желание наказания вечно поддерживалось, но никогда не осуществлялось. Беспорядок в комнате был для г-жи С. символом беспорядка а ее сознании, где должны были находиться только мысли ее матери и не было места для собственных мыслей, которые приходилось отщеплять и вытеснять.
Мать г-жи С. продолжала контролировать тело и внешний вид дочери, одевая ее так, как считала нужным, и забивая ей голову строжайшими правилами поведения. А вот к началу месячных она дочь не подготовила. Первая менструация стала шоком для девочки, чем-то грязным и постыдным, словно она снова не смогла проконтролировать свой сфинктер, как это случалось с ней в детстве в постели.
В пубертате ее тело развилось гораздо раньше, чем у подруг. Увеличивающиеся груди, чей рост она не могла контролировать, и появление вторичных половых признаков развивающегося тела заставляли ее стыдиться. Она прятала их; она не носила купального костюма, а находясь на пляже с семьей по выходным - заворачивалась в полотенце. Она стала упрямо молчаливой с матерью, чтобы не дать выплеснуться своему гневу и не позволить проникнуть в себя словам матери. Она стала плохо учиться и ее образ Собственного Я
стал скверным во всех отношениях. Возрождение сексуальности (на этот раз во взрослом теле), которое обусловил пубертат, предоставило г-же С. альтернативный способ восстановить самооценку - ее ценность отражалась в глазах настойчивого поклонника, не дававшего ей прохода. Через него она смогла увидеть себя как красивую девушку, а не грязную девчонку, которой она ощущала себя. Так как она была неспособна сама думать за себя, а католическое воспитание не позволяло ей предохраняться, то она ответила взаимностью на страсть молодого человека, ни о чем не задумываясь и не осознавая риска, которому подвергается. Бессознательно она ожидала, что взрослым будет он и возьмет на себя ответственность за нее и ее тело, как это всегда делала ее мать. Беременность и последовавший аборт повергли ее в отчаяние, так как она ожидала, что он будет любить ее так, как ей говорили, отец любил ее мать, и они заживут счастливо, как гласила семейная сказка. Сексуальная страсть дозволялась только при условии романтической любви.
Хотя г-жа С. неосознанно чувствовала, что ее любовник не намерен брать на себя ответственность за нее или жениться на ней, она возобновила отношения с ним, и опять никто из них не соблюдал предосторожности. Она снова забеременела и снова прервала беременность. Позднее, в курсе анализа, мы поняли, что ее вторая беременность была компульсивным трагическим возмещением за прерывание первой беременности, а не следствием желания иметь ребенка. Она также была символом глубинной душевной проблемы - принятия на себя взрослой ответственности за себя и свое тело, так как она ничего не думала о том, как будет отвечать за реального ребенка. Нормальная нарциссичес-кая идентификация женщины со своей матерью толкала ее к беременности - завершающей стадии телесной идентификации с нею. Ее собственное состояние эмоционального развития, однако же, оставалось на уровне зависимого ребенка. Она не могла доверить себе вырасти во взрослую женщину, которая станет матерью и примет на себя ответственность за беспомощного зависимого младенца.
Любовник г-жи С. бросил ее, как только узнал, что она опять беременна, и у нее не было выбора - ей пришлось сделать второй аборт. Последовала глубокая депрессия, с которой ее уложили в больницу, где в состоянии глубокого регресса она лежала не вставая, так что ее приходилось мыть и кормить как ребенка. Она поправилась, когда прошел срок, в который мог бы родиться ребенок. Она была красавицей, но ощущала себя уродиной, которую никто не сможет полюбить, пока не встретила молодого человека, который влюбился в нее и выразил желание жениться на ней. Отражаясь в его любящем взоре, она ощутила, что ею восхищаются и она достойна любви. Был назначен день для пышной свадьбы в ее родном городе.
И опять она предалась страсти со своим будущим мужем не предохраняясь, забеременела и абортировала плод. Ее словно что-то толкало, причем не только к беременности, но и к аборту. С этого времени г-жа С. опять впала в депрессию, и после пышного венчания ее брак оказался асексуальным, так как она не могла позволить мужу проникнуть в нее. И так продолжалось несколько лет. Она наказывала себя и мужа, не позволяя ни себе, ни ему испытать взаимное сексуальное удовлетворение. Было похоже, что она не могла определить себя ни как взрослую сексуальную женщину, ни как хорошую девочку. В ее душевной жизни не было жизнеспособной альтернативы абортированию ее зависимого плохого младенческого Собственного Я, но избавляясь от него, она теряла и хорошие стороны Собственного Я.
Мы начали анализ, сознавая, что новый переезд за рубеж мужа г-жи С, в связи с его работой, может прервать нашу совместную работу. Весьма возможно, что бессознательно г-же С, чтобы она рискнула начать анализ и войти в новые отношения, нужно было знать - она не будет поймана навеки в эту ловушку. Это, несомненно, отражало ее дилемму в деторождении, так как она боялась, что будет чувствовать себя пойманной в ловушку новыми отношениями с ребенком, как она это чувствовала в своих отношениях с матерью, мужем и аналитиком.
Сперва г-жа С. была так же молчалива со мной, как с матерью и мужем. Моя интерпретация, что она не может по-
зволить мне проникнуть в ее сознание, как мужу - в ее тело, помогла ей заговорить. Она утешала себя за стыд и унижение от того, что раскрывает передо мной свои мысли, напоминая себе, что платит мне за анализ. Таким образом, при переносе я стала одной из служанок, которым в ее детстве платили, чтобы они убирали ее комнату. Она заговорила о своем стыде за то, что ее тело осквернено добрачными абортами, после того как ее сновидения открыли нам ее страх: муж бросит ее, как угрожали сделать родители в детстве. И это тоже было бы наказанием, так как она любила мужа и чувствовала себя зависимой от него. Когда этот материал был проработан, депрессия г-жи С. стала спадать, и они с мужем принялись отделывать свою спальню (до той поры это дело было брошено на° полдороге). Тем не менее, сновидения продолжали раскрывать ее вину за то, что ее жизнь улучшилась, и ее постоянную потребность в наказании. Они обнажали и ее тревогу о том, что, возможно, им с мужем придется переехать в Европу, а это прервет ее анализ.
Одно сновидение отразило и ее взросление в процессе анализа, и ее страх, что наступит регресс, если придется прерваться. Ей приснилось, что ее новую мебель увозят в ее старую комнату в доме родителей. Она боялась, что если вернется обратно с свою страну, ловушка родительского дома опять захлопнется и не отпустит ее строить собственную жизнь с мужем. Она боялась, что депрессивные мысли матери о женской жизни и ее гнев против мужчин снова начнут управлять ее рассудком. Однако она считала, что повзрослела за время анализа, и может теперь жить своим умом, а не матушкиным. Она чувствовала себя виноватой за то, что стала гораздо счастливей, несмотря на то, что знает теперь о глубокой депрессии матери.
Г-жа С. признала, что они стали гораздо ближе с мужем и что она отходит от образца своих отношений с матерью, где она всегда чувствовала себя зависимым ребенком. Это продвижение отразилось на переносе - она начала говорить со мной по-английски, а не на родном языке, как мы говорили с ней до того. Тем самым, ее чувства и мысли получали выражение на новом языке, который она делила со мной, а не с матерью. Теперь, кроме конфликтной идентификации со ела-
бой и депрессивной матерью у нее появилась возможность идентифицироваться со мной, какой она меня видела,- уверенной и независимой женщиной.
Г-жа С. снова почувствовала сексуальное влечение к мужу и на этот раз позволила себе подумать о необходимости контрацепции. Она сходила к гинекологу. Однако ее старый страх потери контроля над телом примешивался к ее сексуальности, и она опять не смогла позволить партнеру интромис-сию. Было похоже, что ее взрослое Собственное Я опять подвергается атакам зависимого Собственного Я, которое наказывали за утерю контроля над сфинктером. Г-жа С. вспомнила, что ей случалось в детстве испачкать постель (о чем я уже говорила выше), но служанки помогали ей избежать наказания, которому родители непременно бы ее подвергли. В таком виде у взрослого человека ожили детские трудности контроля над сфинктером. В этот момент муж г-жи С. получил назначение в Европу. Это прерывало курс лечения, но г-жа С, подумав о своем положении и о том, что она теряет, решила для продолжения анализа остаться одна в Лондоне еще на несколько месяцев. Она боялась жить одна в квартире, но, несмотря на это, не прекращала нашей совместной работы, а к мужу ездила по выходным. Г-жа С. мучительно переживала свои аборты за то, что была не в состоянии позволить своим детям вырасти. Она увидела, что переживала первичное всемогущество, принимая решение о жизни или смерти плода. Казалось, она ощущала, что мать абортировала ее Реальное Я, и она продолжала как-то функционировать посредством соглашательского Фальшивого Я, которое заняло собой все ее внутреннее пространство, откуда было изгнано ее Реальное Я. Всю свою жизнь г-жа С. переедала, ибо ей всегда было «так пусто внутри». Кроме того, г-жа С. поняла, что во время полового акта, не давая партнеру проникнуть в свое тело, она контролировала тем самым его сексуальность. Она боялась, что интро-миссия сделает ее беспомощной. Контролируя сексуальность мужа, она сохраняла контроль над собой.
Мы договорились о сроке окончания анализа. День этот приближался, г-жа С. горько плакала, и ей приснилось, что она беременна, но не может сохранить ребенка. Она боялась,
что новое младенческое Собственное Я, которое зародилось в ней в курсе анализа, будет абортировано, когда произойдет отделение от аналитика. Прорабатывая фазу окончания анализа, она поняла, что беременела не для того, чтобы родить живого ребенка, а для того, чтобы утвердиться в своей телесной отдельности от матери; плод представлял собой ненавистную мать, контролирующую ее тело, которую она и изгоняла из себя (в фантазии), делая аборт. Она призналась, что наслаждалась после каждого аборта тем, что ее тело опять принадлежит ей самой, зная, на другом уровне, что любит мужа и хочет от него ребенка.
Через несколько месяцев после отъезда из Англии г-жа С. написала мне, что они с мужем возобновили сексуальные отношения и она подумывает о беременности. Было похоже, что только реально покинув плохую мать своего внутреннего мира и ту хорошую мать, которую она обрела в аналитике, побудившей ее расти и отделяться, она смогла наконец войти в новый физический и эмоциональный статус взрослого.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Женщины, страдающие невынашиванием или сознательно прибегающие к аборту, возможно, бессознательно затрудняются идентифицироваться с образом щедрой матери, способной к материнству, потому что вскормившая их мать -для них двуличная фигура: могущественный, щедрый, питающий и жизнедающий объект и полная его противоположность - злая ведьма, убийца, несущая возмездие дочери. Трудность объединения этих двух полярных аспектов матери и ее материнства в одну достаточно хорошую мать может привести, скорее, к негативно амбивалентным отношениям между матерью и дочерью, к трудностям в эмоциональном отделении от матери, к идентификации с матерью-убийцей и инфантициду, чем к идентификации с надежной матерью-кормилицей, которая дает жизнь своему ребенку. Часто у таких женщин отец умер, отсутствует или эмоционально далек от дочери и неспособен вмешаться в трудные отношения матери и дочери. Видимо, эти женщины бессознательно соматизируют эмоциональные трудности своего детства, используя свое тело так, чтобы избежать осозна-
ния аффектов и фантазий, которых Эго маленького ребенка не выдерживало. Для некоторых женщин, следовательно, раннедетское желание родить ребенка (идентифицируясь со своей фертильной матерью) становится трудновыполнимым, так как ее ранние сексуальные желания и фантазии относятся к запретному объекту - сексуальному партнеру матери. В психической реальности данного ребенка эдипальные желания оказываются столь травматичными и нагруженными виной, что остаются бессознательными, непонятыми и неразрешенными в дальнейшей взрослой жизни. Они, следовательно, не выполняются и во взрослых гетеросексуальных отношениях, хотя всепроницаюшее, нездоровое чувство вины за них может привести к бессознательной потребности в наказании, таком, как, например, мазохистское подчинение партнеру-садисту или самонаказание невынашиванием страстно желанной беременности. Нормальная амбивалентность беременной к плоду и к тому, кого он собой представляет, усиливается неосознанными и неразрешенными желаниями маленькой девочки, направленными на запретный сексуальный объект - сексуального партнера матери. Выкидыш как отказ плоду в жизни может послужить психосоматическим решением этого психического конфликта. Если пациентка проходит психоанализ во время беременности, то в некоторых случаях анализ ее конфликтов поможет ей сохранить беременность и родить живого ребенка.
М.Д. Марконе
БЕРЕМЕННОСТЬ И СНОВИДЕНИЯ*
«...Мне период моей беременности запомнился как один долгий прекрасный сон... и в этом сне столько разных эпизодов, сколько их было в моей жизни в течение этих девяти месяцев... и многочисленные повторяющиеся сны, заполнившие мои ночи... но не те бессонные ночи, о которых мне столько говорили, бесконечные следующие одна за другой ночи во время последних "месяцев, когда нелегко лечь поудобнее и отдохнуть... нет, это те отдохновенные ночи, когда совершался этот бесконечный путь прямо к самой моей сущности, моего ребенка... путь, дававший мне новую энергию для того, чтобы жить на следующий день...»
Так говорит Мария о своей беременности во время сеанса микропсихоанализа.
Но говорить о своей беременности как о сне - это не только чувствительный образ, в котором хотелось бы запечатлеть память о безмятежном времени. Это гораздо больше. Это означает установить связь между двумя психобиологическими процессами, имеющими основное значение в жизни, причем эти процессы проникают друг в друга, пронизывают друг друга: один преимущественно соматический -беременность, другой преимущественно психический - сон.
При сравнении состояния беременности со сном становится понятным, что и беременность позволяет осуществить различные желания. Наиболее очевидным из них является желание продолжить свой род. Ему, в свою очередь, сопутствуют еще два желания: желание иметь член и желание воспроизвести себя. Это последнее свойственно каждой живой клетке и потому присуще как мужчине, так и женщине. Оно является выражением порыва к жизни, который пытается уравновесить порыв к смерти и даже самое смерть.
* М.Д. Марконе. Девятимесячный сон. - М. 1993.
Однако во время беременности осуществляются и такие желания, которые связаны с порывом к смерти, а также желания, относящиеся ко всем стадиям онтогенетического развития:
- начальная стадия, выявленная микропсихоанализом и предшествующая зависящим от этой начальной стадии стадиям классическим - оральной (ротовой), анальной, фаллической. Во время начальной стадии зародыш-эмбрион внутри своей матери находится в теснейшем контакте, сливается ощущениями (страхи, радости, тревоги) и реакциями матери, а также с ее сексуальной деятельностью. И мы знаем, что никто из беременных женщин не отказывается от половой жизни из уважения к ребенку, которого она в себе носит. При этом половая жизнь понимается как любая форма эротического удовольствия с партнером либо без него, и эта форма необязательно связана с пенетрацией (проникновением члена). Поэтому каждое человеческое существо неизбежно испытывает и чувство покинутости, и чувство стресса. И эти чувства еще не раз воскреснут в многочисленных ситуациях его детской и взрослой жизни
- оральная стадия, от рождения и примерно до года жизни. Характеризуется поляризацией агрессивности-сексуальности в районе рта и на функции питания. Для этой стадии типичны взаимоотношения с хорошей (плохой) грудью, которые устанавливаются у ребенка, а также ощущения обладания (отталкивания и слияния), потерянности, которые он испытывает по отношению к матери
- анальная стадия, от одного до трех лет жизни. Характеризуется поляризацией агрессивности-сексуальности в анальной области и на функции сфинктеров, которая распространяется на мускулатуру всего тела. На протяжении этого этапа ребенок отходит от слияния, характерного для начальной и оральной стадий, и устанавливает первые и последние предметные связи
- фаллическая стадия. Характеризуется поляризацией агрессивности-сексуальности в области гениталий и на репродуктивной функции. Член и его психобиологические эквиваленты (грудь, экскременты, ребенок, подарок, деньги) со-
ставляют единственную реальность как для мужчины, так и для женщины. Для этой стадии типичен эдилов комплекс.
Что касается беременности как удовлетворения желания, Мария говорит: «...Давно уже мне хотелось ребенка... я бы даже сказала, что мне этого всегда хотелось, и даже не одного, а много-много... я была девочкой и меня спрашивали, что я буду делать взрослой, и я отвечала: «Я буду мамой четырех детей!»... мне хотелось быть мамой, чтобы быть похожей и даже такой же, как моя собственная мама... мне хотелось быть мамой, чтобы окружить своих детей всей той заботой, которую мне хотелось бы видеть со стороны моей матери...
Маленькой мне не нравилось играть в куколки... мне больше нравились пупсы... куколки были все такие расфуфыренные, у них были кружейные платьица, волосы с завитушками... а вот мой отец подарил мне пупса, и насколько же он был красивей!., пухлый, волосиков мало, но они такие беленькие и курчавые... звали его Дарио, совсем как моего мальчика из детсада...
Когда моя мать была беременна мной, ей хотелось мальчика... как она была разочарована, что я родилась девочкой... говорила, что хотя я и была замухрышкой, а все же стала бы соперницей, стала бы претендовать на любовь и интерес ее мужа, и пришлось бы им делиться... да-да, сколько раз она мне повторила, что когда я родилась, то была прямо-таки уродиной... да как же можно сказать о своем собственном ребенке, что он урод?., да и вряд ли это было на самом деле так... уж на фотографиях я видела... скажу больше, вот я тут просматривала их на сеансе, так мне даже жалко стало эту девочку, которой когда-то была я сама... пухленькая, светленькая, хотя и почти без волосиков... я всегда мечтала о таком же ребеночке, но только о мальчике... мальчике, не девочке, и тогда бы у меня вышло то, что не получилось у моей матери... и была бы лучшей матерью, чем моя мать для меня... ребенок, мальчик, пусть он станет тем, кем не стала я... и. пусть у него будет мать, которая принимает его гораздо больше, чем моя мать...»
С точки зрения микропсихоаналитической ядерная конструкция всех желаний, которые бессознательно осуществ-
ляются благодаря сновидениям, заключается в возврате к своим корням, то есть в попытке «вернуться туда, откуда мы, к тому времени, когда мы еще не были людьми».
Это желание осуществляется и благодаря беременности. В этой связи возникает тяга к воде. Чтобы было много воды... воды, чтобы напиться, воды, чтобы в нее погрузиться, воды, чтобы сидеть в ней долго-долго, не вылезая... была на море, так всегда сидела в воде... кто-то обратил на это внимание и сказал: «Может, тебе хочется быть рыбкой, а не человеком?»... а что, ведь в утробе ребенок он как рыбка... рыбка, только вместо великого океана - маточные воды... да и после рождения на какое-то время что-то от рыбки у него остается... как раз на этом и основаны последние эксперименты советских врачей по родам в воде... невероятно, всего несколько месяцев, а здесь наша жизнь, жизнь человеческих существ, которые произошли от тех, кто живет в воде...»*
И действительно, девять месяцев беременности как бы повторяют в краткой форме те основные этапы, которые прошел в своем развитии от животного человек. И это касается не только зародыша-эмбриона, но и самой беременной женщины. Она вновь переживает все то, что уже испытала когда-то во чреве матери, то есть в ней вновь оживают ее желания внутриутробного и детского периодов.
У многих женщин это возрождение переживаний, которые испытал когда-то зародыш, выражается в обострении органов чувств. На продолжительных микропсихоаналитических сеансах как раз и выявляется связь между темой «Запахи» и внутриутробным существованием. Выявляется, что во время пребывания в материнском чреве зародыш проходит стадию появления обоняния. Другими словами, зародыш, по-видимому, умеет при помощи обоняния определять молекулярный состав маточных вод, которыми он постоянно омывается и питается. Зародыш, по-видимому, замечает все нормальные и ненормальные изменения в составе этих вод, и благодаря этому он узнает о настроении
* Испытуемая говорит здесь об опытах Игоря Марковского и Д. Джабинаеы, сведения о которых приводятся в книге Э. Сиденблада «Дети и вода» (Париж, издательство Лаффон).
матери, а через настроение узнает и об обстановке в окружающем мире. Со своей стороны, он увязывает изменения в составе маточных вод с испытываемыми им ощущениями удовольствия/неудовольствия.
Вот некоторые типичные высказывания беременных женщин: «...я поняла, что беременна, тогда, когда заметила какую-то совершенно особую чувствительность по отношению к некоторым запахам. Особенно к запаху кофе, я его прямо-таки терпеть не могла...»; «...с тех пор как я забеременела, я стала «чувствовать» запах помойки за несколько кварталов...»; «...во время беременности мне иногда совершенно внезапно доводилось ощущать аромат цветов...»; «...когда я была беременна, то не переносила некоторых запахов, наподобие запаха мебели у меня дома... но этого запаха никто, кроме меня не чувствовал...»
Итак, общим в беременности и сне является попытка возвращения к корням. Но есть и еще одно, что роднит оба этих явления, а именно тот факт, что ни беременность, ни сон не принадлежат субъекту.
В частности, сон полон конкретными желаниями, составляющими саму его ткань и принадлежащими к внутриутробному и детскому периоду существования. И тем не менее в конечном счете сон осуществляет всеобщее, универсальное, свойственное всем периодам желание вернуться к наиболее нейтральному с энергетической точки зрения состоянию и к пустой конструкции, рамке чего бы то ни было. «Сон представляет собой воспоминание о наших корнях, о нашем начале, и у него нет никаких ограничений - ни семейных, ни личных, ни племенных. Это способ общения между тем, что мы собой представляем, и тем, что было до нас. Другими словами, сон, совокупность снов, составляющая нашу жизнь, нам не принадлежит».
То же самое можно сказать и о беременности. У беременной женщины очень часто возникает ощущение, что не она живет в каком-то состоянии, а какое-то состояние владеет ею и что у нее нет ни малейшей возможности повлиять на это состояние. Именно поэтому так часто говорят, что надо «управлять своей беременностью», а не только планировать ее. Все это защита от вышеуказанного ощущения. При этом
заоывают, что и встреча яйцеклетки со сперматозоидом, и нормальное течение либо прерывание беременности большей частью зависят от бессознательных факторов, а на них повлиять невозможно.
Я приведу некоторые типичные фразы беременных женщин. По-моему, они весьма показательны для такого положения дел: «...я смотрю в зеркало и спрашиваю себя, какой я буду через несколько месяцев... и мне кажется невозможным, что пройдет совсем немного времени, и мой силуэт переменится, и я буду толстеть, и у меня будет расти живот, а я ничего с этим не смогу поделать...»; «...хочу я того или нет, а живот у меня растет и шевелится, и не тогда, когда того хочу я, а тот, кто там у меня внутри...»; «...мне кажется это невероятным, но когда-нибудь, и независимо от моей воли и желания, все и начнется... лопнут перегородки, а я должна буду пассивно смириться с тем, что произойдет вопреки мне...»; «...мы с одной моей подругой договорились забеременеть в одно и то же время... у нее обычно месячные идут точно в срок, так у нее ничего не вышло; а у меня месячные примерно шесть раз в год, так я забеременела сразу, как хотела...»; «...мы пытались родить ребенка целых восемь лет, и анализы делали, и чем только не лечились... и уж совсем решили жить без детей... и совсем уже перестали об этом думать, и тут-то я вдруг забеременела...»; «...первого ребенка мы задумали родить сознательно, и он сразу же получился. А вот второго ждем, и ждем уже давно, а его все нет и нет. А ведь по всем анализам и у меня, и у мужа все в порядке...»; «...я выяснила, что беременна, когда была уже на пятом месяце. А до этого я ничего не замечала, даже задержки менструации. Да, менструации у меня были постоянно и во время беременности...»; «...у меня еще не было задержки, а я уже была уверена, что беременна: пусть никаких особых признаков не было, я это чувствовала...»; «...мы так долго хотели родить ребенка, несколько месяцев... а потом решили предохраняться, потому что собрались в дальнюю дорогу. И как раз тогда я забеременела...»; «...пока мы предохранялись и не хотели детей, проблем у нас не было. Едва я поставила спираль, сразу забеременела...»
Это ощущение, что «беременность тебе не принадлежит», отражает биологическую реальность. Оплодотворенное яйцо
спускается по трубам в матку, устраивает себе гнездо в ее стенке и остается там. Но яйцо соприкасается с маткой не непосредственно, а через трофобласт. Из последнего развивается плацента, которая в течение всего периода беременности будет своего рода передаточным звеном между матерью и ребенком. Благодаря плаценте осуществляется связь кровеносной системы матери и кровеносной системы плода, но смешение крови не допускается. Благодаря наличию плаценты через особые специфические механизмы обмен между материнским организмом и зародышем, а также между зародышем и материнским организмом осуществляется наиболее выгодным для них обоих образом. Таким образом, имеет место наличие такого временного органа, который прекращает функционировать по прошествии девяти месяцев. Действительно, он более не нужен ни матери, ни ребенку и потому отбрасывается. Беременная женщина и зародыш - это шкатулка и то, что в ней находится. Но хотя одно находится внутри другого, между ними как это ни странно, нет непосредственного контакта. Этот контакт осуществляется при помощи такого органа, который не принадлежит ни матери, ни зародышу. И благодаря этому, как становится понятным, беременность протекает для беременной женщины и для зародыша параллельно. Такая ситуация и такие взаимоотношения между матерью и ребенком получили в микропсихо-анализе название «синапса зародыш-мать»*.
СНЫ НА ТЕМУ: СУМАСШЕДШАЯ ЖЕНЩИНА
