
геополитика. мухаев
.pdf
492 |
III. Ƚɟɨɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ: ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɦɢɪɨɩɨɪɹɞɤɭ |
Франция и Германия отказались поддержать США в войне против Ирака в 2003 г. И наконец, организованное противостояние потенциальных жертв, возмущенных тем, что сверхдержава по своему усмотрению решает их судьбу. Сомнения испытывают даже сами американцы. Бывший директор департамента России, Украины и Евразии в Совете национальной безопасности США политолог Самуэль Кауфман полагает, что «новая война реальна как результат американских действий по достижению более прочной гегемонии либо как вызов американским позициям со стороны находящихся на подъеме государств».
2.Слияние национальных экономик в единую, общемировую систему. Постепенное сближение стран и континентов пронизывает всю историю человечества. Но революционно быстрыми темпами оно шло лишь дважды. В первый раз на рубеже XIX и XX вв., когда торговля и финансовые потоки распространялись по миру благодаря пароходу, телефону и конвейеру. Второе рождение (или возрождение) глобализации началось в конце 70-х вместе с революцией в информатике и телекоммуникациях. Если на первом этапе глобализации опорой ее служила Британская империя, то ныне за ней стоят Соединенные Штаты. Весь их военно-политический потенциал и факти- ческая гегемония нацелены на утверждение мировой экономики.
Прежняя система международного разделения труда основывалась на взаимоотношениях развитых индустриальных стран с полупериферией индустриализирующихся экономик и периферией неразвитых стран. Сейчас когда создается единая глобальная экономика,
âней доминирует «глобальная триада»: Северная Америка, Западная Европа и Восточная/Западная Азия. Здесь размещены главные производительные силы мира и мегарынки мировой экономики, в которой центральную роль играют транснациональные корпорации. Мировая экономика не просто становится взаимозависимой, она практически выглядит как рынок единого государства. В объединении мировой экономики заинтересованы прежде всего ее лидеры — 30 государств — членов Организации экономического сотрудниче- ства и развития (ОЭСР). Они охватывают чуть больше десятой доли человечества, но владеют двумя третями мировой экономики, международной банковской системой, господствуют на рынке капиталов и в наиболее технически изощренном производстве. У них есть возможность вмешательства в любой точке земного шара. Но глобализация, основанная на господстве экономических лидеров, не устраивает большинство мирового населения. К тому же ведущим странам свою власть не так просто проявить в политико-военной сфере.
3.Ослабление главных игроков на международной арене — государств. Их независимость в грядущие десятилетия будет подорвана транснациональными корпорациями, неправительственными органи-

10. Ƚɟɨɩɨɥɢɬɢɤɚ XXI ɜ.: ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ |
493 |
зациями, сепаратизмом (стремлением к обособлению) этнических групп и регионов, мафиозными структурами. Это способно привести к новой форме анархии, и воинственное групповое самоутверждение грозит повергнуть мир в хаос, невиданный со времен Средневековья.
Ему будут содействовать подрыв авторитета правительств и международных организаций, усиление терроризма и организованной преступности, рост населения, национализм, расизм, религиозный фундаментализм (когда в жизни руководствуются консервативными религиозными правилами). Городские банды и криминальные структуры могут заместить государственные структуры. Опасность несет распространение в мире автоматического стрелкового оружия, невиданных объемов взрывчатых веществ (более 100 млн наземных мин). Еще большую угрозу представляют средства массового поражения (химического, биологического, ядерного). И как вершина всесокрушающего хаоса — ядерный терроризм. Существующие государства могут в XXI в. не выдержать этого воздействия хаоса.
Разрушительному хаосу противостоят три силы: суверенные государства, военно-политические блоки, международные организации (прежде всего, ООН). Скорее всего, приходу хаотической бойни они поставят заслон: будут разработаны правила, запрещающие передачу высоких технологий в сомнительные руки, создана стратегия укрепления мирового общественного мнения и согласованных полицейских операций. Исторической предопределенности хаоса не существует. Ведь даже в XX в., несмотря на бурный поток конфликтов, мир не погрузился в хаотическое безвременье, в отрицание всех правил на международной арене.
4. Новое противостояние мировидения после окончания битвы коммунистической и капиталистической идеологий. Вперед выходит призрак предсказанного американским геополитиком С. Хантингтоном столкновения цивилизаций:
Фундаментальным источником конфликтов в возникающем новом мире будет не идеология и не экономика. Величайшей разделяющей человечество основой будет культура. Нации-государства останутся наиболее мощными действующими лицами в мировых делах, но основные конфликты в мировой политике будут происходить между нациями и группами наций различных цивилизаций. Столкновение цивилизаций будет доминировать в мировой политике.
Однако обеспокоенных перспективой межцивилизационных столкновений успокаивает японский аналитик, бывший министр финансов (прозванный на Западе Мистер Иена) Эйсукс Сакакибара:
Цивилизации действительно поднимаются вверх, а потом начинают терять влияние. Они часто сталкиваются друг с другом, но, что более важно, они взаимодействуют и сосуществуют между собой на протяжении почти всей истории.

494III. Ƚɟɨɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ: ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɦɢɪɨɩɨɪɹɞɤɭ
5.Реакция на неравенство стран и материальную зависимость большинства из трех центров экономического развития — Северной Америки, Западной Европы и Восточной Азии. Мировая экономика концентрируется в ключевых странах. Члены ОЭСР ориентируются на доход в 30 тыс. долл. на душу населения в год. В то же время жизненный уровень 85% населения Земли не достигает 3 тыс. долл. в год. И эта пропасть не уменьшается, а увеличивается. Запад не отдаст своих привилегированных позиций. В системе «сосуществования двух миров», богатого и бедного, равенства половин не предвидится — слишком могуч Запад, слишком разъединены бедные страны. Особенно острый период предсказывается после 2015— 2020 гг. Мир не смирится с заведомым неравенством, результатом которого может быть глобальный экономический кризис.
Грядущие кризисы больше всего скажутся на странах — поставщиках сырья и дешевой рабочей силы. Неизбежна миграция бедного населения. Зоны с высокой численностью населения будут порождать движение в те регионы, где она невелика: в Америку, Европу и Австралию. Даже самые суровые иммиграционные законы не остановят это перемещение. Оно неизбежно вызовет применение силы со стороны западных стран, которые будут защищать себя от наплыва приезжих. В условиях истощения природных ресурсов Запад постарается овладеть контролем над стратегически важным сырьем. Это непременно обострит противоречия богатых и бедных. Распространение оружия массового поражения делает ситуацию взрывоопасной. Уже сейчас в третьем мире остерегаются новой экономической холодной войны между индустриальным «Севером», руководимым США, и развивающимися странами «Юга». Конфликт может не ограничиться только холодной войной. «Одним из вероятных сценариев, — пишет политолог Стюарт Кауфман, — может быть инициируемая экономическим неравенством “Севера” и “Юга” война с массовыми потерями». Именно этот конфликт между бедным «Югом» и богатым «Севером», по мнению многих уче- ных, является наиболее опасным в грядущем столетии.
10.2. Ɇɢɪ ɩɨɫɥɟ 11 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2001 ɝ.:
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟ cɦɟɳɟɧɢɟ ɫɢɥ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
Террористическая атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке стала точкой отсчета новой фазы геополитического развития в XXI в. Дата 11 сентября 2001 г. представляет собой одно из тех сейсмических смещений, когда планета, кажется, дрогнула и сместила собственную ось. Пилоты из ада, которые уничтожили Всемирный торговый центр и часть Пентагона, оставили чувство до и после катаклизма. До сентября 2001 г. подлинная пропасть в уровне жизни 30 стран — чле-

10. Ƚɟɨɩɨɥɢɬɢɤɚ XXI ɜ.: ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ |
495 |
нов ОЭСР — «золотого миллиарда» — и остальных 5 млрд мирового населения была предметом статистики, делом справочников, обстоятельством страноведения. После 11 сентября это различие (примерно 30 : 1) стало главным фактором мировой политики. Отныне невозможно игнорировать тот факт, что за последние 15 лет доход на душу населения понизился более чем в 100 странах; потребление сократилось более чем в 60 странах.
В начале XXI столетия пятая, богатая, часть населения планеты (Запад) имела 86% мирового внутреннего продукта, 82% мирового экспортного рынка, 74% мировых телефонных линий, главного средства современных коммуникаций. 91% пользователей Интернета живут в «богатой части». Эта пропасть не уменьшается, а увели- чивается.
За последние десять лет доля 10% наиболее процветающего населения планеты увеличилась в мировом продукте с 50 до 60% и соответственно уменьшилась доля остальных 90% мирового населения. Совокупный капитал 225 богатейших людей превышает 1000 млрд долл., что равняется ежегодному доходу 2,5 млрд бедняков, составляющих 47% человечества. Общее состояние трех самых богатых людей планеты превышает совокупный ВВП 48 наименее развитых стран.
Потерявшие надежду на привлекательное будущее, молодые и энергичные горожане Каира, Джакарты, Мехико-сити и других городов третьего мира, которым нечего терять, являются потенциальными рекрутами мирового терроризма. Проблема «Север» — «Юг» обозначилась страшной новой гранью.
До сентября 2001 г. отчетливые различия в языке культуре, традициях семи мировых цивилизаций были предметом изучения этнографов, культурологов, музейных работников. После 11 сентября цивилизационные различия стали одним из ведущих факторов политики. Мир обернулся на Восток. Китайская и индуистская цивилизации в последние годы обрели ядерное оружие. На Западе уже созданы многомиллионные «филиалы» этих цивилизаций.
Лица 19 террористов хорошо известны, их фотографии распространило американское правительство. Каждому заинтересованному видно общее — их принадлежность Востоку и исламу. Элемент противостояния мировых цивилизаций очевиден.
До сентября 2001 г. колоссальный отрыв военной системы США от менее оснащенных вооруженных сил остального мира, казалось, давал Вашингтону шанс на десятилетия силового доминирования, на роль конечного судьи в международных спорах. После 11 сентября уязвимость Америки стала фактором мировой политики. Возникли сомнения, которых ранее не было: зачем США электронное

496 |
III. Ƚɟɨɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ: ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɦɢɪɨɩɨɪɹɞɤɭ |
высокоточное оружие, слежение из космоса, колоссальные по мощности боеголовки, самолеты-невидимки, глобальные по охвату ра- дарно-командные системы, если противник, вооружась ножом, просто берет билет на внутренние рейсы американских авиакомпаний? Буквально на глазах радикально изменился характер внешней угрозы, и несмотря на 33 млрд долл., идущих на глобальную разведку, США не знают, кто их атаковал, с какой целью и с какими мотивами.
Действительно, страшной для Запада стала истина, что традиционное, привычное сдерживание больше «не работает». Если противник готов ради достижения своих целей совершить самоубийство, то ничто не заставит его отступить. «Холодная война» не превратится в «горячую» именно потому, что обе противостощие стороны были согласны в одном: нужно избежать взаимоуничтожения. Но вот пришли люди, на которых этот неписаный кодекс выживания не действует.
Нефть — самое сильное оружие исламского мира. Цифры красноречивее слов: 65% разведанных мировых запасов нефти располагается в регионе Среднего Востока. Четверть мировых запасов этого драгоценного сырья находится под юрисдикцией Саудовской Аравии. Немудрено, что американцы не желают покидать военные базы, созданные на территории Саудовской Аравии в 1990 г. Сразу же после событий 11 сентября 2001 г. президент Буш призвал к большей независимости США от импорта нефти — всем было ясно почему, все знают, откуда берет начало этот поток. И против самого острого оружия мусульманского мира был выставлен достойный клинок. Осенью 2001 г. на фоне рушащихся нью-йоркских башен Россия проявила себя как подлинный конкурент Аравийского полуострова. На мировой арене появилось нечто новое — российские нефтяные компании. Обнаружилось, что США и индустриальный Запад могут ослабить свою исключительную зависимость от арабской нефти. У Среднего и Ближнего Востока появляется энергетический конкурент — Россия и ее ближайшие соседи.
В феврале 2002 г. Россия обошла Саудовскую Аравию по добыче нефти и стала ее крупнейшим производителем в мире. Открытые на Каспии месторождения оказались богаче, чем ожидалось. В октябре 2001 г. завершилось строительство трубопровода, по которому к Новороссийску пошла неожиданно богатая казахстанская нефть. Российское руководство оценило новые возможности. Президент Путин совершил поездку по региону, стремясь создать нечто вроде каспийского общества стран — экспортеров нефти, руководимого Россией. Скоростными методами построен нефтяной терминал близ Петербурга. Россия создала гигантский, уступающий лишь Новороссийску порт Приморск, затратив 2 млрд долл. Выход на Запад российским и центральноазиатским энергоносителям — вполне решаемая стратегическая задача.

10. Ƚɟɨɩɨɥɢɬɢɤɚ XXI ɜ.: ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ |
497 |
11 сентября 2001 г. стал очевидным довольно удивительный факт: Североатлантический союз (НАТО) оказался неэффективным военным и внешнеполитическим инструментом. Ценность партнеров США понизилась чуть ли не до нуля. Да, все члены НАТО впервые за 52 года его существования заявили о введении взаимной обороны. На деле же европейские союзники послали лишь пять самолетов с экипажами патрулировать американское воздушное пространство. Как выяснилось, старый альянс способен решать только старые цели. Мегатонны ядерных взрывов, точечная аккуратность современных ракет, гарантированный ответный удар — все эти понятия уходят из реальной политики в эпоху динозавров. Когда твой противник готов умереть, его не страшит уничтожение. Новая ситуация требует нового ответа. Чтобы найти его, необходимо нетрадиционное мышление, ставящее во главу угла проблемы «Севера» — «Юга», проблемы цивилизационных различий.
10.3. «ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ» ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
Новыми элементами международной политики сегодня стали глобальный кризис и смена администрации в США. Барак Обама как кандидат заинтересовал всех обещаниями перемен. Приняв присягу президента, он пытается соответствовать ожиданиям: распорядился закрыть тюрьму в Гуантанамо, объявил о полном уходе боевых сил из Ирака до конца 2011 г. призвал к «перезагрузке» российско-аме- риканских отношений.
Пока наиболее плотно новая администрация США занимается во внутреннем плане экономическим кризисом, а во внешнем — доставшимися ей в наследство от предыдущей военными проблемами. Вслед за решением по Ираку пересмотрен курс в Афганистане. И не только в чисто военном аспекте. Уже известно, что помимо наращивания численности войск Вашингтон рассчитывает на увеличение местной армии и укрепление органов власти на местах. Впервые в Вашингтоне заговорили о возможном региональном сотрудничестве с участием Пакистана, Индии, Ирана и, возможно, других стран в интересах обеспечения стабильности в Афганистане. Афганистан остается для США главным фронтом борьбы с терроризмом. В Вашингтоне уже имеется несколько конкурирующих планов налаживания прямого диалога с Тегераном. Северной Корее предлагают вернуться к договоренностям о прекращении ядерной программы. Даже в целом в стабильных отношениях с Китаем отмечена некая «перезагрузка»: госсекретарь Х. Клинтон предостерегает против использования болезненной темы прав человека для создания помех решению важных вопросов. Впрочем, и на ближневосточном направлении, где в общем-то трудно ожидать сдвигов
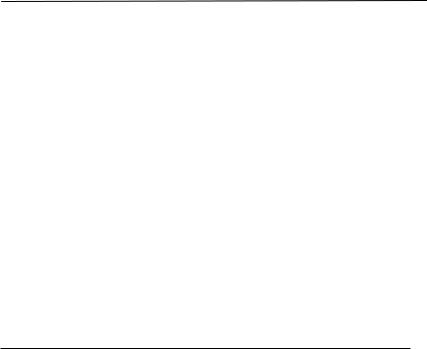
498 |
III. Ƚɟɨɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ: ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɦɢɪɨɩɨɪɹɞɤɭ |
в американской политике, есть новый момент: обещание Обамы не откладывать усилия по урегулированию проблемы на поздний срок.
Все это говорит о большем прагматизме в действиях нынешней администрации США в сравнении с предыдущей, скорее о более точном учете интересов страны. Но без отказа от претензий на американское лидерство. Барак Обама объяснил свои подходы в речи в Конгрессе 24 февраля 2009 г. Для американской дипломатии наступает новая эпоха, считает он. Ныне Америка не может самостоятельно справиться с новыми угрозами, но и остальной мир не сможет обойтись без Соединенных Штатов. При этом, отметил Обама, «нельзя пренебрегать столом переговоров». На эти слова откликнулись многие, прежде всего традиционные партнеры США. Тянут, что говорится, в разные стороны. Свою помощь в налаживании диалога с Ираном уже предложила Турция, а экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер даже побывал с этой целью в Тегеране. Другой пример: действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Греции Дора Бакоянни, побывав в Вашингтоне, добилась от Клинтон обещания выстраивать диалог с Россией «в рамках действующих структур и институтов». Демарш явно вызван опасением оказаться ни при чем.
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɭɸ ɷɩɨɯɭ ɢ ɩɨɢɫɤɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ ɦɢɪɨɩɨɪɹɞɤɚ
Вопреки расхожему суждению, что в условиях растущей глобализации снижается роль национальных государств, а в качестве основных игроков выступают ТНК и международные организации, глобальный кризис 2008—2009 гг. заставил заново переосмыслить роль национальных государств.
В ходе московского саммита 6—8 июля 2009 г. президент США Обама сформулировал базовый посыл своей внешнеполитической доктрины — торжество «реализма» с одновременным отказом от принципа поддержки демократических преобразований и гражданского общества в других странах.
Конструирование нового мирового порядка в условиях глобального кризиса Обама начинает с переосмысления истории XX в., в особенности российско-американской истории. По мнению Обамы,
холодная война закончилась благодаря многолетним усилиям многих стран, а также благодаря тому, что народы России и Восточной Европы преисполнились решимости сделать так, чтобы война окон- чилась мирно.
Большинство американских экспертов утверждают, что существует две версии истории окончания холодной войны: русская и правдивая. Теперь президент Обама показал себя сторонником русской версии.

10. Ƚɟɨɩɨɥɢɬɢɤɚ XXI ɜ.: ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ |
499 |
За это Обаму уже подвергли уничтожающей критике правые, обвинив в «низкопоклонстве перед русскими».
Вопреки теориям глобализации, по мнению Обамы, тезис о государственном суверенитете продолжает оставаться основой миропорядка:
Государственный суверенитет должен быть краеугольным камнем международного порядка. Америка не может и не будет навязывать другим странам какую-либо систему правления, и мы не выбираем партию или лицо, которые будут руководить другим государством. Точно так же, как все страны должны иметь право выбирать своих руководителей, государства должны иметь право на защиту границ, а также на свою собственную внешнюю политику. Это справедливо как для России, так и для Соединенных Штатов. Любая система, которая отступает от соблюдения этих прав, приводит к анархии. Каждая страна прокладывает свой собственный курс.
И дальше:
Америка стремится к международной системе, в которой мы применяем к себе те же стандарты, что и к другим странам...1
Кроме того, Обама полагает, что «будущее не принадлежит тем, кто выводит армии на поля сражений или прячет ракеты под землю, — будущее принадлежит образованным молодым людям, наделенным воображением и способностью творить»2. Конечно, это риторика, а не практическая политика, однако по сравнению с Дж. Бушеммладшим это иные доминанты посткризисного миропорядка.
Очевидно, что глобальный кризис заставит выстроить заново систему приоритетов в мировой политике в посткризисный период. Представления о справедливом мироустройстве связаны с тем, что оно возможно как сообщество демократических и суверенных государств, сотрудничество и соревнование которых осуществляются по разумным правилам. При этом национальный суверенитет должен стать фактором справедливой глобализации и демократизации международных отношений, а над сообществом суверенных демократий не довлеет власть глобальных структур и транснациональных монополий. В этой системе миропорядка символами могущества государства будут выступать передовая наука, моральное преимущество, динамичная промышленность, справедливые законы, личная свобода, социальный и бытовой комфорт. Основным ресурсом обеспече- ния суверенитета выступает не просто обороноспособность, а комплексная конкурентоспособность.
Однако политика в отличие от риторики зависит от обстоятельств. По признанию Обамы, раньше он находился в левой части полити-
1Независимая газета. 2009. 17 июля.
2Òàì æå.

500 |
III. Ƚɟɨɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ: ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɦɢɪɨɩɨɪɹɞɤɭ |
ческого спектра, но потом сдвинулся в центр в интересах того, чтобы добиться результатов. Если следовать этому объяснению, то обретенный американским президентом «центризм» не предвещает радикальных перемен во внешней политике Вашингтона, но вместе с тем может принести прагматические сдвиги и конкретные результаты на целом ряде направлений.
10.4.Ƚɥɨɛɚɥɶɧɵɣ ɤɪɢɡɢɫ 2008 ɝ. ɢ ɩɨɩɵɬɤɢ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɢɪɨɜɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
Глобальный финансово-экономический кризис 2008—2009 гг. стал серьезным испытанием для англосаксонской модели капитализма, доминировавшей в мировой экономике с окончания Второй мировой войны. Осмыслению этого глобального вызова были посвящены саммиты 20 ведущих промышленно развитых стран мира (G20) в Вашингтоне, Лондоне и Питсбурге.
Особую роль сыграл саммит в Лондоне 1—2 апреля 2009 г. Его основная цель: «собрать вместе крупнейшие мировые экономики, чтобы способствовать восстановлению глобального экономического роста через возросшую экономическую координацию». Для достижения данной цели мировые лидеры, среди них президент США Б. Обама и президент России Д. Медведев, должны были подписаться под тремя обязательствами: (1) предпринять все необходимые меры по стабилизации финансовых рынков и обеспечению для семей и компаний возможностей по преодолению рецессии; (2) реформировать и укрепить глобальную финансово-экономическую систему, чтобы восстановить доверие; (3) «поставить глобальную экономику на путь к устойчивому росту, высокой занятости и снижению бедности».
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɡɹɥɚ ɜɟɪɯ
Итоги прошедшего 1—2 апреля 2009 г. в Лондоне саммита «большой двадцатки» во многом выглядят неожиданно оптимистическими. Вопреки всеобщему скепсису лидеры ведущих стран договорились по ряду весьма чувствительных вопросов — хотя и сверхоптимистичные реакции типа «“большая двадцатка” выделила 5 трлн долл. на преодоление кризиса».
Если подвести краткий итог, Лондон-2009 стал большим успехом континентально-европейской модели регулирования экономики. В итоговой декларации саммита учтены практически все требования Германии и Франции. Форум финансовой стабильности при «большой семерке» превращен в Комитет финансовой стабильности (Financial Stability Board), и небольшой секретариат ФФС, действовавший при Банке международных расчетов в Базеле, будет теперь

10. Ƚɟɨɩɨɥɢɬɢɤɚ XXI ɜ.: ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ |
501 |
заменен более серьезным органом, способным эффективнее отслеживать состояние глобальных финансов. Все стороны согласились установить жесткий контроль за деятельностью «системно важных» хедж-фондов. Это прорывное решение, так как 52% хедж-фондов зарегистрировано в офшорных зонах, а из оставшихся 65% приходится на США, 16% — на Великобританию и лишь 15% — на страны еврозоны. Таким образом, европейские сторонники жесткого регулирования финансовой сферы, ранее контролировавшие менее 7% этой отрасли, получили право «присматривать» за всеми остальными ее участниками.
Европейцы закрепили за Комитетом финансовой стабильности право устанавливать международно признанные стандарты вознаграждений высших менеджеров (заметим, по итогам 2007 г. руководители 50 крупнейших корпораций еврозоны получили в 14,8 раза меньше зарплат и бонусов, чем их коллеги из США, хотя прибыльность этих компаний была всего на 15% ниже американских).
Все страны обязаны отныне предоставлять полную информацию о состоянии своего банковского сектора (что США отказывались делать с 2002 г.). Ограничено число офшоров и свободы действий в них. Признана необходимость установления единообразной системы бухгалтерской отчетности — и все идет к тому, что она будет создана на базе европейской IFRS, а не американской СААР. Наконец, рейтинговые агентства должны будут пройти перерегистрацию под жестким международным контролем. Американцы согласились со всеми этими пунктами, хотя не стоит считать, что внедрение данных мер не встретит латентного сопротивления.
В то же время незападные страны не получили многого из того, чего собирались потребовать. Как известно, перед саммитом российская сторона опубликовала длинный список мер, предполагавший необходимость «демократичности и равномерной ответственности за принятие решений», «справедливое распределение рисков», «правильный» раздел квот МВФ и «предсказуемость функционирующей по заранее известным правилам международной валютно-финан- совой системы». Россия считала, что, так как «большинство стран мира размещает свои международные резервы в иностранных валютах, они хотели бы быть уверены в их надежности», чему могли бы способствовать «международно признанные стандарты в области макроэкономической и бюджетной политики, соблюдение которых являлось бы обязательным для стран — эмитентов резервных валют». К требованию российских переговорщиков о «расширении перечня валют, используемых в качестве резервных», присоединился и Китай. Однако все попытки стран, не являющихся эмитентами свободно конвертируемых валют, установить контроль над их эмиссией практически даже не обсуждались на форуме.
Напротив, все участники саммита G20 высказали мнение о том, что необходимо либерализовать (а не зарегулировать) мировую торговлю, призвав все стороны максимально четко соблюдать требования
