
геополитика. мухаев
.pdf
462 |
II. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɦɢɪɨɜɚɹ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɚɤ ɫɮɟɪɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ |
Очевидно, что все перечисленные выше модели не оригинальны, они были использованы в прошлом разными «империалистами» — от римских цезарей до Бисмарка и Гитлера, но нигде и никогда не привели к подлинному укреплению и процветанию империй. И что самое главное, все эти стратегии оставляли без изменений разрушительное действие òðåõ отмеченных выше дестабилизирующих факторов, подрывающих основы американского имперского могущества:
(1) расслабляющего климата популистской демократии, (2) всеобщего стремления к удовольствиям и (3) гедонис-тической расслабленности и убежденности в отсутствии реальных внешних врагов у США.
И тогда геополитики обратили внимание на данные институтов по изучению общественного мнения американцев относительно того, откуда исходит внешняя угроза1:
ξмеждународный терроризм — 80%;
ξприменение химического и биологического оружия — 75%;
ξвозникновение новых ядерных держав — 73%;
ξэпидемии — 71%;
ξпревращение Китая в мировую державу — 57%;
ξпоток иммигрантов в США — 55%;
ξконкуренция Японии — 45%;
ξисламский фундаментализм — 38%;
ξвоенная мощь России — 35%.
Приведенные данные относятся к весне 1999 г. В конце 2002 г. угрозу международного терроризма как первую по значимости называли уже свыше 90% американцев: заработала пропагандистская машина, и результаты не заставили себя ждать. Так была «найдена» и актуализирована в общественном сознании с помощью СМИ реальная угроза извне, которая могла бы стать основой для достижения американцами национального консенсуса по международным проблемам. Терроризм оказался также силой, способной стать реальным противоядием от гедонистической расслабленности и мобилизовать нацию без лишнего шума, переведя управление страной на режим военного или, точнее, предвоенного времени. 11 сентября 2001 г. — день, о котором сегодня помнят все или почти все в мире, — стал не только днем скорби Америки о жертвах террора, но и символом сплочения нации перед национальной и глобальной угрозой международного терроризма. В этот день под обломками двух небоскребов погибло около 4 тыс. граждан более 20 государств мира.
ɇɨɜɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ Именно в этот день Вашингтон начал глобальную информационную операцию по борьбе с междуна-
1 Foreign Policy. Spring, 1999. P. 104.

9. Ƚɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ |
463 |
родным терроризмом, ставшую важнейшей частью его новой геополитической стратегии — стратегии «управляемого хаоса», с помощью которой сегодня происходит новый геополитический передел мира.
Успех этой стратегии очевиден. Впервые солидарность с США выразили не только все союзники, но и страны, никогда прежде не разделявшие приоритеты американской международной политики. Под риторику о необходимости укрепления национальной безопасности перед угрозой терроризма США мягко, без особого скандала вышли из американо-российского договора по противоракетной обороне, объясняя это тем, что нужны новые нетрадиционные средства защиты нации и ракеты здесь уже не помогут. Началась ускоренная модернизация американских вооруженных сил, на которую отпущены значительные средства. Специалисты по связям с общественностью так обработали общественное мнение, что на некоторое ограничение гражданских свобод и усиление полицейского контроля в США никто не обратил внимания — наоборот, все приветствовали идею внутренней мобилизации нации.
Но подлинный успех новая информационная стратегия принесла Вашингтону во время военной операции в Афганистане. Если операция в Югославии не нашла поддержки международного общественного мнения и военные акции американцев осуждались даже в стане союзников, то военные действия в Афганистане получили всеобщее одобрение.
Сегодня хорошо известно, что информационное сопровождение составляло важнейшую часть американской операции по разгрому антиталибских сил. Накануне операции Министерство обороны США провело ряд конференций и симпозиумов, посвященных стратегии и тактике информационной войны. Стратегия базировалась на массированном пропагандистском ударе с использованием всех видов СМИ при одновременной блокаде любой разоблачающей информации с места боевых действий. Основные электронные СМИ США фактически ввели жесткую самоцензуру. Ожесточенной критике и «опале» подвергались все журналисты, допускавшие «отклонения» от основной линии. Борьба с терроризмом оказалась удобным информационным прикрытием для проведения геополитических операций. Американцы не скрывали тайного ликования и гордости.
Владимир Сокор, ведущий аналитик американского неправительственного исследовательского Джеймстаунского фонда (Jamestown Foundation), писал: «Высадка возглавляемых США западных сил в Центральной Азии несет в себе скрытый смысл и означает геополитическую революцию глобального значения»1. Автор не скрывает,
1 International Herald Tribune. 2002. ¹ 5/6. 10. P. 7.

464 |
II. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɦɢɪɨɜɚɹ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɚɤ ɫɮɟɪɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ |
что истинная цель американской операции в Афганистане — лишить главные континентальные страны, Китай и Россию, их стратегиче- ского тыла — оборонного плацдарма в Центральной Азии. «Доступная раньше лишь силам континентальных империй Центральная Азия находилась в глубокой изоляции от западного мира. Эта изоляция означала также бесценную стратегическую глубину евразийских соперников Запада от Чингисхана до царей и комиссаров»1.
Результаты афганской операции на геополитической карте Центральной Азии выглядят более чем впечатляюще: США закрепились на военных базах в Узбекистане, Киргизии, Таджикистане и создали стратегические укрепления в самом Афганистане, им удалось также упрочить военный союз с Пакистаном. По существу, американцы уже окружили Китай кольцом военно-воздушных баз.
Под предлогом борьбы с терроризмом США усилили свое военное присутствие на Южном Кавказе. Было объявлено о снятии ограничений в военной помощи Грузии, Азербайджану и Армении. В этих странах появились американские военные специалисты, США подписали двусторонние договоры о военном сотрудничестве со всеми тремя странами Южного Кавказа: началась модернизация азербайджанских ВВС и обучение азербайджанских офицеров в Военной академии США, в Армении запланирована организация Центра по разминированию, в Грузии достигнуто соглашение о принятии участия США в военных операциях на севере страны.
Со времени начала информационной операции Вашингтона по борьбе с терроризмом прошло четыре года, но за это время американское военное присутствие во всех стратегически важных регионах постсоветского пространства усилилось в несколько раз — неплохие стратегические результаты, причем достигнуты они в большинстве случаев без единого выстрела. Однако особого внимания заслуживает анализ новой военной доктрины США. Прежде всего, она принципиально по-иному определяет противника в условиях актуализации «нетрадиционных» угроз. Международный терроризм вездесущ и официально не институционализирован, что позволяет бороться как с известными, так и неизвестными источниками угрозы, которые могут находиться в разных районах мира. Причем военная доктрина США оставляет за Пентагоном право определять эти районы.
Под предлогом борьбы с терроризмом традиционные ядерные вооружения не планируется усиливать: только сохранять в существующем объеме (межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, стратегические бомбардировщики, баллисти-
1 International Herald Tribune. 2002. ¹ 5/6. 10. P. 7.
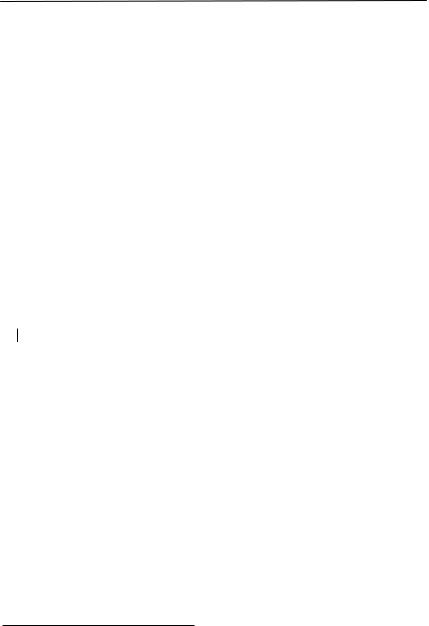
9. Ƚɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ |
465 |
ческие ракеты на подводных лодках). Главное значение отводится так называемой «малой стратегической триаде», которая состоит из наступательной, оборонительной частей и инфраструктуры. Вашингтон предполагает, что в инфраструктуре главную роль будут играть «информационные операции»1.
Итак, стратегия «управляемого хаоса» носит уже вполне конкретный характер. В информационном обществе борьба за пространство будет разворачиваться в информационном поле — именно здесь передовой край геополитики. Но если в традиционных пространствах — наземном, водном, воздушном — границы и правила цивилизованного поведения давно определены и контролируются Советом Безопасности ООН, международными документами и соглашениями, то в информационном пространстве сегодня царит полный беспредел. Военные эксперты США определяют информа- ционно-психологическое оружие как «нелетательное оружие массового поражения», способное обеспечить решающее стратегическое преимущество над потенциальным противником. Его главное преимущество над остальными средствами поражения состоит в том, что оно не подпадает под принятое международными нормами понятие агрессии.
Вот как определяет информационную войну директор информационных сил Министерства обороны США: «Информационная война состоит из действий, предпринимаемых для достижения информационного превосходства в обеспечении национальной военной стратегии путем воздействия на информацию и информационные системы противника с одновременной защитой и укреплением нашей собственной информации и информационных систем. Информационная война представляет собой всеобъемлющую, целостную стратегию, призванную отдать должное значимости и ценности информации в вопросах командования и управления вооруженными
силами и реализации национальной политики»2.
В 1996 г. в США создана Президентская комиссия по защите критической инфраструктуры, которая призвана разрабатывать наступательные планы информационных войн. В ЦРУ появились группа критических технологий и отдел транснациональных проблем, где внимательно анализируется вся информация стратегического характера, поступающая из-за рубежа.В Министерстве обороны СШA организовано бюро стратегического влияния, в задачу которого входит обеспечение «позитивного восприятия» во всем мире внешней политики и военных операций США.
1Joint Vision 2010. Office of Primary Responsibility: Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Washington, 2000.
2Ñì.: Почепцов Г.Г. Информационные войны. Киев, 2000. С. 17.

466 |
II. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɦɢɪɨɜɚɹ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɚɤ ɫɮɟɪɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ |
Традиционная геополитика сильно «отстала» в средствах своего научного и прикладного анализа от стремительного развития высоких технологий, которые сегодня определяют развитие любой науки
èпрактики. Если раньше стратегическое значение имела военная разведка и контрразведка, то сегодня — анализ информационных потоков, среди которых важно своевременно выявлять и разоблачать агрессивные разрушительные информационные фантомы. Информационная революция давно перевела понятие «поле боя» в понятие «боевое пространство», куда, помимо традиционных целей поражения, уже включены также эмоции, восприятие и психика противника.
Информационный фантом под названием «борьба с терроризмом» — один из главных стратегических мифов США, с помощью которого ведется геополитический передел мира. Ни для кого не секрет, что сегодня главным оплотом терроризма объявлена Восточ- ная Азия: здесь создаются новые военные базы и сосредоточиваются основные военные силы. Но что будет завтра? Найдется ли хотя бы одна страна, которая сможет гарантировать своим гражданам мирное будущее в условиях угрозы терроризма?
Давно пора закрепить в международных нормах понятие «информационная агрессия» наряду с другими важными категориями информационного общества. Сегодня уже очевидно, что одна из главных задач международных миротворческих организаций — проведение своевременных информационных акций, призванных разоблачать информационную агрессию, если она способна привести к разжиганию любых конфликтов — конфессиональных, этнонациональных, территориальных, культурных, военных. В структуре СБ ООН должны появиться и комиссия по защите критической инфраструктуры мира,
èгруппа критических контртехнологий, призванные обезопасить мировое информационное пространство от всех видов информационной агрессии. Совершенно очевидно, что защитить современного человека от информационной агрессии могут только современные информационные технологии.
Ɍɟɪɪɨɪɢɫɬɵ ɢɡ «Ⱥɥɶ-Ʉɚɢɞɵ» ɪɜɭɬɫɹ ɤ ɹɞɟɪɧɨɦɭ ɨɪɭɠɢɸ ɉɚɤɢɫɬɚɧɚ
За последние два года террористы трижды нападали на объекты, где хранится или производится ядерное оружие в Пакистане. Все они расположены в районах, где действуют талибы. К тому же в охрану ядерных хранилищ могли проникнуть офицеры, сочувствующие исламистам.
Террористы могут получить доступ к атомному арсеналу Пакистана. На эту опасность указал журнал «Sentinel», издаваемый аме-
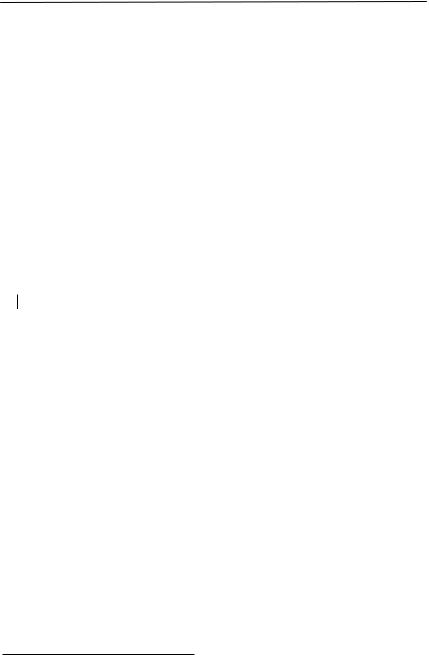
9. Ƚɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ |
467 |
риканской военной академией Вест-Пойнт. Доклад на эту тему написал профессор Шаун Грегори, специалист по проблемам безопасности Университета в Брэдфорде (Англия). Публикация увидела свет в тот момент, когда на Западе все чаще высказываются предположения, что «Талибан» и «Аль-Каида» могут пробить брешь в охране ядерных объектов в Пакистане1. США готовы применить спецназ, чтобы помешать захвату бомб боевиками.
Оснований для таких опасений достаточно. Ведь большинство предприятий атомного комплекса и бункеров, где складированы компоненты ядерного оружия, находятся на севере и западе Пакистана. А как раз в этих местах располагаются опорные пункты мятежников. В других случаях отряды инсургентов (от лат. повстанцы) открыто передвигаются по соседству с секретными зонами. Большинство складов с компонентами ядерного оружия было построено в 1970-х и 1980-х на севере и западе с целью отодвинуть их подальше от границ с главным потенциальным противником — Индией. И вот теперь все ядерные объекты оказались в пределах досягаемости со стороны нового врага — исламских экстремистов.
По данным журнала «Sentinel», самая серьезная атака была в августе 2008 г. Два камикадзе взорвали себя в оружейном комплексе гарнизона Вах, примерно в 30 км от Исламабада. Тогда погибли 70 человек. Об инциденте много писали СМИ, но ничего не говорилось о том, что в этом гарнизоне работает один из главных пакистанских заводов по сборке ядерного оружия.
Два других нападения были предприняты в ноябре и декабре 2007 г. В одном случае целью боевиков была база ядерных ракет, в другом — база ядерных бомбардировщиков. Сотрудник американского разведывательного ведомства, пожелавший остаться анонимным, сказал агентству Reuters, что это крупные базы. Но неясно, знали ли экстремисты, что там размещено. Согласно сведениям военной разведки США, в 2004 г. пакистанский ядерный арсенал состоял из 35 боезарядов. К 2020 г. Исламабад планировал увеличить этот боезапас вдвое.
Режим безопасности на объектах скопирован с американского. Боеголовки хранятся отдельно от взрывателей. Они укрыты в подземных бункерах. Охраняется оружие дивизией стратегического планирования сухопутных войск, насчитывающей от 8 тыс. до 10 тыс. солдат и офицеров. По словам профессора Грегори, каждый из этих военнослужащих прошел отбор и проверку с целью установить, не симпатизирует ли он боевикам. Вашингтон также постарался минимизировать риски, предоставив пакистанцам технические средства для того, чтобы следить за контейнерами с ядерными материалами.
1 Ñì.: Независимая газета. 2009. 13 августа.
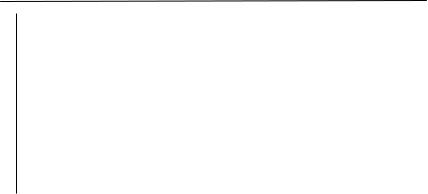
468 |
II. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɦɢɪɨɜɚɹ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɚɤ ɫɮɟɪɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ |
Но, несмотря на эти меры, уверенности в том, что террористам не добыть бомб, нет. Ведь даже в Межведомственной разведке (ISI) служило до недавних пор немало приверженцев идей исламистов. Грегори напоминает также о том, что два старших сотрудника Комиссии по атомной энергии Пакистана в 2000 и 2001 гг. посещали Афганистан и встречались там с главарем «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном. Содержание этих бесед не было раскрыто. Об этом также сообщает в своих опубликованных мемуарах «В центре шторма» бывший директор ЦРУ Джордж Тенет, служба которого смогла собрать данные о контактах пакистанских ядерщиков с талибами. Ныне, по сообщениям американских СМИ, в Вашингтоне разработан план действий спецназа на тот случай, если террористам все же удастся проникнуть на ядерные объекты Пакистана.
9.8.Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɢɡɦ — ɭɝɪɨɡɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ
Последние десятилетия XX в. стали эпохой резкого усиления, а под- час — взрывного роста религиозного фундаментализма. Само понятие «фундаментализм» появилось в начале XX в. в связи с движением христиан-протестантов в южных штатах США. Фундаменталисты выступают за «возвращение к корням», к традиционным религиозным ценностям прошлого, а также за то, чтобы перестроить полити- ческую и общественную жизнь на основе религии. Подобные тече- ния есть также в исламе, иудаизме, буддизме и индуизме. В Японии и Китае в конце XX столетия резко возросло влияние синкретиче- ских религиозных сект. Некоторые из них («Аум Сенрик¸» в Японии) были обвинены властями в терроризме, а другие («Фалуньгун» в Китае) преследуются как политическая оппозиция (в «Фалуньгун» состоит несколько десятков миллионов человек). В реальности речь идет не о возвращении в прошлое, а о создании новых социальных систем, в основе которых лежат массовые иерархически устроенные общественно-политические объединения. Участникам такого объединения следует принести собственные личные устремления и пристрастия в жертву общим интересам и политике вождей. Но в отли- чие от фашистских и большевистских организаций этот коллектив — религиозная конгрегация (от лат. congregatio — соединение) либо созданные на ее основе партия, общественное движение или нация. В Новое время люди верили, что в состоянии построить совершенное общество на рациональных решениях, здравом смысле и науч- ных методах. Однако сегодня фундаменталистские настроения под- час охватывают не только социальные низы, но и образованную часть населения. Экономические и политические катаклизмы, экологический кризис поставили под вопрос само существование цивилизации, основанной на разуме.

9. Ƚɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ |
469 |
ɂɫɬɨɤɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɢɡɦɚ ɜ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɫɬɪɚɧɚɯ
В 1970—1980-х годах по всему миру прошла волна экономической либерализации. Политика протекционизма прекратилась, и его барьеры, защищавшие производство большинства стран от конкуренции, были сломаны. В результате страны Африки, Азии и Латинской Америки оказались в большей или меньшей степени открыты для международной торговли. Реальностью стала приватизация промышленных предприятий, банков, земли. Коммерциализация затронула практически все сферы общественной жизни. Правительства развивающихся стран рассчитывали на то, что им удастся привлечь в свою экономику инвестиции, построить на деньги западных инвесторов передовую промышленность. И отчасти эти ожидания оправдались. Так, иностранные инвестиции в экономику Китая с начала 1980-х годов по 2000 г. составили около 400 млрд долл. Быстрое промышленное развитие на основе капиталистических принципов организации производства и современных технологий в значительной степени изменило облик таких стран, как Южная Корея, Индонезия, Таиланд, Индия, Египет.
Однако эти процессы отнюдь не бесконфликтны. Следствием растущей конкуренции с иностранными компаниями и возникновения сильных фермерских хозяйств стало разорение сотен миллионов мелких сельских и городских производителей. Разрушение сельских общин привело к появлению новых бедняков, вынужденных ютиться на задворках мегаполисов. И наконец, резко увеличи- лась долговая зависимость развивающихся стран. Для того чтобы привлечь в свою экономику дополнительные средства из-за рубежа, необходимо было создать условия, привлекательные для западных инвесторов: построить хорошие дороги, обеспечить бесперебойный поток сырья в зоны предполагаемых инвестиций, подготовить квалифицированные производственные кадры. Все это потребовало дополнительных средств, которые занимались у иностранных банков. На сегодняшний день долги государств Азии, Африки и Латинской Америки Западу составляют свыше триллиона долларов. Выплата процентов по этим долгам стала одной из главных расходных статей бюджета развивающихся стран, что существенно ограничивает возможности их правительств для проведения эффективной социальной политики.
Как происходят неконтролируемые социальные взрывы в восточ- ных государствах, наглядно продемонстрировали события в Индонезии, стране с 200-миллионным населением, еще совсем недавно служившей образцом экономических реформ. В 1998 г. Индонезию

470 |
II. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɦɢɪɨɜɚɹ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɚɤ ɫɮɟɪɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ |
захлестнули антиправительственные выступления и социальные протесты, которые в ряде случаев переросли в погромы и массовые убийства на этнической и религиозной почве.
В странах Азии, Африки и Латинской Америки существует сильная самостоятельная культурная традиция, с недоверием относящаяся к идее индивидуального обогащения, к растущей атомизации общества. Поэтому многие люди воспринимают нынешние события как крушение целого мира, привычного и близкого им, мира, в котором они жили, может быть, бедно, но чувствовали себя отчасти защищенными от превратностей судьбы общиной, социальной поддержкой государства. Там, где бурно развиваются промышленность и торговля и где в то же время сильны традиционные общинные устремления, возможно появление новых тоталитарных движений, пытающихся мобилизовать и заставить работать на себя коллективный потенциал, в любой момент готовый вылиться в акции протеста. Конечно, социальные бунты совершенно не обязательно ведут к установлению тоталитарного режима. Например, в 1989 г. в Китае миллионы людей приняли участие в движении за социальные перемены и демократию, причем основу его составили самоуправляющиеся ассоциации рабочих и студентов.
ɂɧɞɭɢɫɬɫɤɢɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɢɡɦ
Согласно древнему преданию, в небольшом городе Айодхья индийского штата Уттар-Прадеш на месте рождения бога Рамы располагался индуистский храм. Однако в период завоевания Северной Индии монгольским военачальником Захиреддином Мухаммедом Бабуром (1483—1530) он был разрушен, и впоследствии на этом месте воздвигли мечеть. Спустя века радикально настроенные сторонники индуистского фундаментализма (хиндутвы) заявили о необходимости восстановления храма, что, по их мнению, невозможно без разрушения мечети Бабура.
Молодежная организация «Баджранг дал» («Отряд сильных»), наиболее активно и агрессивно отстаивающая идеи индуистского фундаментализма, неоднократно устраивали в Айодхья массовые процессии. В 1980-х — начале 1990-х годов индуисты проводили здесь также многочисленные мирные политические мероприятия. Акция 6 декабря 1992 г. оказалась роковой: организованная толпа разрушила мечеть. Началась резня между мусульманами и индуистами.
ɂɫɥɚɦɫɤɢɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɢɡɦ: ɞɨɤɬɪɢɧɚ
Исламский фундаментализм — это религиозное течение, которое требует возврата к исламу в том виде, в каком он существовал при пророке Mvхаммеде (ок. 570—632) и при первых его преемниках,
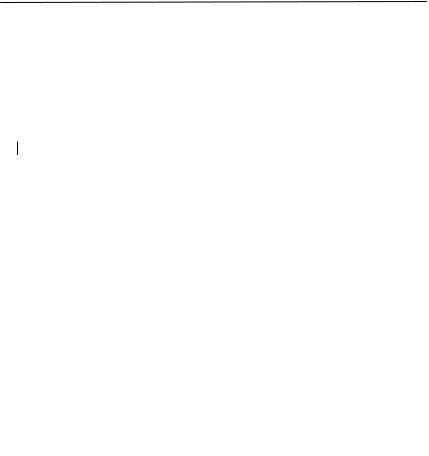
9. Ƚɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ |
471 |
«праведных халифах» Абу Бекре, Омаре I, Османe и Али. Под общим названием «исламский фундаментализм» часто объединяются самые разные движения и направления и течения — от умеренного до экстремистских.
Термин «исламский фундаментализм» стал активно использоваться в исследованиях российских и зарубежных ученых примерно с 1970-х годов. Постепенно со страниц научных изданий он перешел в средства массовой информации, а затем и в наш лексикон.
Однако исламский фундаментализм зародился не в XX в., как это может показаться на первый взгляд, а имеет давнюю историю и даже особое обозначение в исламе. Тех, кто придерживается фундаменталистских взглядов, именуют салафитами (от араб. «салаф» — «предки», «предшественники»). В суннизме термин «сала-фиййа» соответствует термину «фундаментализм», однако употребляется в более широком контексте. В исламской традиции к категории салаф или ас-салаф ас-салихун («благочестивые предки») относятся три первых поколения мусульман — сподвижники пророка (асхаб), их ученики и последователи и ученики учеников. Иными словами, салафитами считаются те, кто призывал или призывает ориентироваться на веру и образ жизни «благочестивых предков», отвергнув все позднейшие нововведения. К салафитам традиционно причисляются, например, основатели мазхабов (религиозно-правовые школы) Мухаммед ибн Идрис аш-Шафии (767—820) и Ахмад ибн Ханбал, живший в IX в. Позднее Мухаммед ибн Абд аль-Ваххаб (1703— 1787), основываясь на ханбалитских идеях, разработал собственное учение, которое по сей день остается самым последовательным и наиболее организованным течением исламского фундаментализма. В шиитской традиции ислама используется термин «усули» (от араб. Асль — корень). Происхождение его восходит к разделению ранних школ шиитского фикха на два направления — ахбари и усули.
Ɉɱɢɳɟɧɢɟ ɨɬ ɧɨɜɲɟɫɬɜ По мысли идеологов исламского фундаментализма, основу возрождаемого истинного ислама должны составить только Коран и Сунна пророка. Большинство же из того, что было достигнуто мусульманскими учеными при помощи привлечения других источников и включено в жизнь исламской общины (как в области веры, так и в повседневной жизни), объявляется недозволенным новшеством и категорически отвергается. Идея очищения опирается на соответствующие хадисы — высказывания пророка. Один из них гласит: «Лучшими словами являются слова Аллаха, наилучшее руководство есть руководство Мухаммеда, вам же, поистине, следует избегать новоизобретенных дел, ведь они являются наихудшими делами, так как всякое новшество есть нововведение, а всякое нововведение представляет собой заблуждение».
