
- •Центр системных региональных исследований и прогнозирования иппк ргу и испи ран
- •Человекоразмерность – ключ к пониманию регионогенеза: незамеченный императив м.К. Петрова
- •Введение
- •Часть 1. Регион и системное его представление
- •Часть II. Теория, культура, текущая природа и способ расселения
- •Часть I. Регион и системное его представление.....................................................12
- •Серия «южнороссийское обозрение» Центра системных региональных исследований и прогнозирования иппк при ргу и испи ран
Часть II. Теория, культура, текущая природа и способ расселения
Выдвижение теорий или гипотез в форме различенно-интегрированной связной
схемы, удовлетворяющей требованию единства восприятия-апперцепции, предприятие уязвимое во многих отношениях, особенно когда теорию или гипотезу пытаются выдвинуть и обосновать в междисциплинарной области, где всегда велика вероятность угодить в «бородинский эффект» – «смешались кони, люди». Но что делать? В наш век всеобщего научного опосредования всех проблем от тонкостей техники «бега от смерти» до биологической электро-магнитной совместимости и гипертрофированного методологического скептицизма приходится и решаться и оглядываться, и опосредовать проблемы и обходить наиболее заметные методологические мины.
У историков науки и социологов, особенно после работы Куна «Структура научных революций» и после бурных споров по поводу концепции Куна (24; 25) выработался более или менее устойчивый перечень к теории явно системно-функционального свойства. Используя куновскую идею парадигмы как суммы постулатов, установок, представлений о структуре предмета и о форме конечного продукта познания, правил, которые разделяются на периоде нормального существования дисциплины членами дисциплинарного сообщества, что дает им базу для взаимопонимания, осмысленной постановки проблем и осмысленного обсуждения результатов, историки науки и социологи, прежде всего подчеркивают эти парадигматические функции теории, которые в ином, системном уже плане работают в режиме интеграции: объединяют познавательную деятельность членов признающего теорию сообщества в «исследование» – в историческую системную целостность преемственного накопления результатов. Смысл и значение эти результаты приобретают в рамках данной теории и не имеют ни смысла, ни значения за ее пределами, хотя все результаты, если они получены с помощью признанных в науке процедур, обладают достоинством факта.
Такое понимание теории предлагается только для «нормальной науки», так как любая «научная революция» начинается именно с ниспровержения теории, способной идентифицировать «аномалии» – наблюдаемые и верифицируемые факты, но неспособная придать им смысл и значение в собственных рамках, объяснить их, что и требует новой теории, способные объяснить и накопленные ранее и новые «аномальные» результаты в единой системе понятий и представлений. Пункт о связи теории именно с «нормальной наукой» всячески подчеркивается социологами-
70
теоретиками. Уже в первой реакции на концепцию Куна Мертон писал: «В своей недавней книге историк науки Томас С. Кун проводит различение между «нормальной наукой» и «научными революциями» как фазами в эволюции науки. Большинство опубликованных на книгу откликов концентрируют внимание, как, впрочем, и сам Кун, на этих происходящих время от времени скачках вперед, которыми отмечены научные революции. Но хотя эти революции и являются наиболее драматическими моментами в развитии науки, большинство ученых большую часть своего времени вовлечены в деятельность в условиях «нормальной науки», которую развивают путем инкрементного накопления знания, основанного на признаваемых парадигмах (более или менее когерентных наборах посылок и допущений). Кун, таким образом, вовсе не отрицает давно установившейся концепции, по которой наука растет главным образом за счет инкрементных добавлений, хотя его основная забота – показать, что это еще далеко не полная картина. Поэтому грубейшим бы образом извратил исторические свидетельства тот, кто вычитал бы из его книги, будто кумуляция знания, признаваемого сообществом ученых, есть просто миф» (10,р.12-13).
Эта высказанная Мертоном линия на отодвигание «научных революций» на периферию социологии науки господствует и сегодня. Сторер, например, ученик и последователь Мертона, в число основных достоинств и заслуг своего учителя включает как раз нормативность его теорий для американской социологии: «С момента появления в начале 60-х гг. парадигмы Мертона большинство исследований в данной области удовлетворяли куновскому определению «нормальной науки». Не только работы самого Мертона, но и работы многих других концентрировались главным образом на проблемах, которые, когда их удавалось объяснить, оказывались непосредственно связанными с вопросами, эксплицитно или имплицитно представленными в парадигме Мертона. Короче говоря, социология науки вызрела до уровня, когда значительная часть исследований следует нормам «паззл-солвинг» (складывания разрезных картинок – М.П.). Кун сам подчеркивает, что отнести исследование к типу «паззл-солвинг» вовсе не означает, будто такое исследование требует меньшего воображения, приносит меньшее удовлетворение или оказывается менее важными Заполнение областей, идентифицированных той или иной парадигмой в качестве, говоря терминами картона, «точно определенного незнания» – столь же необходимо для развития научного познания, как и научная революция. Без «инь» нормальной науки не стало бы почвы и для «ян» научной революции, причем революции бывают сравнительно редко» (11 ,р.ХХХ).
Нам пришлось совершить это краткое путешествие к эпицентру дискуссий о
71
норме и революции в науке не столько для того, чтобы занять какую-то определенную позицию в споре, сколько для того, чтобы хоть чуточку адаптироваться к общему духу и концептуальному контексту происходящего. Без этой краткой «обкатки» вполне может возникнуть ситуация разговора одними словами на разных языках: наше привычное понимание терминов «теория», «исследование», «метод», связанное с философской классикой, оказывается здесь не всегда надежным помощником.
Если попытаться восстановить основные постулатные контуры наиболее часто сопрягаемых понятий – теория, метод, гипотеза, генерализация, наблюдение, то возникнут явные очертания системы, принадлежащей к классу открытых и имеющей историческое измерение. Наиболее часто употребляемым термином для этой системы является «исследование», хотя оно и не совсем четко локализовано относительно дисциплины. Здесь нет жестких определений: под исследованием понимают то исследовательское направление, реализующее потенции частной дисциплинарной теории или парадигмы, то самое дисциплину на этапе «нормального» развития. Но при любом понимании исследование остается целостностью, в которой наиболее устойчивым элементом выступает теория, а наиболее подвижным – наблюдение. Смит приводит одну из типичных схем исследования как системы (12, р.27):
Как видно из рисунка, основные составляющие исследования системы образуют во времени своего рода спираль или круговорот, в центре которого удерживается теория, непосредственно связанная с генерализациями, методами и гипотезами, а эти последние с эмпирией наблюдений. Через логическую дедукцию теория не столько устанавливает, сколько контролирует на соответствие самой себе выдвигаемые гипотезы и предлагаемые методы их проверки. Через логическую индукцию теория получает в основном от генерализаций и частично от методов поправки, уточнения, коррективы. Гипотезы и методы организуют через формализацию и инструменты эмпирические наблюдения, наблюдения же дают материал для генерализаций и предъявляют новые требования к методам, которые здесь понимаются скорее как методики.
Предполагается, что если всю эту круговерть запустить по времени, то теория в процессе постоянной, хотя и опосредованной связи с эмпирическими наблюдениями начнет и будет продолжать движение ко все более адекватному и детализированному отображению предмета исследования. Заданные через методы и гипотезы единые правила наблюдения и проблемы, которые должны решаться на базе эмпирических наблюдений, позволяют теории интегрировать познавательные усилия индивидов, принимающих эту теорию и соответствующий набор производных от нее проблем и правил, позволяют превратить эту деятельность индивидов в единый, развертывающийся во времени процесс научного познания.
Нам не раз еще придется говорить об ограниченности такого «динамического» понимания теории, которое, вообще-то говоря, явно восходит к аристотелевским, возрожденным Берталланфи представлениям о живой системе, имеющей на вооружении разумный двигатель, способный «двигать, оставаясь неподвижным». То, что вместо привычного разума здесь знаковая реалия, не меняет существа дела – для членов сообщества, ведущих наблюдения и согласных или приведенных к согласию играть по правилам, которые устанавливаются и преемственно, по данным результатов наблюдения, меняются теорией, она осознается хотя и отчужденным ради единства и интеграции индивидуальных познавательных актов, но реальным и достаточно инерционным «двигателем», во всяком случае регулятором, оформителем и ограничителем спонтанно возникающего у индивидов познавательного движения. Попробуем пока принять такое толкование теории и посмотреть, где мы, собственно, находимся и как далеко зашли на этом не таком уж, оказывается, кратком пути формулирования теории.
Выдвигая нашу теорию-схему расселения и регионообразования, мы
73
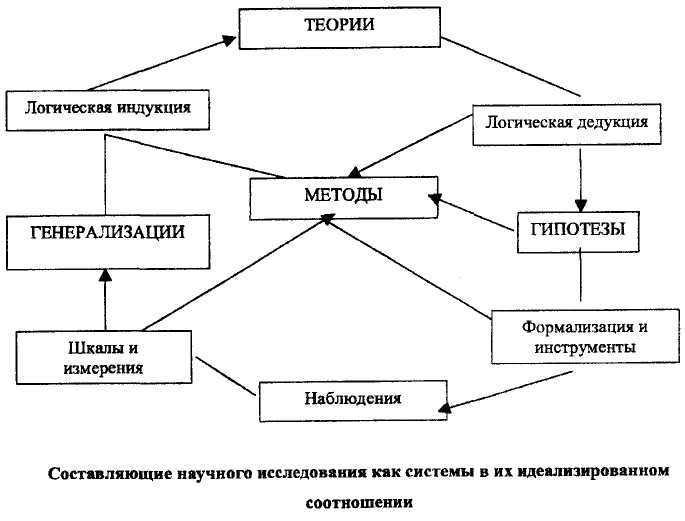
действовали, похоже, по лучшим методологическим канонам, горячо рекомендуемым социологами-методистами. Мы не спешили формулировать теорию, а начали с собирания фактов, имеющих и непосредственное и отдаленное отношение к делу. Такой способ действий называют «ведением рабочей картотеки», «знакомством с тематическими каталогами библиотек» (12,р.38-.39). Картотеки у нас, правда, не было, но попыток извлечь из библиотек, а особенно из различных дисциплинарных массивов публикаций «незапланированную информацию», способную, хотя и по частным поводам, пролить свет на нашу проблематику, вполне хватало. За отсутствием картотеки у нас не было и картотеко-методологической кульминации, красочно описанной Смитом: «На этом этапе деятельность исследователя смещается с библиотечного поиска на структурирование растущей картотеки ради перевода ее в исследовательские вопросы, допускающие проверку. Миллз отмечает, что одним из лучших способов инициировать этот процесс является перестройка системы картотеки. Рекомендуя этот прием, он заходит так далеко, что вполне серьезно советует исследователю выкинуть содержание картотеки на пол, разбросать карточки в беспорядке, а затем уже начать, как придется собирать содержимое. Смысл процедуры в том, что она одно из действенных средств обнаружить случайные комбинации различных идей и заметок. В терминах наших предыдущих рассуждений этот процесс призван ослабить парадигматическую установку исследователя с помощью смещения его перспективы на явления, которые до этого воспринимались как не имеющие отношения к делу» (12,р.39).
Таких драматических эпизодов у нас не было, но что-то подобное случалось, когда вдруг у антропологов обнаруживалось описание включения изолированных прежде первобытных обществ в ткань развитой социальности (26) или у лингвистов – соображения насчет функциональной нагрузки диссоциации и ассоциации (27). Если верить социологам-методистам, мы только-только достигли критического периода: «Интеллектуальные усилия указанного выше типа обязаны открыть путь: а)к формулированию гипотез, допускающих проверку; б)к формулированию средств проверки этих гипотез» (12,р.39).
Действительно, этот путь, похоже, открыт, тем более что с содержательной точки зрения под теорией предлагают понимать «набор взаимосоотнесенных гипотез или высказываний о феномене или группе феноменов» (12,40). Нашу схему теорию без труда можно перевести на язык гипотез и методов-методик, опросных листов, текущей статистики, тенденций, вывести на уровень наблюдения и, если найдется соответствующая организация, способная финансировать подчиненное такой теории
74
исследование и полагающая, что в терминах затрат-выгод перевод белее или менее известных всем фактов в интегрированную теорией форму значимых результатов оправдывает затраты, то ничто в общем-то не мешает начать такое предприятие. Теория действительно будет уточняться, обрастать деталями, давать все более сфокусированную картину процессов, и если, скажем, такое исследование перейдет в службу типа службы погоды, то от него вполне можно будет потребовать периодических отчетов, краткосрочных и долгосрочных прогнозов по расселению, по рождаемости, по росту народонаселения и изменением распределения населения, по регионообразованию, по естественным потенциалам регионов и степеням их освоенности, по десятку или даже сотне других переменных, допускающих измерение и количественное представление в соответствующих шкалах.
Но оставим эту перспективу перевода теории в динамику программы исследования – это хотя и хлопотная и сложная и трудоемкая, но все же техника с перспективой разрастания трудностей по ходу исследования и усложнения исходной схемы. За отсутствием перспектив на выход в практическое исследование нам лучше заняться той стороной дела, которую и Мертон и социологи-методисты, всячески демонстрируя к ней уважение, старательно обходят, а именно стороны парадигматической не в усеченном смысле практического упорядочения исследования теорией и интегрирования ею по общим правилам деятельности познающих индивидов, а в более широком смысле связи теории с человеческой размерностью и с общим контекстом эпохи.
Ни Кун, ни его оппоненты из числа социологов науки мертоновской школы в делах теории и науки не занимаются, хотя Кун в своей трактовке парадигм и механики их организующего и направляющего воздействия на членов научного сообщества весьма близко подходит к проблеме человеческой размерности.
Парадигмы, по Куну, практически не эксплицируются, возможно и в принципе не могут быть эксплицированы, поскольку их составляющие образуют скорее конгломерат различных по генезису и возрасту убеждений, установок, предметов веры, чем организованное на логической базе четное единство. Разношерстность состава парадигм с точки зрения генезиса и возраста его составляющих делает парадигмы доступными для экспликации и осознания, да и то не полностью, только в работах специалистов по истории науки, которая обладает своим дисциплинарным массивом литературы, который, как и все другие дисциплинарные массивы, явно выходит за пределы ментальных и физических возможностей любого отдельно взятого историка науки. Как и физик или химик, историк науки не в состоянии следить не только за всей
75
накопленной, но и за всей публикуемой литературой.
Чтобы нанять, например, становление тех представлений в времени, пространстве, об инерционных автоматизмах природы, о взаимодействии, о познаваемости природы, о выразимости процессов взаимодействия в логике понятий и в математических отношениях, об их измеримости, которые воспринимаются сегодня как естественные, историку науки приходится исследовать бурные споры ХV – ХVII вв., идти в соответствующие контексты духовной жизни того времени, анализировать совокупный эффект разнонаправленного и разноцелевого воздействия на господствующее теологическое мировоззрение теологов-реформаторов, схоластов – естественных теологов, натурфилософов, первых ученых, которые сообща создали то, что можно назвать «черновиком» научного мировоззрения. С некоторыми поправками это то мировоззрение, которое постигается учеником средней школы как данность. Чтобы разобраться в механизмах современной науки, выступающей в триединстве исследовательской, прикладной и академической составляющих, нужно, напротив, идти в начало и середину XIX в., исследовать эпоху «второй научной революции», хотя эти общие представления о науке также сегодня усваиваются как не вызывающая сомнений и вопросов данность, как таблица умножения, запрещающая вопросы «почему?». В этой данности отсутствуют уже различения по генезису и возрасту образующих парадигму мировоззренческих представлений, представлений о функции и возможностях науки, о сопряжении и совместной работе ее частей: исследователь умножает знание о природе, прикладник использует результаты исследователей для разработки новых технологий, преподаватель вуза или университета готовит новые поколения исследователей, прикладников и преподавателей, – вот колесо науки и вертится, сохраняя преемственность познания мира, создавая новые технологии и приводя в движение все то, что мы сегодня называем научно-технической революцией.
Кун очень четко устанавливает связь всего того, что может быть передано студенту на лекциях или через учебники, с текущим контекстом эпохи и науки, обнаруживая в этом общее стремление, и общее явление: «Конечно, ученые не составляют единственной группы, которая стремится рассматривать предшествующее развитие своей дисциплины как линейно направленное к ее нынешним высотам. Искушение переписать историю ретроспективно всегда было повсеместным и непреодолимым» (23, стр. 176-177). Если бы Кун достаточно ясно осознавал смысл ограничений по вместимости человека, для него это «искушение переписать историю ретроспективно» перестало бы быть искушением, а стало бы насущной необходимостью редуцировать историю до пределов вместимости студента, как она
76
задана учебными планами, сроками обучения, расписаниями, отведенными на соответствующие курсы часами. А эта редукция до вместимости связана с потерями и практически всегда совершается за счет вытеснения в область постулатной данности всего, что не имеет прямого отношения к становлению господствующего сегодня направления в дисциплине или господствующего исследовательского направления, к которому принадлежит и сам лектор-преподаватель, использующий соответствующие редуцированные до вместимости студента и аспиранта учебники и учебные пособия, списки рекомендованной литературы и т.п.
Кун не видит этой навязанной ограничениями по вместимости нужды в редукции, без которой было бы просто невозможно приобщить студента к дисциплинарным канонам деятельности и к общему объему накопленного знания как целостности. Поэтому, отмечая явные расхождения между действительной историей и тем, как она представлена в учебниках, по которым формируется парадигматическое восприятие студентов, он усматривает в этих искажениях случай и произвол, которые вызываются стремлением ученых быть причастным к истории: «учебники начинают с того, что сужают ощущение ученым истории данной дисциплины, а затем подсовывают суррогаты вместо образовавшихся пустот. Характерно, что научные учебники включают лишь небольшую часть истории – или в предисловии, или, что более часто, в разбросанных сносках о великих личностях прежних веков. С помощью таких ссылок и студенты, и ученые профессионалы чувствуют себя причастными к истории. Однако та историческая традиция, которая извлекается из учебников и к которой таким образом приобщаются ученые, фактически никогда не существовала. По причинам, которые и очевидны и в значительной степени определяются самим назначением учебников, последние (а также большее число старых работ по истории науки) отсылают только к той части работ ученых прошлого, которую можно легко воспринять как вклад в постановку и решение проблем, соответствующих принятой в данном учебнике парадигме. Частью вследствие отбора материала и частью вследствие его искажения ученые прошлого безоговорочно изображаются как ученые, работавшие над тем же самым кругом постоянных проблем и с тем же самым набором канонов, за которыми последняя революция научной теории и методе закрепила прерогативы научности. Не удивительно, что учебники и историческая традиция, которую они содержат, должны переписываться заново после каждой научной революции. И не удивительно, что, как только они переписываются, наука в новом изложении каждый раз приобретает в значительной степени внешние признаки кумулятивности» (23,стр.176).
Эту избегающую экспликаций данность парадигматики, шоры ретроспекции,
77
зависимость от текущего контекста отмечают и оппоненты Куна: «Парадоксально, – пишет Смит, – что хотя парадигмы задают наборы допущений, с помощью которых индивиды интерпретируют опыт, парадигмы действуют настолько автоматически, что их носители редко подвергают сомнению их достоинства и выступают против их недостатков, о этом смысле Кун говорит об «ослепляющей функции» парадигм. Эти шоры полезны в том отношении, что они запрещают ученому терять время на «тривиальности» и концентрируют его внимание на «областях осмысленных проблем». Но, к сожалению, когда результаты не соответствуют действующей парадигме, переоценке подвергаются, как показал Кун, не столько парадигмы, а скорее в жертву приносятся конфликтующие данные, которые обычно отбрасываются или искажаются» (12,р.24).
Ничего здесь парадоксального нет. Если нечто усвоено и интериоризировало как данность, не позволяющая спрашивать о своих основаниях и уведенная в нормативную «подкорку» сознания, то эта данность и будет регулировать восприятие внешнего мира, придавать смысл и значение происходящему в окружении, задавать оценки, стремиться истолковать и интерпретировать новое в терминах некритически усвоенной и интериоризированной данности. А данности, парадигматики, каноны, нормы восприятия могут оказаться весьма и весьма различными на всех уровнях восприятия. Известный индийский химик-органик с мировым именем, экс-президент Индийского научного конгресса, президент Института наук Индии, то есть человек в ранге президента национальной академии, Сешадри так, например, представляет себе современную науку и возможные пути ее развития в будущем: «Полное определение науки должно включать идею высшего знания веданты, позволяя ученым идти в более тонкие и трудные планы исследования... Наука и религия имеют общую цель – помочь духовному росту человека и установлению лучшего социального порядка. Друг без друга они недостаточны и беспомощны. Сегодня объединение в жизни человека духовных энергий этих двух дополняющих друг друга дисциплин могло бы создать условия для полной интеграции личности и способствовать развитию совершенной гуманной цивилизации... Великие социальные движения Индии всегда основывались на духовном начале, и задача Индии в гармонии наций и народов – сохранять эту духовную ноту. Недавний пример Ганди свидетельствует о том, что мы не утратили великой традиции. Вся его жизнь была грандиозной попыткой спиритуализировать политику. Вряд ли нам будет сложнее объединить науку и духовность» (28, р.156-157).
Ясно, что обладай Сешадри достаточно прочно усвоенной и интериоризированной данностью нашего европейского образца, какой она создавалась
78
в XV – XVII вв., ему бы и в голову не пришло возвращаться к вопросам, давно решенным историей науки, которая именно в тот период «интеллектуальной революции» сумела освободить концепт природы от духовных составляющих, выселить из вселенной ангелов, духов и другую нечисть надчеловеческой природы, что было характерно для предшествовавшего «готического» мировоззрения и до сих пор характерно для традиционного индуистского мировоззрения, сумела мировоззренчески и парадигматически подготовить природу к познанию методами опытной науки. Мечтать сегодня о веданте, о единстве с религией, о спиритуализации науки и природы значит пытаться вернуть науку в то «пранаучное» состояние, от которого она с таким трудом избавилась.
Но случаи, подобные этому парадигматическому срыву Сешадри, а их не так уж мало в странах неевропейской культурной традиции, пытающихся привить науку на собственной почве, достаточно вспомнить вспышку не очень понятных для европейца ожесточенных споров о конфуцианстве и леггистах в Китае, вынуждает более внимательно относиться к парадигматической стороне дела в процессе выдвижения и обоснования теорий. Именно здесь, в области парадигматики могут локализироваться источники и основания ее фальсификации – сумма ограничений по предмету, условиям истинности и применимости, которые не были выявлены в процессе выдвижения теории. В нашем случае это особенно важно, поскольку, пытаясь сказать нечто о междисциплинарной области, предлагая единую теорию процессов, которые были до сих пор разделены дисциплинарными перегородками, мы рискуем ввести в парадигматику такой теории различенные по дисциплинам, разнородные, конфликтующие составляющие, А если это так, весьма сомнительными становятся надежды на взаимопонимание: осколки дисциплинарных парадигм будут активно ему препятствовать.
Вторая причина, также требующая выхода в анализ парадигмы, хотя она и не связана непосредственно с междисциплинарностью, состоит в том, что раз уж мы говорим о человеческой размерности, об ограничениях по вместимости и, в частности, квалифицировали практику редукции истории, ее «переписывания» как нечто производное от необходимости «сжать» массив дисциплинарного знания как целостность до вместимости академического канала трансляции (сроки обучения, часы, отведенные на курс по учебному плану), то ведь и теория – тоже форма сжатия, «переупаковки» материала в рамках вместимости (единство апперцепции, целостность, простота, обозримость). И в случае исторического сжатия и в случае теоретического сжатия неизбежно выпадение в форме постулатов и допущений в парадигматический
79
осадок часта содержания. Это тем более справедливо для «динамического» понимания теории: она способна интегрировать познавательную деятельность многих индивидов в преемственную целостность исследования только при условии, что каждый из этих индивидов физически и ментально способен руководствоваться этой теорией в поиске нового, то есть ограничение по вместимости выступает здесь как условие осуществимости исследования. Будь, скажем, теория не связной и обозримой целостностью, а чем-то вроде необозримой и диссоциированной энциклопедии, она потеряла бы интегрирующие свойства.
Оба эти соображения – и от многодисциплинарности и от сжатия – вынуждают нас заняться парадигматикой нашей теории расселения и регионообразования. Мы отдаем себе отчет в том, что полная экспликация парадигматики любой теории практически невозможна: в нее должна бы войти вся история мысли, включая, возможно, не только наш культурный очаг. Одному человеку такое не поднять в силу его вместимости, а взяться за дело многим – значит превратить предприятие в написание энциклопедии парадигматики, где парадигматик будет ровно столько же, сколько и авторов, в любом случае приходится обходиться рабочей или ближайшей парадигматикой для данной теории. Но дело все-таки не безнадежно. Основная трудность исследования парадигматики состоит, по нашему мнению, не в том, что ее ужасно трудно эксплицировать, хотя есть и это, а скорее в том, что любая попытка экспликации подпадает под действие «регрессии в бесконечность», причем выбор «абсолюта» или «начала», ограничивающих это движение, дело в достаточной степени произвольное. Что же касается до самой эксплицируемости загнанных интериоризацией и образованием в «подкорку» постулатов и допущений, а также и уровней экспликации, то дело здесь, похоже, обстоит примерно так, как происходит в ситуациях объяснений с иногородними или иностранцами по поводу городского транспорта, магазинов, достопримечательностей.
Горожанин давно интериоризировал, увел в «подкорку» и «забыл» данность локализации опорных точек действующих систем транспорта, торговли, достопримечательностей – остановок, магазинов, памятников, для горожанина не существует вопросов, почему все это так, а не иначе, почему на остановку троллейбуса нужно идти к тому дому, а в магазин – к другому, и это великое благо, освобождающее мозг человека для более продуктивной деятельности, но это вовсе не значит, что горожанин не может при случае эксплицировать эти системы на уровне данности -толково объяснить приезжему как, куда, каким транспортом проехать, на что имеет смысл посмотреть, куда заглянуть. Горожанин вряд ли объяснит сам этот уровень
80
данности, то есть выйдет на более высокий уровень решений горсовета, просьб трудящихся, исторических прецедентов и т.п. На это существуют гиды, которые без труда объясняют, почему в Полтаве на могиле Коцюбинского растет калина вместо завещанного тополя, почему театр в Ростове и после восстановления напоминает трактор и много других почему. Так же и с парадигматикой на первом уровне данности хватает собственной «подкорки», а дальше уже требуются гиды-проводники. Мы без труда, например, объясняем малышам данность операций над цифрами или алфавита, но если возникает вопрос, почему при нашей привычке писать слева направо считаем мы все-таки справа налево или почему «а» следует писать именно этим знаком, то приходится уже вступать с помощью специалистов на тропы «регрессии в бесконечность», идти к арабам, к Кириллу и Мефодию, к Кадму, финикийцам и где-то все равно остановиться: дальше пока не прошли и специалисты.
Правда, одно дело рассуждать об этих тропках «регрессии в бесконечность» и совсем другое – ходить по ним. Здесь тоже нужны свои навыки, здесь тоже есть свои секреты. И может быть один из весьма существенных для нашей цели состоит в ранжировании составляющих данность теории на их историческую глубину, на их причастность к «вечности» или, в случае с теориями социальных процессов, к «совечности» обществу. «Совечны» обществу, например, знак, адресно-именное общение, язык: их мы встречаем в любом из известных нам обществ на любом из этапов их развития. Без них само существование общества становится невозможным и необъяснимым. С другой стороны, явно меньшей исторической глубиной и, соответственно, меньшей степенью принадлежности к «вечности» обладают такие привычные для нас социальные институты, как всеобщее среднее образование, высшая школа, технологические приложения научного знания, промышленное производство. И если эти вторые имеют для нашей теории существенное значение, то и глубина ее применимости будет располагаться на соответствующих исторических отметках. А малая историческая глубина – первый симптом «мягкости» извлекаемого с помощью такой теории знания, его ограниченной и со временем падающей приложимости к решению технологических и иных проблем.
Наибольшей «твердостью» обладает знание о предметах, для которых мы вообще не можем указать ограничений по глубине их вечностей. Таковы, например, предметы физики, химии и некоторых других естественно-научных дисциплин, где единожды полученное и проверенное экспериментом знание не имеет ограничений по местам, датам, целям приложения. Такое знание можно отправлять и в прошлое и в будущее для объяснения событий. Если, например, в XX в. мы открыли период полураспада
81
радиоактивного углерода и тот факт, что он имеет свойство накапливаться в живых тканях, то палеонтологи могут сегодня отправить это знание на тысячи лет в прошлое, чтобы датировать возраст ископаемых органических останков, или на любое предзаданное время вперед, чтобы с достаточной точностью предсказать сегодня, как будут выглядеть останки современной органики в то далекое время. Точное предсказание и неограниченная приложимость – «транспортабельность» такого знания к местам и датам приложения, делают «твердое» знание особо ценным для общества, а вместе с тем и мечтой любого теоретика и исследователя, чаще всего мечтой неосуществимой, а иногда и опасной.
Уже в самих естественно-научных дисциплинах дело с принадлежностью к «вечности» обстоит совсем не так уж благополучно. В физике и химии мы, действительно, не можем указать возраст «вечности» их предметов и вынуждены поэтому все физические и химические результаты полагать, как пишет Сторер, «сосуществующими в области, где нет ни часов, ни календарей» (11,р.ХХIV). Нет, скажем, никаких поводов сомневаться в том, действовал ли закон Архимеда в докембрии и не откажет ли он когда-нибудь в будущем или на других планетах – действовал, не откажет. Но вот уже в геологии, а того более в биологии, если считать себя связанным основным постулатом актуализма – объяснять наблюдаемые явления только от наблюдаемых же причин, – начинаются осложнения. В геологии такой истинно научный подход (действие ненаблюдаемых или «вымерших» причин невозможно проверить экспериментально) оставляет за пределами исследования оледенения, потопы и другие катастрофы, которые невозможно объяснить в терминах наличной наблюдаемой причинности. Любая теория геогенеза, например, с этой точки зрения недоказуемая гипотеза, нечто вне науки. Еще хуже с причастностью к «вечности» обстоит дело в биологии: в докембрии вообще не обнаруживается следов органики, так что любые биологические высказывания, любые экспериментально проверенные результаты имеют свое «начало» – Кембрийский период. Естественно, что еще менее глубокими оказываются «вечности» общественных дисциплин, поскольку человек и общество, какие бы удивительные гипотезы ни выдвигались по этому поводу, возникли отнюдь не на ранних этапах биологической эволюции.
Наша теория расселения и регионообразования сложена из явно неоднородных с точки зрения исторической глубины материалов. Одни ее составляющие совечны обществу, другие имеют возраст в несколько столетий, а третьи и совсем молоды: технологическая миграция индивидов, например, вызываемая технологически безработицей как следствие ускоренного обновления арсенала ролей и профессий –
82
вряд ли имеет возраст более ста лет.
Наибольшей по глубине составляющей является, бесспорно, идея знакового специализированного кодирования индивидов в фрагментированную по размерности человека деятельность. Ее, видимо, следует признать совечной обществу не только в силу теоретических причин, но и в силу простой эмпирической данности: пока не зафиксировано ни одного общества, в котором не было бы фрагментации-специализации деятельности и основанного на знаке кодирования новых поколений в фрагменты такой деятельности.
Рядом должна пройти и идея воспитания-уподобления предшественникам хотя ее можно рассматривать и более глубокой, общебиологической, поскольку воспитание-уподобление лишь вариант кодирования, которое может основываться и на возможностях биокода, воспитание-постредакция с использованием знаков достаточно широко распространено и в животном мире. Спецификой человеческого воспитания, делающим его совечным обществу, является основанная на использовании знакового общения постредакция-специализация. Только в этом виде идея воспитания может войти в теорию и стать опорой объяснений в парадигматике этой теории.
Той же совечной, хотя и значительно менее ясной природой должны бы обладать и универсальные средства специализирующего кодирования: индивидуализирующее имя-адрес и соотнесенный с этим именем текст конечной длины, фиксирующий типизированные программы поведения индивида-носителя имени в типизированных ситуациях коллективного действия. Неясности здесь вызывает то обстоятельство, что мы, привязанные к текущему контексту, во всех обществах фиксируем имя-адрес и связанный с ним текст, но тексты эти обладают равной примерно развитостью, богатством грамматических форм и отношений, а это богатство – явно продукт длительного языкового развития, не могло упасть с неба, возникнуть разовым порядком. Если под «текстом» понимать то, что мы понимаем под ним сегодня, то ему вряд ли можно приписать совечность обществу, если же текст понимается только как средство закрепления индивидуализированных специальных программ в знаке, независимо от развитости и других достоинств средств знаковой их фиксации, то такой текст следует признать реалией, совечной обществу.
Еще менее ясна картина с функциональней зависимостью ассоциации и диссоциации как двух основных состояний индивида в процессе его жизни. В нашей теории основным состоянием признается ассоциация, типологически различенная в последовательность: а) опосредованная связями родителей ассоциация-данность, которая носит более или менее чистый характер уподобления ребенка не им созданной
83
системе ассоциирующей связей; б) ассоциация «проб и ошибок» на периоде специализации, где индивиду приходится уже делать самостоятельные попытки наладить ассоциативные связи; в) ассоциация-социализация, когда индивид собственными силами творит специализированную карьеру и соответствующую ей систему ассоциативных связей. Эти три основных ассоциированных этапа перебиты диссоциированными вставками, где перед индивидом возникает ситуация выбора дальнейшего пути в социализацию, причем первая ситуация – выбор профессии – во многом ограничивает и определяет вторую – выбор одного из специализированных институтов или института, в котором на тех или иных правах присутствует данная профессия. Насколько эта схема: ассоциация (а) – диссоциация (1) – ассоциация (б) – диссоциация (г) – ассоциация (в) универсальна?
Именно в таком конкретном виде схема движения в социализацию-ассоциацию (в), хотя она у нас и ответственна за центростремительность и неравномерность расселения, вряд ли может претендовать на универсальность и, соответственно, на совечность обществу. Но если отвлечься от конкретности схемы, ассоциация и диссоциация всегда, видимо, будут присутствовать в тех или иных институциональных оформлениях в структуре социализации: младенец не может быть социализирован с колыбели, ему необходимо пройти некоторый путь воспитания-уподобления до акта социализации.
А этот путь предполагает выход на некоторую степень общности взаимопонимания – приобщение к текущему тезаурусу общества, что обеспечивается в нашей схеме универсальным воспитанием в общеобразовательной школе и специализацию – распределение приобщенных к текущему тезаурусу общества индивидов по фрагментам социально-необходимой деятельности. Единый для всех связанных в общество индивидов язык как универсальное и универсализирующее средство общения, несущее огромную мировоззренческую и парадигматическую нагрузку, фиксируется во всех известных обществах, равно как и институт имен – индивидуализированных адресов, которые позволяют задать текстом конечной длины любому индивиду особую, отличную от других, не сопряженную с другими линию поведения в социально значимых типизированных ситуациях. Это может рассматриваться как знаковое свидетельство наличия в любом обществе и универсализирующей и специализирующей стадий воспитания. Но схемы движения по этим стадиям в социализацию могут быть и различны, как и оформление диссоциирующих стадий.
Собственно интересующее нас расселение и локальное оседание населения,
84
дающие в результате картину распределения населения по территории, показаны в нашей теории как естественное следствие взаимодействия двух факторов: а) воспитательного движения индивидов через специализацию в социализацию; б) наличного распределения институтов специализации, которые тяготеют к крупным лекальным скоплениям ролей, социализированных уже людей, объемов в той или иной степени специализированной деятельности как производительного, так и обеспечивающего человеческую размерность типа. Расселение по такой схеме процесса реализуется через территориальную миграцию диссоциированных индивидов, ищущих путей в социализацию через специализацию (1) и локализацию (2) – оседание в местах, благоприятных как с точки зрения видов на карьеру, так и с точки зрения степени обеспеченности человеческой размерности, а такие места также тяготеют к крупным скоплениям ролей и населения – к городам и плотно заселенным районам (регионам).
Наиболее подозрительна на малую историческую глубину здесь взятая у демографии идея расселения через территориальную миграцию. Территориальная миграция в смысле плутания диссоциированных индивидов по городам и весям в поисках специальности для окончательной социализации в облюбованном месте явно не обладает достоинством универсальности: она типична для нас, но не для наших соседей, живущих по другим нормам культуры. В той или иной форме территориальная миграция индивидов и групп индивидов присутствует в любом очаге культуры на любом историческом этапе (территориальная экспансия, колонизация, набеги, нашествия и завоевания), причем причины территориальной экспансии всегда социальны, но механизмы и формы выявления в разных очагах культуры могут быть глубоко различны.
Чтобы увеличить в этом отношении историческую глубину нашей теории расселения, следует, видимо, от демографического понимания миграции как территориального перемещения индивидов по преимуществу и определить миграцию в ее исходных социальных корнях как нечто опирающееся на естественное возрастное перемещение индивидов, их миграцию, в социальных структурах, причем частной и производной формой такого перемещения может выступать и территориальная миграция.
При таком понимании миграции мы получаем возможность трактовать все формы территориальной миграции как частные выявления одного и того же, а также и включить в понятие миграции группу близких по смыслу процессов перемещения людей по социальным ролям, статусам. Карьера, например, если ее творение индивидов сопряжено с движением в иерархии должностей-ролевых наборов, предстанет одной из
85
форм миграции. С еще большим основанием в группу таких процессов можно подключить многократную диссоциацию, связанную с переменой профессий из-за их обновления и замены – технологическую миграцию индивидов, которая вовсе не обязательно должна иметь выход в территориальную миграцию. В других очагах культуры могут обнаружиться и другие разновидности миграции, однако под всей совокупностью таких разновидностей во всех обществах будет обнаруживаться единый и совечный обществу первоисточник – возрастное движение индивидов в социальных структурах, что, видимо, и следует принять за исходное и наиболее общее определение миграции.
Дальше пошли бы еще большие затруднения и неясности относительно исторической глубины и области применимости теории, поэтому нам полезнее будет попытаться типологически различить специфику расселения и миграции, используя для этого концепты культуры и текущей природы.
Существует великое множество определений культуры, что сказывается и на словоупотреблении: слово «культура», «культурный» можно встретить в самых неожиданных сочетаниях от «культуры раздоя фуражных коров» до «культурного релятивизма» или «культуры речи». Попытки выделить в этом многообразии некие общие черты не приводят к сколько-нибудь содержательному результату, поэтому, раз уж культура, очаг культуры присутствуют в парадигматике нашей теории, лучше попытаться сначала обратится к истории проникновения термина «культура» в общественные науки, а затем уже дать более или менее строгое определение места концепта культуры в парадигматике теории расселения и регионообразования.
Если говорить о более или менее связной концептуальной форме, то культура появилась в антропологии, причем появилась не столько по требованию теории, сколько под давлением требований человеческой размерности, как они представлены в университетской академической практике. В 1880-е гг. антропологию ввели как дисциплинарный курс в ряде университетов, и антропологическая концепция культуры возникала как попытка объединить результаты антропологических исследований с учетом дидактических требований к академическим курсам – целостность, обозримость, связность, простота. Беннет пишет: «После заката эволюционной теории американские антропологи начала XX в. ухватились за описательное гуманитарное понятие «культуры» и превратили его в «научное» открытие – в новый порядок реальности. Хотя такое понимание немедленно распространилось в общественных и поведенческих науках, только культурная антропология использовала культуру как центральную объясняющую концепцию» (26,р. 847).
86
Концепту культуры в антропологии приписывалась и содержательная, и объясняющая «размерность», то есть под ней понималась некоторая теория, и хотя популярность объяснений через теорию культуры несколько упала в 1950-е гг., за культурой все же сохранилась функция парадигматического участия на правах интегратора в описаниях образа жизни и моделей поведения первобытных обществ, которые изучаются антропологией: «антропологи не утверждают, что культура дает полное объяснение человеческому поведению, они просто констатируют, что в большей части человеческого поведения содержатся культурные моменты» (26,р.847).
Ряд авторов, в их числе и цитируемый Беннет, рассматривают кризис концепции культуры в антропологии как признак дисциплинарного ее распада, когда, с одной стороны, становится трудно отличить «культурную антропологию от истории или литературы», а с другой, – наблюдается «растущая тенденция привлекать социологические концепции», что делает невозможным «различение культурной антропологии от социологии или политэкономии» (26,р.847).
Это размывание дисциплинарных границ связано, по Беннету, не только с недостатками антропологической концепции культуры, во и осложняется рядом привходящих обстоятельств: «По моему мнению, эта ситуация создает острый интеллектуальный кризис, который осложняется постепенным исчезновением основной связующей единицы предмета этнографии – изолированного первобытного общества. По мере трансформации таких обществ в обладающие национальным самосознанием общества, в этнические группы или классы, становится все более сильной склонность антропологов к социальным наукам. Это порождает компенсирующие эксперименты, использующие, чтобы избежать социального сциентизма, а вместе с тем и отмежеваться от искусства, семантические и феноменологические подходы, но попутно ведет к разложению предмета до уровня, на котором сейчас уже можно говорить о существовании сепаратных «антропологии» для политэкономии, политологии, социологии, педагогики, символики, экологии и т.п.» (26,р.847).
В этих огорчительных условиях антропологи начинают искать средств сохранения дисциплинарной целостности за счет изменения концепта культуры или вообще отказа от него. Беннет рекомендует концепт адаптации, понимая его весьма широко: «Этот концепт, похоже, вводит новый уровень генерализации. Вместо абстракций от поведения вроде культуры либо редуцирующих формул психологии или генетики этот концепт фокусирует внимание на людях-деятелях, которые пытаются реализовать цели, удовлетворять нужды или искать мира по ходу преодоления наличных условий. В этом преодолении люди творят социальное будущее в смысле
87
порождения новых проблем и увековечивания старых; в этом процессе они могут даже модифицировать биологическую конституцию популяции» (26,р.847).
Адаптация на правах условия осуществимости предполагает антиципацию -присущую всему живому способность предвосхищать события опережающим действием с уверенностью в его исходе. Как форма предвидения исхода поступка, «связывания времени» антиципация может быть неосознанной или осознанной, когнитивной в случае с человеком, причем Беннет не очень твердо себя чувствует в привлечении сознания как отличительного признака человека: «Сознание присутствует у человека и отсутствует у кристаллов, но в различных и ослабленных степенях сознание присуще и млекопитающим» (26,р.849). Антиципацию Беннет понимает по Уайтхеду (29;30): «Некоторые антропологи используют модель игры как аналогию преодолевающего поведения человека в инструментальных (технологических, экономических, политических) ситуациях... Этот процесс предполагает то, что Уайтхед называет антиципацией: будущее структурируется тем, что организм делает в настоящем, а оно в свою очередь определяется тем, что происходило в прошлом. Таким образом, независимо от того, каким может оказаться действительный исход или какими степенями «свободы» обладает организм, всегда налицо попытка движения через время и пространство, как если бы в наличии имелись свобода и автономия, и в действиях такого рода попытка постоянно реконструировать обусловливающие факторы» (26,р.848).
Опирающаяся на антиципацию адаптация способна стать интегрирующим основанием предмета антропологии: «Для теории адаптации ключевой является когнитивная способность фиксировать изменения в наличных феноменах, то есть постигать новые вещи и тем самым устанавливать новые антиципации. Когда наличные феномены необходимо изменять, чтобы достичь таких антиципируемых целей, мы можем говорить о преодолении. А это во всех практических смыслах идентично инновации. Я считаю, что адаптационная система понятий превосходит систему понятий культуры, поскольку адаптация фокусирует внимание на человеке-деятеле и его поведении, а не на абстракциях от его поведения. Генерализация здесь достигается в том случае, когда мы говорим о групповых стилях или о групповых моделях поведения, то есть о социальной адаптации» (26,р.850).
Беннет считает, что где-то здесь и локализована возможность парадигматического дисциплинарного синтеза по предметному основанию: «Среди предметных областей культурной антропологии, экономических, политических, экологических и культурно-революционных исследований наметилось формирование
88
предметного ядра, которое все в большей степени смещается к человеческому преодолению наличных обстоятельств. Я буду называть это крыло инструментальной антропологией. Если это одно крыло культурной антропологии, то другое есть интерпретационная антропология, включающая исследования символизма, значения и той комбинации символизма и семантики, которая известна как структурализм в соответствий с названием, которое ей дал основатель Клод Леви-Стросс. Методы исследования этого крыла также теснейшим образом вплетены во взаимодействие людей как субъектов. В общем, это интерпретационное крыло антропологии использует описательный аспект культурного концепта» (26, р.851-852).
Объединение инструментального и интерпретационного крыльев как раз и способно дать, по Беннету, требуемый методологический синтез: «Инструментальное крыло тянется к точной науке, то есть к генерализациям и объяснениям человеческого поведения с помощью различных моделей. Адаптационный подход, надо полагать будет более надежно заякорен в инструментальном крыле, но поскольку ценности, символы, прецеденты также являются частью адаптивного ядра, их нельзя игнорировать. Психокультурная антропология стоит в настоящее время между этими крыльями. Предлагается, таким образом, синтез культурной антропологии в разумных пределах. Для инструментальной антропологии культура – качественные и количественные прецеденты принятия решений или же возможности и ограничения свободы выбора, для интерпретационной антропологии культура – качественный корпус символических характеристик эпохи. Хотя оба этих крыла зависят друг от друга, многомерность человеческого поведения требует, видимо, различения концептуальных оснований, причем культура в лучшем случае останется эвристическим механизмом» (26,р.852).
Трудно сказать, как высоко способна взлететь антропология на столь несбалансированных крыльях, но одно нам кажется ясным: «текущее» антропологическое понимание культуры как некой абстракции от поведения вряд ли существенно изменится, если «предметное ядро» через адаптацию и антиципацию будет смещаться к человеку-деятелю, к субъекту деятельности. Адаптация и антиципация, хотя они и говорят нечто о преодолении, о «связи времени», о попытках в каждом акте действия «реконструировать обусловливающие факторы», как и любой концепт культуры, извлеченный методом абстракции от деятельности, «фронтальны». «Фронтальность эта состоит в том, что общество, его связи, модели поведения во всех своих частях и сочленениях берутся как уже ставшие и синхронно функционирующие в «инструментальных» режимах технологии, экономики, политики. Если смотреть на
89
общество «снизу вверх», от эмпирии деятельности, «инструментального» поведения, то ничего другого и увидеть невозможно. Тут уж сколько ни смещай предметное ядро к человеку-деятелю, картина не изменится: взрослые дяди и тети, деятели, субъекты деятельности будут вертеть и в каждом акте воспроизводить наличный набор ролей, а все остальное уйдет за рамки картины как нечто, не имеющее отношения ни к обществу, ни к культуре. Но в реально живущем во времени и «преодолевающем» время обществе все обстоит не совсем так: эта «фронтальная» составляющая бесспорно присутствует как постоянно и регулярно функционирующая «инструментальная» связь с окружением на предмет извлечения из него средств к жизни. Но это только одна сторона, «фасад» социального целого.
Реальное общество не только существует в астрономическом времени, но и само оно стратифицировано в своем социальном времени: рядом с людьми-деятелями сосут матерей младенцы, играют дети, которым еще далекий путь до деятелей-субъектов, тут же и старые люди, которые уже не деятели-субъекты и переключены обществом на посильные для них дела, иногда жизненно важные для общества. Иными словами, если концепт культуры нам нужен в составе постулатов нашей теории, а он нам бесспорно нужен как основание типологических различий в способах решения основных социальных задач, то принятый в антропологии, да и в ряде других дисциплин, склонных к использованию точных методов, концепт культуры, придется серьезно модифицировать не с «фронтальной» стороны замыкания на эмпирию деятельности, а скорее с «тыловой» стороны подготовки стратифицированного по социальному времени общества к обеспечению «фронтального» эмпирического контакта с окружением и поддержания его в преемственной смене поколений. То есть дополнять-то концепт культуры придется как раз идеей миграции индивидов, их движения по социальным структурам через приобщение к текущему тезаурусу общества и через специализацию в социализацию.
Культура в этом типологизирующем смысле предстает как вариант решения общих для всех типов социальности задач по фрагментации социально-необходимой деятельности в посильные для индивидов роли и по специализированному кодированию индивидов в различенные роли и ролевые наборы поскольку в таком определении культуры акцент сдвинут на наследственно-преемственный характер общих для социальностей задач, а специализированное кодирование-воспитание осуществляется на знаковой основе, знак, его основные реалии – имя и текст – также должны, видимо, войти в определение культуры на правах уточняющих признаков, отделяющих любую социальность, к какому бы типу она ни принадлежала, от
90
«естественных» социальностей роя муравейника, термитника, где специализированное кодирование идет по биокоду.
Любая культура, любой вариант решения задач по преемственному существованию общества в смене поколений должен, естественно, обеспечивать текущую деятельность по извлечению из окружения средств к жизни, эмпирию производительного труда, и это порождает соблазн ввести текущую деятельность, без которой невозможно существование общества в определение культуры или, как мы только что видели на примере с антропологией, даже вывести культуру как некую генерализацию процессов, наблюдаемых на уровне эмпирии деятельности. Когда Беннет, например, объясняет преимущества концепта адаптации, сдвинутого к человеку деятелю, перед концептом культуры – абстракции от поведения: «Генерализация здесь достигается в том случае, когда мы говорим о групповых стилях или о групповых моделях поведения, то есть о социальной адаптации» (26,р.850), он продолжает общую антропологическую традицию, всеми силами старается удержаться на уровне деятельности как основного объекта изучения.
Соблазн вовлечения сферы производительной деятельности в определения культуры здесь двоякий – функционально-методологический: с одной стороны, текущий производительный труд индивидов-деятелей обладает высшим функциональным статусом, суть первое и исходное условие существования живущего поколения людей, связанных в данную социальность, и срыв эмпирической деятельности за несколько дней или недель погубил бы любую социальность, а с другой, методологической стороны, именно на эту область производительного труда объекты «текущей природы» в их свойствах проецируют наибольшую по интенсивности и силе определенность, поскольку любая технология, любая модель поведения в этой области достигает в «опережающем действии» цели лишь при том условии, что соответствующее действие опирается на свойства объекта воздействия, производно от них. Это последнее обстоятельство превращает область производительного труда в рай для исследования поведения точными методами, здесь по воду ходят с ведрами, лес рубят топорами или пилят пилами, землю рыхлят плугами или лопатами; коллективность, «групповые стили» или «групповые модели» поведения здесь привходящий момент, не влияющий на силу и интенсивность такого определения от объекта и, во всяком случае, не отменяющий такого определения, когда, скажем, по воду стало бы можно ходить с топором, а лес рубить – ведром. Коллективность, человеческая размерность попросту не участвуют в определении этой системы каузальных отношений: природа через свойства объектов, втянутых в
91
производительный труд, диктует условия их изменения и диктат этот безадресен – примет ли эти условия человек или животное, или машина для природы глубоко безразлично. Поэтому все человеческое на любом пути от моделей производительного труда, от ролей этого класса к культуре неизбежно элиминируется как несущественное и ничего, собственно, не определяющее. Поэтому любая попытка начать с эмпирии деятельности, как мы видели в рассуждениях Беннета, теряет границу между человеческим и животным: когнитивность, скажем, признается и у млекопитающих, адаптация и антиципация рассматриваются как общебиологические феномены.
Если под культурой понимается нечто истинно человеческое, творение человека для человека, учитывающее и внешнее определение природы и собственную человеческую размерность, то предмет культуры, принимая определение природы как границу и данность, кончается как раз там, где начинается деятельность по нормам этой данности. То есть предметное ядро, о котором толкует Беннет, нужно искать не где-то в движении по эмпирии поведения к человеку-деятелю, а в тех реалиях, которые «стоят за спиной» человека-деятеля, располагаются до эмпирии поведения, подчиненной определенности природы, и лишь контактируют в человеке-деятеле как в конечном звене цепи социального определения с чуждой и инородной для общества, независимой от общества областью определения природы.
Именно этот угол зрения на историю устанавливали Маркс и Энгельс в концепции материалистического понимания истории: «Эта концепция показывает, что история не растворяется в «самосознании», как «дух от духа», и что каждая ее ступень застает в наличии определенный материальный результат, определенную сумму производительных сил, исторически создавшееся отношение людей к природе и друг к другу, застает передаваемую каждому последующему поколению предшествующим ему поколением массу производительных сил, капиталов и обстоятельств, которые, хотя, с одной стороны, и видоизменяются новым поколением, но, с другой стороны, предписывают ему его собственные условия жизни и придают ему определенное развитие, особый характер. Эта концепция показывает, таким образом, что обстоятельства в такой же степени творят людей, в какой люди творят обстоятельства. Та сумма производительных сил, капиталов и социальных форм общения, которую каждый индивид и каждое поколение застают как нечто данное, есть реальная основа того, что философы представляли себе в виде «субстанции», в виде «сущности» человека, что они обожествляли и с чем боролись» (31,стр.37).
Структура контакта между поколениями, процедуры передачи наследства предшественниками и ввода в наследство новых поколений, состав «суммы
92
обстоятельств», механизмы движения ее по времени, по последовательности поколений и возможности изменения этой унаследованной суммы усилиями индивидов живущего поколения – вот примерные границы предметной области исследований по общей культурологии, а это как раз и есть то, что явно необходимо для нашей теории расселения и регионообразования. Рассуждая силлогистически, а это никогда не вредно, можно сказать: если территориальное расселение только частная форма и в каком-то смысле продолжение и результат социальной миграции индивидов в рамках наследуемой и изменяемой «суммы обстоятельств», а эта возрастная миграция как продвижение индивидов от младенчества в деятели-субъекты в свою очередь инициируется необходимостью постоянно, в каждом акте действия воспроизводить матрицу фрагментации деятельности в несильные для индивидов роли, причем делать это на нестойком материале краткоживущих поколений, то причины той или иной формы расселения как раз и нужно искать в тех механизмах, которые «проталкивают» вступающие в жизнь поколения в деятельность, а совокупность таких механизмов, прежде всего воспитательных, и есть культура.
Иными словами, если мы наблюдаем, например, как один человек бреет другому бороду, то этот факт может быть интерпретирован в двух различных системах понятий и, соответственно, получить двоякий смысл. Если мы, по совету Беннета, идем от деятельности к деятелю, то перед нами возникают вопросы типа: «Почему бритвой? Почему именно с такой последовательностью движений? Зачем на щеках мыло?». Все эти вопросы локализованы в области деятельности, природного определения. Ответы на все эти вопросы нужно искать в свойствах щетины. Ни эти вопросы, ни ответы на них не будут иметь никакого отношения к культуре – бриться не заказано в любой культуре и делать это приходится во всех культурах по единым правилам.
С другой стороны, если мы идем от деятеля в его историю, то перед нами совсем другая группа вопросов: «Почему именно этот человек бреет бороду другому? Как он дошел до жизни такой? Почему бреет бороду именно этому человеку?». Это уже вопросы о культурном контексте наблюдаемого факта.
Брадобрей может оказаться парикмахером, закончившим соответствующее ПТУ бытового обслуживания, а его клиент – случайно забежавшим в парикмахерскую индивидом, которому по тем или иным причинам через полчаса нужно предстать перед кем-то свежевыбритым. Это контекст нашей «развитой» европейской культуры, где отношения между парикмахером и его клиентом построены на обезличенной связи «спрос-предложение». Парикмахер таким способом ассоциирован с обществом, извлекает, опосредуя обществом свои отношения с окружением, средства к жизни.
93
Клиент ассоциирован с обществом одной из многих специализированных пуповин, удовлетворяет в данный момент одну из многих своих потребностей, оплачивая эту операцию и тем участвуя в социальном опосредовании деятельности парикмахера.
Если мы наблюдаем такую сценку где-нибудь в Хиндустане, вполне может оказаться, что брадобрей – человек из касты наи, в наследственный ролевой набор которого входит и бритье бород у наследственной же клиентуры, то есть и человек, которому бреют бороду, не случайно набежавший клиент, для наи-брадобрея, деды и прадеды которого брили мужчин из тех же самых семей с той же периодичностью за ту же компенсацию в форме услуг или продуктов, это тоже форма ассоциации с обществом через участие в устойчивом и наследственном контакте семей различной профессионально-кастовой принадлежности.
Если такая картинка наблюдается где-нибудь в Центральной Африке, то она может иметь и не иметь смысла в культурном контексте, роль брадобрея-парикмахера может вообще отсутствовать как социально-значимая реалия, как форма специализированной ассоциации с обществом.
На первый взгляд может показаться, что наш пример на различение областей природного и социально-культурного определения излишне наивен и не очень показателен, в контексте нашей культуры он, действительно, если и звучит, то не очень убедительно. Но в контексте других культур подобные мелочи могут нести значительные социальные нагрузки, а их нарушения могут вызывать конфликты, социальные потрясения и даже катастрофы.
Описывая положение в общине «Рампур», Кудрявцев говорит о том, что в 1920-е гг. в общине произошел межкастовый конфликт в связи с решением междеревенского панчаята понизить касте наи традиционные нормы компенсации за услуги при заключении браков. Наи выразили протест. Тогда часть джатов отказалась пользоваться их посредничеством при заключении браков. В ответ наи отказались стричь и брить джаджманов и обслуживать их женщин» (21, стр.135). Дальше события развертывались так: «Многие джаты обзавелись бритвами и отказались от услуг наи, а в связи с упрощением женских причесок и распространением в деревнях мыла и женщины в домах джаджманов стали реже прибегать к услугам наин, то есть женщин касты наи. Наи вынуждены были искать иных средств существования, в результате чего глава одной семьи стал работать парикмахером в Дели, другой стал учителем, а третий – шофером. Но замечательно что все они по воскресеньям возвращались в Рампур, чтобы выполнять свои традиционные обязанности по отношению к тем джатам, которые продолжали поддерживать с ними отношения джаджмани. Естественно, что и доход от
94
этих традиционных занятий имел второстепенное значение в бюджете семей наи» (21, стр.135-136).
Сложившаяся социо-культурная структура иногда может вызывать самые неожиданные на наш европейский взгляд последствия. Например, тот факт, что Дели и через двадцать лет после провозглашения независимости Индии не имел канализации, индийский историк и пропагандист научного мировоззрения Раман объясняет наличием в традиционной структуре касты неприкасаемых, ответственной за все санитарные дела. Социо-культурными функциями могут быть нагружены и орудия. Так, Роджерс и Шумейкер пишут об одном из австралийских племен, в быт которого миссионерам без особого труда удалось внедрить стальные топоры вместо каменных – по форме и трудовой функции они оказались достаточно близкими реалиями. Но каменный топор нес огромную знаковую нагрузку в роли социального интегратора: «До эпохи стальных топоров каменный топор был символом мужской зрелости и опорой уважения к старшим, каменными топорами владели мужчины, а пользовались этими инструментами в основном женщины и дети. Топор получали от отцов, мужей, дядьей в соответствии с предписанной обычаем системой социальных отношений. Племя Йир-Йоронт получало каменные топоры в обмен на дротики в контактах с другими племенами, причем порядок контактов и обмена подчинялся сложным ритуалам, носил сезонный характер, сопровождался празднествами» (32, р. 335). Обилие стальных топоров, которыми миссионеры расплачивались за мелкие услуги, повело к разложению этой сложной интегрирующей системы и к вырождению племени.
Социо-культурные связи, таким образом, отнюдь не безобидные безделушки, украшения, интеллектуальные, художественные или иные шедевры, а вполне реальные, нагруженные функциями части социального организма, способные во многих случаях оказать ощутимое сопротивление, вторжению инородного, вызвать эффекты «культурной несовместимости», которых особенно много в практике внедрения науки на инокультурных почвах.
Если, следуя определению культуры с акцентом на ее наследственной, кодирующей индивидов в деятельность функции попытаться выяснить, а сколько все-таки вариантов решения задачи специализированного кодирования индивидов в деятельность реализовано человечеством, то окажется вовсе немного, всего три. Три основных, естественно, если различать типы культуры по способу связи между именами и специализированными текстами. В каждом типе культуры можно наблюдать значительное разнообразие на уровне отдельных обществ. Большинство стран
95
социализма, например, и капитализма принадлежит к единому «европейскому» типу культуры, где социальная миграция индивидов вдет через общеобразовательные школы, специализирующие заведения к ассоциации с обществом через специальность, но эта принадлежность к единому типу культуры не исключает существенных различий, правда эта существенность совсем иного толка, чем различия между типами культуры.
Имя как индивидуализирующий адрес, как знаковая метка индивида, которую он получает либо на срок жизни, либо на срок определенного этапа в жизни, и текст конечной длины, отмеривающий человеку по его вместимости порцию специализированных программ в типизированных социально-значимых ситуациях действия, могут, судя по накопленному историческому опыту и по текущим наблюдениям, входить в три основных рода взаимосвязи.
Во-первых, это прочная, воспроизводимая из поколения в поколение связь текста и имени, у которого всегда есть живой и смертный носитель. Такой тип культуры мы будем называть лично-именным или первобытным.
Во-вторых, это столь же прочная, воспроизводимая из поколения в поколение связь текста и имени, которая не имеет смертного носителя и обращена к профессии – к множеству людей, деятельность которых совершается по единому набору программ и определена единым ролевым набором вроде набора цирюльника касты наи. Этот тип культуры мы будем называть профессионально-именным или традиционным.
В-третьих, связь между текстом и именем, оставаясь прочной, может использовать имя как элемент крепления текста к другому имени, а всей грозди таких зацепленных друг за друга через имена текстов, к исходному имени индивида, полученному при рождении. Такое наращивание или эпигенез исходного имени за счет подключения через имена многих текстов, когда каждый «делает себе имя», характерен только для нашего типа культуры, который мы будем называть универсально-именным или европейским.
Отношения между типами культуры вряд ли можно интерпретировать в терминах исторической развитости, хотя лично-именной тип явно старше других, а наш европейский – самый молодой, он берет свое начало с кризиса традиционной по типу Эгейской социальности где-то в XX – XIV вв. до н.э.
Лично-именной, «первобытный», тип культуры. Характерной чертой этого типа культуры является прямое кодирование индивидов в имена текстов, фиксирующих в знаке все наличные фрагменты социально-необходимой деятельности, особенно деятельности коллективной, требующей согласования и сопряжения программ.
96
Общества этого типа распространены по всем районам мира, и это само по себе должно вызывать подозрения на явную причастность этого древнейшего типа культуры к расселению.
Социальная миграция индивидов в таком обществе есть прежде всего движение по именам. Привязанные к специализированным текстам-фрагментам основные имена, «взрослые имена» образуют средний специализированный этап миграции, которому предшествует универсальный начальный этап движения по жизни с «детскими именами» и за которым следует завершающий, воспитательный по преимуществу, этап движения со «стариковскими именами».
Женщины, как правило, не проходят специализированного этапа, их деятельность слабо специализирована и тяготеет к весьма трудоемкой сфере обслуживания, уходу за детьми и их воспитанию особенно в первые «дошкольные», так сказать, годы, когда они нуждаются в постоянном уходе. Девочки с раннего возраста подключаются в деятельность взрослых женщин и в продолжительном контакте со старшими осваивают специфический универсальный круг женских навыков. Семьи как первичной ячейки ассоциации, опосредующей связь специализированного индивида с обществом и имеющей определенную автономию в решении вопросов о распределении продукта, о воспитании, о ведении хозяйственных дел, обычно не существует, дети считаются общим достоянием племени и общим объектом воспитания, распределение продукта идет на общеплеменной основе коллективных трапез, тем же способом ведутся и хозяйственные дела. Это не исключает, конечно, длительных и устойчивых связей между женщиной и мужчиной и даже сепаратистских семейных тенденций там, где обстоятельства позволяют это или даже вынуждают к этому, затрудняя бытовой коллективизм, как это происходит в условиях крайнего Севера, например, но в целом семья может быть, а может и не быть в социальной структуре и во всяком случае она не является исходной социальной единицей, конечным адресом распределения прав, обязанностей, обязательств, совокупного продукта как в других культурных типах.
Мужская линия социальной миграции уже в сравнительно раннем возрасте отделяется от женского и переходит в стадию освоения текущего тезауруса общества как он представлен на уровне универсальных для данного общества мужских навыков (обращение с оружием, общая физическая подготовка, выносливость, совместные игры и предприятия, имитирующие коллективную деятельность старших). Формальных процедур обучения с отметками, классами здесь, естественно, нет, но воспитание на этом этапе идет под общим наблюдением старших (охотников и старцев), и высшей целью такого воспитания, его ориентиром, предметом вожделений и стремлений
97
подрастающих выступает высшее по статусу и правам положение взрослого-охотника.
Круг «взрослых» или «охотничьих» имен, делающих их носителей полноправными членами общества, его «элитой», ограничен и конечностью объема социально-необходимой коллективной деятельности, распределенной по фрагментам-текстам, и, не в последнюю очередь, ментальной, главным образом, вместимостью человека: общества этого типа не знают письменности, документации и других средств, расширяющих возможности человеческой памяти, конечность числа «взрослых» имен связана и с тем обстоятельством, что у имени может быть в любой текущий момент только один носитель. Леви-Брюль отмечает: «Первобытные люди рассматривают свои имена как нечто конкретное, реальное и часто священное... Коснуться чьего-либо имени значит коснуться самого его или существа, которое носит это имя... При вступлении в новый период жизни, например, во время посвящения, индивид получает новое имя... каждый клан имеет определенное ограниченное количество имен, каждый член клана за раз имеет только одно имя» (33, стр. 30-31).
Это ограничение числа носителей данного имени только одним индивидом понятно и вместе с тем весьма существенно. Понятно потому, что в коллективных, сопряженных по программам действиях, вроде охоты на слонов или китов, дублеров, как, скажем, и в игре в футбол или хоккей, не требуется: в «командном» действии они бы только путались под ногами. К тому же индивид, закодированный в определенный фрагмент, становится его монопольным, полновластным и ответственным владельцем, отождествляет себя со всеми предшествующими носителями этого имени, ощущает своими их поступки, подвиги в упомянутых в тексте ситуациях. Если бы у имени было несколько носителей, этот эффект слияния с предшественниками в вечности имени вряд ли достигался бы. Существенно же ограничение по числу носителей потому, что по какой бы причине индивид ни выбывал из носителей данного взрослого имени, ему тут же требуется замена. А это значит, что общество вынуждено постоянно сохранять и воспроизводить избыточность на уровне приобщенных к универсальному тезаурусу общества юношей, готовых в любой момент пройти курс специализации и занять место выбывшего носителя взрослого имени. Вероятность получить взрослое имя очевидно зависит от избыточности, от «конкурса» на имена вообще или на отдельные имена, требующие «таланта» – отклонения от тезаурусного стандарта подготовки в том или ином отношении, производном от зафиксированных в тексте ситуаций.
Завершающий этап универсальной подготовки и собственно специализация ведутся обычно старцами и реализуются в обрядах посвящения или инициации, в которых в юношу вводят его особый личный текст, превращая его во взрослого, в
98
носителя взрослого имени. В отличие от наших курсов специализации посвящение-специализация не отнимает много времени: неделю-две. Это естественно, поскольку специализация ведется на универсальной базе тезаурусного стандарта, навыками которого владеют все кандидаты в носителе взрослых имен, и сам смысл социализации в этом типе культуры состоит не в том, чтобы овладеть какой-то новой суммой навыков, а в том, чтобы на базе наличных навыков овладеть специализированной и индивидуализированной программой. От посвящаемых требуется, собственно, только запомнить текст, «выучить его наизусть» – на это и направлена основная мнемотехника обрядов посвящения, которая использует иногда довольно сильные приемы (выбивание зубов, например, или нанесение ран), но, как правило, приемы действенные: тексты запоминают «на всю жизнь».
Леви-Брюль и многие другие авторы отмечают особую таинственность, окружающую взрослые охотничьи имена, поэтому о структурных и стилистических особенностях специализирующих текстов известно довольно мало, в основном по европейским имитациям типа «Песни о Гайавате», в которые явно добавляются оживляющие сюжет моменты. Но структура, возможно, имеет и ряд сходных черт: это описание поведения носителя имени в ситуациях коллективного действия, в которое, по мере необходимости, вовлекаются и данные о поведении носителей других имен. Прямое кодирование в имя текста, единый тезаурусный стандарт на уровне практических навыков и умений, «переплетенность» программ на эмпирическом уровне деятельности делают вообще-то излишними дополнительные знаковые системы интегрирующего плана, так что та сравнительно небогатая и однородная техника фиксирования социальных норм и правил (тотем, табу, ману) носит скорее мнемотехнический, чем содержательно-функциональный характер.
Для наших целей особо следует отметить роль старцев в функционировании социальных организмов этого типа и роль избыточности, способной, как нам кажется, объяснить нечто в механизме расселения.
«Стариковские имена» получают только те, кто прошел этап деятельной жизни в качестве носителя взрослого имени и передал это имя новому носителю, так что если индивиду не удалось стать носителем взрослого имени, он, независимо от возраста, не сможет стать носителем и «стариковского имени». «Старцы» – понятие для этого типа культуры весьма относительное: средняя продолжительность жизни здесь невелика, по разным подсчетам колеблется где-то около 30 лет, так что и средний «старец» определен не столько по возрасту, сколько по положению ни пути социальной миграции. Старец – после взрослого-охотника в том же примерно смысле, в каком у нас
99
спортсмены в расцвете сил становятся «после» спортсмена, уходят на тренерскую работу. В функции старцев входит ведение основных дел племени, разрешение как внутренних, так и внешних конфликтов, отношения с соседями, выбор и смещение крайне ограниченного числа «должностных лиц» племенной бюрократии обычно из тех же старцев. Но главное, чем занимаются старцы как участники и регуляторы процессов социальной миграции – это подготовка юношей к посвящению, отбор и оценка кандидатов в носители взрослых имен, практический ввод текста взрослого имени, оценка качеств и степени «формы» носителей взрослых имен для своевременной замены тех, кто «теряет форму» и не удовлетворяет уже стандартам деятельности. Старцы в этом отношении действительно похожи на совет тренеров в большом спорте, который постоянно следит за формой игроков и спортсменов, имеет на примете возможные замены и, по мере надобности, производит их.
Хотя обряд посвящения крайне непродолжителен, он все же играет роль диссоциирующей вставки. Здесь появляется и уничтожается выбор пути в специализацию. В отличие от строения наших диссоциирующих вставок, где право выбора принадлежит в общем-то индивиду (выпускнику школы, выпускнику специализирующего заведения), право выбора и определения в специальность для окончательной социализации предоставляется здесь старцам. Они селекционируют подрастающее поколение, отбирая наиболее способных в число носителей взрослых имен.
Одной из важнейших функций старцев, частью осознанных, частью не осознанных и связанных со свойствами человеческой памяти, является постоянное «переписывание» текстов без нарушения рамок человеческой вместимости. Специализирующий текст-фрагмент в этом обществе подвижен, он живет и видоизменяется в процессе переписывания поколениями старцев. Поводы для переписывания могут быть двоякого рода: дренаж и новация.
Дренаж не требует со стороны старцев интеллектуальных усилий. Если, скажем, в текст включены ситуации коллективного действия А, Б, В,...К, для каждой из которых текст предписывает носителю имени особую программу поведения, а по независимым от общества и старцев причинам окружение меняется таким образом, что исчезает предмет ситуации, скажем, В и она, естественно, перестает воспроизводиться вместе с набором специализированных программ, распределенным по наличным текстам взрослых имен. Память старцев при всех ее достоинствах остается все же человеческой памятью, так что невоспроизводимые ситуации должны бы забываться и относящиеся к ним части текстов – дренироваться. Трудно сказать, на какой глубине, если ее мерить
100
числом поколений носителей взрослых имен, может произойти этот дренаж, но видимо, вполне довольно 3-4 поколений, чтобы освободить тексты от знакового балласта, программирующего ситуации, не подкрепляющиеся уже на уровне эмпирии.
Сложнее обстоит дело с новацией – здесь уж не может быть пассивного забывания: приходится менять формулировку текста, заменять его части или наращивать многие тексты. Наиболее типичными здесь представляются две ситуации: а) новация на уровне поведения носителя взрослого имени»; б) новация на уровне освоения нетипичных ситуаций.
Первый случай довольно хорошо документирован и здесь не так уж сложно расставить позиции сторон, восстановить ход процесса от появления новации до ее социализации через переписывание текста, допустим, что в ситуации коллективного действия С индивиду носителю имени предписано текстом поведение с, но он в порядке ли эксперимента или ошибки (ошибки, неудачи, промахи сопутствуют деятельности и в этих обществах, причем меры для «возвращения в форму» используются иногда весьма болезненные) применил отклоняющееся от предписания поведение С1 которое оказалось удачным, способствовало достижению цели и было одобрено участниками коллективного действия С. Типичный путь к социализации такой новинки состоит в том, что на празднестве по случаю удачной охоты группа участников имитирует ситуацию, концентрируя внимание старцев на новинке с1. Если это удается, следующий носитель этого имени получит в тексте предписание с1 вместо с, то есть текст будет переписан, а новинка социализирована.
Второй случай – социализация новации на уровне новой программы коллективного действия и в силу его редкости и в силу его сложности документирован крайне бедно. По сути дела документация ограничена в основном случаями начальных контактов изолированных первобытных племен с европейцами, в которых без труда улавливается типичная модель «проб и ошибок»: последовательность зондирующих гештальт-решений не содержит преемственности. Из нескольких зондирующих попыток выбирается та, которая позволяет включить новую ситуацию, если она неустранима, в жизнь племени с наименьшими потерями. Видимо тот же тип реакции на новые составляющие окружения следует ожидать и в случаях, когда эти новые составляющие требуют для нейтрализации или освоения коллективного действия. Само это коллективное действие формируется, надо полагать, стихийно инициативными действиями индивидов, в основном носителей взрослых имен. Если действие оказывается успешным, оно после многократных имитаций-проигрываний должно, видимо, пройти стадию знаковой фиксации – формулировок дополнений к текстам
101
наличных взрослых имен, а возможно и стадию ввода новых имен, хотя последнее маловероятно, поскольку росту числа взрослых имен активно препятствует ментальная вместимость старцев.
Это последнее обстоятельство – влияние ментальной вместимости старцев на объем социальности – должно привлечь наше самое пристальное внимание, поскольку там, где у человека возникают ограничения по вместимости, он обычно находит способы перехода собственной ограниченности, преодоления этих ограничений.
Когда мы говорим об обществе, то норма нашего европейского восприятия подсовывает воображению крупные скопления людей порядка миллионов жителей, которые, если воображение сдерживается логическими моделями, «понимаются» как насыщенные структурами целостные системы, но «воспринимаются» все же скорее в географических терминах, по заученной еще в школе политической карте мира: там вон Япония, а там – Швеция, где Альпы – Швейцария, где Нил – Египет и т.п. Если численность населения падает ниже какого-то порогового значения, нам уже трудно становится воспринимать соответствующие социальные единицы как «общество». Княжество Монако, например, или Ватикан, имеющий послов во всем мире, или даже Люксембург, если ограничиться только Европой, с трудом укладываются в рубрику «общество», хотя их население все-таки исчисляется сотнями тысяч, иногда превышает и миллион. Дальнейшее уменьшение населения возводит уже психологический барьер. «Дом Одиссея», например, каким он описан у Гомера, – автономная в экономическом, политическом и прочих отношениях социальная единица, над которой нет уже единиц более высокого порядка, но вот идентифицировать дом Одиссея с обществом, с «домом-государством» как-то не получается, слишком уж мала эта автономная единица» по самым оптимальным подсчетам в ней связано чуть более сотни человек. Трудности этого рода возникают и при анализе того, что Беннет называет «изолированным первобытным обществом» – то пропадает вопрос о его численности, то, если этот вопрос возникает, сомнительным становится термин «общество».
Умом понятно, что если общество не имеет письменности, если оно сохраняет и воспроизводит социальные структуры, опираясь только на возможности человеческой памяти, то сколько ни уводи интериоризированные нормы в «подкорку» данности, стеллажей со сводами законов и уставов не появится, не появится и других возможностей покупаться в архиве памяти для истолкования настоящего в терминах прошлого и прецедентов прошлого. Но когда ум пытается перескочить через свою понятливость к выводам о возможной численности такого общества, то возникает некоторое замешательство – «душа не принимает такого общества, которое вряд ли
102
способно перешагнуть в своем объеме за предел тысячи индивидов всех возрастов и положений на пути социальной миграции и которому явно противопоказаны не только миллионы или сотни тысяч, но и десятки тысяч. Самой натренированной памяти не управиться с таким ворохом различений, не удержать их в единстве апперцепции. Где-то за сотней-другой индивидов нужна уже развитая бюрократия, распределение целостного восприятия по уровням административно-организационной иерархии. А такой бюрократической иерархии в первобытном обществе не обнаруживается.
Если посмотреть под этим углом зрения на старцев, то станет понятным, что с какого-то значения сложности социальной структуры ментальная вместимость старцев начнет ставить все более серьезные препятствия дальнейшему увеличению сложности. Можно, скажем, в прокрустово ложе ментальной вместимости уложить что-то около сотни взрослых имен, а их тексты распределить по десятку слегка специализированных старцев-кураторов (передавались же, скажем, «Илиада» или «Витязь в тигровой шкуре» множество поколений в устной традиции), но где-то уже здесь начинаются трудности, сотня взрослых специализированных индивидов, хотя она и не является монополистом в деле извлечения средств к жизни из среды, единственной «производительной» прослойкой первобытного общества (доля этой сотни в обеспечении пищевого рациона общества вряд ли особенно велика), предполагает все же синхронное и зависимое от сотни сосуществование нескольких сотен индивидов – женщин, детей, старцев, – находящихся на разных этапах социальной миграции. Требование избыточности как условия современной и оперативной замены носителей взрослых имен, по тем или иным причинам выбывающих из строя, только усложняет положение, приближая его к критическому значению, за которым уже идет неуправляемость, невозможность существования социальной единицы в интегрированном единстве.
Первобытное общество лично-именного типа культуры возможно, таким образом, только как компактная в несколько сотен автономная единица с относительно небольшим объемом фрагментированной социально необходимой деятельности и с соответствующим числом текстов и взрослых имен. Чтобы рассмотреть некоторые вытекающие из этого следствия, нам нужно проследить судьбу «лишних людей» – тех участников единого процесса социальной миграции, которые необходимо в нем присутствовали, поддерживая избыточность приобщенных к универсальному стандарту кандидатов во взрослые имена, да так и остались избыточными, «не прошли по конкурсу», стали обузой обществу.
Здесь сразу же нужна оговорка о степени изолированности первобытных обществ. Уже в середине и конце ХIХ в., когда началось серьезное изучение этих
103
обществ, они не были, строго говоря, изолированными, жили в окружении обществ других типов культуры, вступали с ними в контакты и вообще решали свои проблемы далеко не тем «чистым» способом, каким им приходилось решать их в эпоху изолированного существования в монокультурном окружении. С «изолированным первобытным обществом» дела в антропологии обстоят примерно так же, как с оледенениями и потопами в послелайелевской геологии: следы есть, а наблюдаемых причин не видать, хотя в антропологии бывает и обратная ситуация: причины есть -следов не видно. Это прежде всего относится к проблеме избыточности.
В современных условиях «лишние люди», выходцы из первобытных обществ, поглощаются инокультурным окружением, где они заняты чем угодно, являясь одним из источников дешевой рабочей силы, хотя, как правило, за исключением немногих, «потерявших Ману» (дух племенного единства), они сохраняют связь с племенем и готовы по первому зову вернуться в племя на «должности» носителей взрослых имен. Одно из наиболее популярных занятий «лишних людей» – посредничество в отношениях племени с соседями, что не прибавляет им престижа в самом племени, но делает их, полуторговцев-полудипломатов, весьма активными агентами разложения первобытного общества.
Всего этого очевидно не могло быть в условиях монокультурного существования, где не было инокультурного окружения, способного поглощать дешевую неквалифицированную рабочую силу «лишних людей», а у единых по типу культуры соседей существовали те же проблемы избыточности, так что поглощаться было некуда. Следы механизмов освобождения от «лишних людей», связанные, как правило, с изгнанием или даже с физическим уничтожением, обнаруживаются и сегодня в ритуальной практике африканских и южноамериканских племен. Экзотические, а иногда и трагические подробности такой практики часто оказываются на страницах буржуазной печати. Но такие прямые пути освобождения от избыточности не были, похоже, ни единственными, ни основными.
Более радикальным и, видимо, достаточно распространенным было почкование племени, то есть создание на базе избыточности общества-близнеца с той же знаковой структурой и с тем же набором взрослых имен. На эмпирическом уровне следы почкования обнаруживались и обнаруживаются повсеместно как зафиксированные в легендах и сказаниях, а также и в практике межплеменных контактов отношения родства с одними племенами и инородства с другими.
Понимание механизма самого акта почкования в условиях достаточной избыточности не представляет, по нашему мнению, особой трудности: дупликация
104
социокода – фрагментов, текстов, имен, поскольку он осознан и в этом осознанном состояние пребывает в памяти старцев, – дело несложное, были бы подготовленные кадры, те самые приобщенные к стандарту текущего тезауруса индивиды, которым угрожает участь «лишних людей». Даже если бы на долю дочернего общества не хватило бы полного комплекта старцев, то эта недостача была бы восполнена рабочим порядком в течение нескольких лет за счет смены носителей взрослых имен и перехода выбывающих в старцы. Не более сложна и проблема достаточной избыточности. Старцы первобытного общества пожалуй даже более наблюдательны, чем наши органы образования, которых почему-то всегда застают врасплох бумы деторождения, появление на начальном этапе социальной миграции большой группы младенцев и детей. Любой такой бум, связан ли он, если верить самоновейшим данным, с солнечной активностью, или возникает по другим причинам, мог бы стать вполне подходящим поводом для заблаговременной подготовки акта почкования. Сюда могли бы войти и кандидаты из более старших групп, так что должного кумулятивного эффекта, обеспечивающего кадрами все социальные роли, было бы достичь не так уж сложно. Особых усилий в планировании и предвидении для такой заблаговременной подготовки не требуется.
При всем том акт почкования общества порождает серьезные проблемы, связанные с «текущей природой», концепт которой мы пробовали объяснять выше, но теперь он требует некоторых уточнений. Как уже говорилось, «текущее» свойство природа – основной источник материальных благ – получает не от себя, а от общества, которое эти материальные блага из природы извлекает. Сама же по себе природа, какой она дана нам, европейцам, и в мировоззренческой парадигматике и в исследовательской практике естественно-научных дисциплин, предмет в высшей степени устойчивый, инертный и неизменный, бесконечно повторяющийся в автоматизмах взаимодействия. «Текущая природа» – это степень представленности окружения в деятельности общества, исторически сложившаяся к данному моменту номенклатура втянутых по инициативе человека в обмен между обществом и средой веществ и существ природы.
В номенклатуре «текущей природы» первобытных обществ ведущее место занимают скорее существа, чем вещества природы. Охота для этих обществ весьма существенный источник средств к жизни: она вносит в рацион племени те группы веществ, которые было бы невозможно получить иным путем, хотя и растительный мир представлен в рационе достаточно богато. «Текущая природа» первобытных обществ в этом смысле в основном природа бегающая, прыгающая, лазающая, летающая,
105
распределение которой по территории регулируется своими биологическими законами, которые существенно отличаются от закономерностей распределения полезных ископаемых, столь почитаемых в нашем типе культуры, но совершенно безразличных для первобытных обществ.
Распределение существенных для первобытного общества животных по территории устанавливает определенные количественные соотношения между, численностью общества и территорией, способной прокормить такое общество, обеспечить более или менее бесперебойную охоту и поставку в нужном количестве дичи. Ясно, что эти соотношения весьма далеки от точных математических формул, поскольку неоднородна плотность заселения территории животным миром, изменчивы и темпы его воспроизводства, но при всем том такие соотношения все-таки существуют и должны, видимо, влиять на расселение племен, на их территориальное распределение, на размежевание их охотничьих угодий. Во всяком случае ясно, что там, где охотится одно племя, двум охотится будет тесно, то есть вектор расселения племен при всех локальных его модификациях всегда в общем-то будет направлен на «расталкивание» растущих по числу, почкующихся племен.
Вот здесь мы и встречаемся со своеобразным антропологическим «потопом», следы которого налицо, а причины уже как будто бы не наблюдаются. С того весьма и весьма недавнего времени, когда обнаружение вымерших видов и попытка объяснить эту аномалию в христианско-теологической парадигме сотворенности мира серьезно пошатнули доверие к постулату сотворенности мира и человека (34), ученые сначала поспорили об очаговом или повсеместном происхождении человека, а затем, убежденные доводами физиологической видовой близости всех человеческих рас, пришли все-таки к выводу о локально-точечном происхождении человека и общества. Спор сегодня идет уже не о том, в одном или во многих местах одновременно возникло человеческое общество, а о том, в каком именно месте оно возникло, откуда оно как планетная новация распространилась по всей планете, каковы были пути миграции-расселения, как шли волны человеческого «потопа», затопившего все материки и острова. Если примерно до середины XIX в. подавляющее число европейцев, в том числе и ученых, было уверено, что колыбель современного послепотопного человека и остатки Ноева ковчега следует искать на Арарате, то теперь единства мнений нет. Большинство сходится на том, что человек евразийского происхождения, но только большинство, да и Евразия мало похожа на точку.
Но если гипотеза локально-точечного генезиса человека и социальности не просто способ закрыть проблему физиологического единства человеческого рода,
106
поднятую падением христианский гипотезы о суверенности человека по образу и подобию божьему, а более или менее обоснованный факт, с которым приходится считаться любой теории расселения, то между появлением человека в некоторой точке земного шара, где бы она ни находилась, и завершением глобального потопа человеческого распространения по лику земли должен располагаться некий значительный период времени, «лаг» глобальной экспансии человеческого рода. Условия расселения на этом периоде должны были бы серьезно отличаться от более поздних, когда земля была уже заселена, в том отношении, что на лаге глобальной экспансии человеку в общем-то всегда было, куда уходить и что осваивать, тогда как по прохождении этой первичной волны географический глобальной экспансии человека речь могла идти уже только о процессах миграции-перемещения по обжитым местам, о переселениях, нашествиях, завоеваниях с явно иным набором средств воздействия на «туземцев», чем на этапе освоения, когда никаких «туземцев» не было.
Достаточно ли почкования племен как способа решения проблемы избыточности и «расталкивающего» эффекта, вынуждающего охотничьи общества территориально обосабливаться производно от заселенности территории животными, от темпов воспроизводства животного мира, для объяснения глобальной экспансии человеческого рода?
Основная трудность этого вопроса состоит, нам кажется, в том, что с биологической точки зрения процесс расселения человечества шел недопустимо высокими темпами. Меньшими, естественно, чем темпы расселения, скажем, очередной разновидности гриппа, но в перерасчете на те 15 – 20 лет, которые требуются человеку на вызревание для порождения потомства, темпы расселения человечества явно выпадают за известные в биологии значения: они практически невозможны для биологического способа кодирования. К тому же, распространившись по земле и освоив массу самых различных условий существования от джунглей до тундры, человек в общем-то остался с тем же биокодом, с каким он начинал глобальную экспансию. Во всяком случае, в отличие от «культурной несовместимости», эффектов «биологической несовместимости» в видовых рамках человечества не наблюдается; любые расовые сочетания способны давать здоровое человеческое потомство.
Почкование племен и эффект территориального «расталкивания» способны объяснить только появление и постоянное действие «потенциала перенаселенности» в наличном районе расселения человечества, который на границах района, если других нет, определенно будет ориентировать векторы предпочтительных перемещений племен за пределы этого наличного района расселения, толкать к растеканию племен
107
по территории, к экспансии.
Возможность такого растекания и такой экспансии очевидна: «текущая природа» первобытных обществ ограничивается тем, что растет и прыгает, она не знает якорей вроде полезных ископаемых, локализация которых удерживала бы племя на данной территории. Племена в принципе подвижны, и если бы природа с точки зрения ее фауны и флоры была однородной, позволяющей идти на все четыре стороны и в любом месте земли извлекать средства к жизни одним и тем же набором коллективных и индивидуальных действий, то ничего удивительного в факте быстрого глобального расселения человека не было бы. Но природа неоднородна, неоднородны и «текущие природы» первобытных обществ «Текущая природа» пигмея, например, достаточно отличается уже от «текущей природы» бушмена и вряд ли вообще имеет общие по номенклатуре составляющие с «текущей природой» эскимоса. Даже сравнительно небольшой, если мерить его километрами, путь из бушменов в пигмеи или наоборот, требует радикальных изменений текущего тезауруса общества, изменения текстов взрослых имен, что по биологическим нормам означает смену биокода или «сумасшедшую мутацию» ранга переселения млекопитающих или птиц в море (киты, пингвины).
Вопрос, таким образом, упирается не в степень привязанности племен к определенной территории, здесь пока не появилось таких стабилизаторов, как пашня или шахта, которые предполагали бы оседлость, и племена подвижны. Не связано решение этого вопроса и с мотивом: растущее в результате почкования число обществ и, соответственно, растущее население при относительно неизменном экобалансе среды на данной территории всегда будут создавать и воспроизводить потенциал перенаселенности, а с ним расталкивающие и выталкивающие моменты – поводы и мотивы для растекания-расселения. Вопрос упирается в способность человеческого знакового кодирования справиться с задачей оперативного перекодирования форм деятельности не на костях мутантов, как это делается в биологической эволюции (лаг полового созревания человека безнадежно велик для такого решения), а «на костях знаков», то есть методом переписывания и изменения текстов. Поскольку же эта первая глобально-территориальная экспансия определенно могла опираться только на возможности социокода первобытного общества, именно этот тип социального кодирования в деятельности подлежит анализу и оценке на подвижность, на его достоинства и недостатки по сравнению с биологическим кодированием. Это нас возвращает, во-первых, к далекому уже экскурсу-отступлению в область различий биологического и знакового кодирования, где мы развивали тезис о биолого-
108
генетической несостоятельности человека как о причине появления знакового специализированного кодирования в коллективную деятельность, а во-вторых, к задетой нами недавно проблеме механизмов переписывания текстов в целях дренажа избыточного и социализации нового содержания. И то и другое нам требуется теперь осмыслить под углом зрения механики и темпов переписывания генетической или знаковой информации, а также величин и размерностей, определяющих подвижность кода и темпов изменений.
Если не вдаваться в детали, биологи много и бурно спорят о них сегодня, то возможный темп видовых изменений, в которых роль селекционера на совершенство и жизнеспособность играет среда, определяется главным образом тремя характеристиками; а) мерой разнообразия наличной популяции вида, которая производна от характеристик видового биокода, его способности «ошибаться», давать мутации; б) лагом вызревания – периодом от появления особи на свет до появления у нее потомства; в) числом особей в потомстве. В самом грубом приближении возможный темп биологических изменений и, соответственно, адаптационная способность изображались бы формулой: ав/б с какими-то коэффициентами. В терминах такой формулы человек отнюдь не выглядит венцом творения. С точки зрения разнообразия человек, может быть и удовлетворяет общебиологическим стандартам – каких только индивидов нет на свете, но малое число особей в потомстве (в) и значительный лаг вызревания (б) делают его явным тихоходом биологической эволюции. Не говоря уже о вирусах и микробах с предельно малым лагом вызревания до деления, человека по всем статьям забьет большинство представителей растительного и животного миров.
Если попытаться применить идею такой формулы к оценке возможностей социокода первобытного общества, то сражу же обнаруживаются осложнения, связанные с тем, что в случаях биологического кодирования мы имеем дело с универсальным кодированием потомства (пчелы, муравьи, термиты в формуле не учтены), тогда как социальное знаковое кодирование для того и сотворено человеком, чтобы решать задачи специализированного кодирования индивидов в деятельность. Но поскольку в знаковом кодировании налицо и универсальная (текущий универсальный тезаурус общества) и специализирующая (тексты взрослых имен) части, причем универсальная всегда предшествует специализированной, попытка представляется не такой уж безнадежной: мера разнообразия специализированного кодирования явно производна от разнообразия текущего универсального тезауруса общества.
Здесь, правда, требуются определенные уточнения понятия «тезаурус». Его мы
109
определяли мимоходом то на уровне знака, то на уровне поведения (навыков, умений), так что особой ясности в нем не оказалось. В нашем типе культуры текущий тезаурус имеет знаковую в основном форму некоторого объема общих и, предполагается, общеобязательных знаний, убеждений, постулатов установок. Может быть наиболее полным формальным выражением этого тезауруса являются у нас программы общеобразовательной средней школы. В первобытных обществах, не использующих формального образования, текущий универсальный тезаурус, хотя в нем бесспорно присутствуют и убеждения и постулаты и установки, в части, касающейся знания, не может быть определен в терминах программ общеобразовательного института -фиксированных в знаке программ здесь нет, – поэтому тезаурус в этой части приходится определять в терминах освоенных навыков и умений. Если учесть, что практические навыки и умения в общем-то однозначная проекция знания (программы) на эмпирию поведения (действия), то ничего особо страшного при такой замене уровней описания не происходит.
Интересующий нас универсальный текущий тезаурус первобытного общества, таким образом, есть та сумма освоенных прошедшими универсальную подготовку навыков и умений, которая, с одной стороны, считается стандартным набором, подлежащим усвоению подрастающими, а с другой стороны, эта сумма – стандартный набор используется как своего рода словарь для знакового оформления специализированных текстов, которые пишутся как программы на языке действия, освоенных навыков и умений, так что в принципе, если бы пришла к тому особая охота, из текстов взрослых имен, диссоциируя их до уровня навыков и умений, можно было бы восстановить в знаковой форме состав тезауруса и в части знания.
Совершенно очевидно, что освоение новых условий существования, новых реалий окружения должно начинаться с изменений в составе универсального текущего тезауруса, а сама освоенность этих условий и реалий должна бы обнаруживать себя как резкое различие в составах текущих тезаурусов первобытных племен, живущих в разных условиях окружения и имеющих дело с разными реалиями. Так оно, собственно, и получается: в составе текущего тезауруса племени пигмеев нет, например, навыков и умений обращения со снегом, умения ориентироваться по звездам, которых пигмею не видно, и многого другого, точно так же и в составе текущего тезауруса эскимосского племени вряд ли обнаружатся навыки ориентации в душной полутьме джунглей, навыки охоты на слона, лазанья на деревья и т.п. Разночтений будет много, много обнаружится и существенных различий. При всем том, однако, обнаружатся и сходные и идентичные составляющие.
110
Причиной этому, во-первых, то, что при всем разнообразии возможных навыков и умений, человек все же принадлежит к единому виду, что не может не вносить элементы единства в навыки и умения и ставит естественные пределы их многообразию. Во-вторых, и это не менее серьезно, расселение по лику земли нельзя воспринимать по типу современных мгновенных перемещений из тундры на экватор, из Москвы на БАМ и т.п. Перенесись этим способом племя пигмеев к эскимосам или наоборот, дело бы, естественно, кончилось катастрофой. Расселение, надо полагать, шло преемственно, как преемственно меняется и сама природа по территории, так что общества никогда не позволяли затащить себя в ситуации срыва, полной и разовой смены составляющих текущего тезауруса, а если и позволяли, то сведений о таких отчаянных смельчаках не сохранилось, А эта преемственность изменения состава тезауруса также могла вести к тому, что часть исходных навыков и умений сохранялась в составе тезауруса.
Иными словами, необыкновенно стремительнее распространение человека по лику земли выглядит таким в мерках биологической эволюции, если же к нему прилагать современные стандарты, то оно представляется медленным растеканием-расползанием исходного очага социальности с длительными остановками и перерывами, с обтеканиями трудных для освоения мест, с обходами препятствий и с заходами на препятствия с той стороны, где они допускают преемственное освоение. Словом, победного марша с предустановленной дислокацией, кому куда маршировать, здесь не было.
И все же проблема сравнения темпов биологического и социального перекодирования остается открытой. За счет чего могло бы социальное знаковое кодирование резко увеличить темп рекодирования? Если еще раз присмотреться к нашей формуле: ав/б, то наиболее перспективной величиной является б-лаг вызревания. В знаковом кодировании и перекодировании его, по сути дела, может и не быть, хотя он, естественно, и далек от нуля. В нашем развитом обществе, например, лаг публикации, социализирующей дисциплинарную новинку, составляет в среднем около года, а иногда и значительно больше. Старцы первобытного общества были в этом отношении много оперативнее.
Выше мы разбирали три основных случая: дренаж избыточного знания, социализация изменений в одной из программ текста взрослого имени, социализация новой программы коллективного действия. Эти случаи с рядом оговорок можно считать основными и для оценки подвижности социокода первобытного общества.
Дренаж внешне представляется довольно простой, безобидной и скучной
111
операцией-забывания, для которой усилий интеллекта не требуется. Эта не совсем так: универсальные тезаурусы, хотя их составы и ориентированы на средние или даже на порогово-допустимые (как обязательные школьные программы) значения человеческих физических и ментальных возможностей, стремятся все-таки к возможно более полному использованию человеческих сил и возможностей в пределах ограничений по вместимости. Дренаж избыточных составляющих является поэтому существенным условием социализации новых составляющих. Задержка с выводом из состава тезауруса того, что не находит подкрепления в действии, может затруднить ввод новых составляющих или, того хуже, сделать универсальный по способу функционирования тезаурус достоянием избранных, доступным только для тех, кто одарен выдающимися способностями. Для общества это было бы катастрофой: пришлось бы резко повысить избыточность в основном канале социальной миграции и поддерживать ее, что было бы явно не по силам обществу со столь скромным арсеналом извлечения средств к жизни из окружения.
В качестве процесса, в характеристику которого входят темп и интенсивность, дренаж представим некоторым средним периодом, лагом дренажа, который начинается с момента исчезновения из окружения реалии (ежа, например), по поводу которой создавался и воспроизводился через подготовку данный навык, и завершается исчезновением этого навыка из состава тезауруса, а соответственно и из программы подготовки подрастающих. В теории, естественно, моменты, маркирующие лаг дренажа, определяются много проще, чем на практике. На практике и реалии окружения не исчезают сразу и вдруг, а скорее снижают частоту своего появления и сводят ее к пороговому минимуму, за которым реалия перестает интересовать общество как объект возможного воздействия, да и соответствующие знаковые реалии, и это-то нам как раз хорошо известно из истории нашего очага культуры, не так просто покидают насиженные места в знаковых системах, долгое время остаются в них, поддерживаемые системными связями с другими знаковыми реалиями, имеющими предметную опору в реалиях окружения.
Здесь хороший повод совершить экскурс в страну «улыбок Чеширского кота», где потерявшие предметную опору знаковые реалии долгое время еще сковывают свободу знаковой интерпретации, где «рука мертвого хватает живое», и такой экскурс нам где-то еще придется совершить. Но сейчас бы он нас увел совсем не туда, куда мы намерены идти. Поэтому будем пока считать достаточным, что составляющая тезауруса выведена из него, исчезла, дренирована, если подрастающие поколения уже не «проходят» ее как нечто, подлежащее освоению и подготовке, пусть даже воспитатели-
112
старцы и рассказывают о каких-то, скажем, ежах или черепахах, которых никто из молодежи в глаза не видел.
Выше, говоря о дренаже, мы лаг дренажа определили через глубину памяти старцев и хотя, само собой разумеется, никаких точных данных привести не могли -нет соответствующих исследований, да и вряд ли они теперь возможны, – мы все же рискнули предложить период в 3 – 4 поколения носителей взрослых имен как ориентировочную меру глубины памяти старцев и соответственно лага дренажа; он в этом случае составлял бы 30 – 40 лет. В предельном случае, если состав тезауруса исчерпывает человеческую вместимость, а сам этот состав, учитывая требования преемственности, можно заменить новым где-то за 300-500 лет, то исходя из этих гипотетических ориентиров, можно было бы определить и средне допустимую скорость территориальной экспансии, лаг освоения новых условий жизни. Мы вовсе не стали бы настаивать на предлагаемых цифрах: для нас главное не то или иное конкретное значение, а путь, операция вывода, которая, если обнаружатся люди, способные провести подобные исследования, может повести к появлению более надежных значений.
В системе определений темпа перекодирования дренаж, пожалуй, наиболее инерционная составляющая, хотя ее воздействие на реальные значения темпа не может признаваться ни однозначным, ни прямым, ни абсолютным, поскольку в механизм такого воздействия всегда будет вплетена мера заполнения человеческой вместимости составляющими текущего тезауруса. Чем эта мера выше, тем жестче и однозначнее действовали бы ограничения по лагу дренажа. Но никто пока не измерил объема человеческой вместимости, не знает ни пороговых, ни предельных значений, да и состав тезауруса, хотя на уровне навыков и умений он в принципе наблюдаем и допускает исчерпывающее описание, пока он в том же состоянии неопределенности. Поэтому вопрос о влиянии лага дренажа на возможные темпы перекодирования остается ясным только на уровне теоретического умозрения.
Социализация новых составляющих тезауруса может, с одной стороны, использовать те процедуры, о которых мы писали выше, хотя на периоде расселения они требуют дополнения – выхода в подготовку новых носителей имен.
Процедуру социализации частной поправки в предписанный индивиду текстом способ поведения мы описывали в следующей последовательности: 1) появление и процессе коллективной деятельности у индивида действия, отклоняющегося от предписанного текстом, но способствующего успеху общей программы коллективного действия; 2) одобрение и признание этого отклоняющегося действия членами группы,
113
участвующими в данной ситуации коллективного действия; 3) многократная имитация – проигрывание ситуации, в которой появилось отклоняющееся действие в присутствии старцев на предмет одобрения и признания; переформулировка старцами соответствующего места в тексте имени – перевод отклоняющегося действия в предписанное текстом; передача новому носителю переписанного текста, в котором новинка – отклоняющееся действие – присутствует уже как предписанное, переведенное в норму и тем социализированное поведение. Учет необходимости обновления тезауруса потребовал бы где-то между 4 и 5 этапами выхода в подготовку молодежи в том случае, если отклоняющееся действие содержит элементы, не представленные среди составляющих текущего тезауруса, требующие особого освоения и отработки. Сам этот выход в подготовку не вносит дополнительных трудностей, поскольку старцы активно участвуют в процессах обучения молодежи на завершающих этапах подготовки.
Примерно так же обстоит дело и с социализацией новых программ коллективного действия, в которой можно выделить следующие этапы: 1) появление и периодическое присутствие в окружении объекта нового класса, воздействие на который непосильно для индивида, требует коллективного действия; 2) стихийные гештальтного типа попытки коллективного воздействия на объект с разнообразными исходами; 3) выбор и закрепление в повторах попытки, дающей наиболее приемлемый результат; 4) знаковая интерпретация старцами такой попытки как программы коллективного действия с распределением подпрограмм по текстам имен участников; 5) передача новым носителям взрослых имен текстов с дополнениями-предписаниями поведения в новой ситуации коллективного действия, направленного на освоенный в многократных попытках объект, который теперь социализирован – включен в состав «текущей природы» как нормативная реалия окружения, требующая данного коллективного действия.
И здесь так же где-то между 4 и 5 этапами социализации стихийно сложившиеся и обработанные в повторах подпрограммы индивидов-участников, проходя стадию формализации и представления в знаке в виде дополнений к текстам, которые будут передаваться следующему поколению уже как нормы-предписания, должны пройти оценку старцев на элементы новизны по отношению к текущему тезаурусу. Если такие элементы в них обнаружатся, они должны быть введены в курс подготовки подрастающих на правах условия осуществимости кодирования в новые, имеющие дополнения тексты. Если эти новые элементы – навыки и умения – не введены в тезаурус на правах нормативных его составляющих, если они не освоены и не отработаны новым поколением носителей взрослых имен, то жизненно важная для
114
преемственного существования первобытного общества операция посвящения в тексты взрослых имен становится невозможной.
Если посмотреть на оба эти процесса с точки зрения лага социализации нового, который является основным определителем возможного темпа перекодирования, то значения этого лага окажутся весьма малыми, хотя их величина и будет зависеть от способа представления лага. Если лаг замерен от момента возникновения новинки до постоянного ее присутствия в деятельности, то лаг вообще обращается в нуль: носитель взрослого имени, автор удачного и одобренного группой отклоняющегося действия, будет и впредь воспроизводить его до тех пор, пока он остается носителем данного имени; точно так же и группа, отработавшая удачное коллективное действие, направленное на освоение новой реалии окружения, и стихийно распределившая роли по участникам, будет и впредь воспроизводить это коллективное действие, пока она остается группой.
Весь вопрос здесь в том, насколько полна будет социализация, что будет после того, как носитель имени сдаст свое имя следующему, а группа за счет передачи имен прекратит свое существование. Если под полной социализацией понимается воспроизводство этих новинок на правах норм поведения в следующих поколениях, то лаг полной социализации, естественно, не может быть уже равен нулю, его завершение определится актами передачи имен новым носителям.
И природе, да и биологической эволюции глубоко безразлично различие между лагами эмпирически и знаковой социализации с их точки зрения лага нет, и перекодирование, каким оно выявляется в эмпирии деятельности, происходит мгновенно в момент появления новинки. Соответственно и темп перекодирования (ав/б) должен с их точки зрения обращаться в бесконечность. С точки же зрения общества, его будущего, его меры освоения новых условий существования различие между лагом эмпирической и лагом знаковой социализации весьма существенно, дело можно считать завершенным только после перевода нового в наличное методом фиксации в знаке, а сам этот перевод требует времени, интеллектуальных усилий, деятельности, может осуществиться и не осуществиться. Нулевой для природы и для сравнений с биологическими методами перекодирования лаг социализации далек от нуля, когда речь идет об устойчивом перекодировании будущих поколений. Но так или иначе значения лага достаточно малы, чтобы выявить принципиальное преимущество знакового кодирования перед биологическим генетическим. Костей мутантов в результатах знакового перекодирования не видно, процесс идет без потерь биологического материала.
115
При всем том разобранные два случая социализации нового на уровне обновления составляющих тезауруса не являются единственным источником новаций. Коллективные действия, а оба случая относятся к коллективной деятельности, не единственный вид производительного труда в таких обществах. Значительное место в совокупном продукте общества занимают результаты индивидуальной деятельности типа собирания плодов, ягод, грибов, трав, кореньев, охоты на мелких животных, рыбной ловли, то есть всего того, что не требует коллективной деятельности и чему она может быть даже противопоказана. Эта составляющая социально необходимой деятельности также, надо полагать, подвержена изменениям в процессе движения по территории, то есть «текущая природа», если ее постоянно не пополнять новыми реалиями, производными от флоры и фауны территории освоения, попросту опустеет как источник извлечения средств к жизни в процессах индивидуальной деятельности.
Если, например, пройти в миграционных потоках расселения с низовьев Енисея в Венгрию, то можно растерять по пути всю «текущую природу», но можно ее и значительно пополнить в процессах исследовательской деятельности всех членов общества, направленной на освоение новых реалий окружения. Процесс этот, естественно, идет методом проб и ошибок, совершается не без потерь – можно попытаться освоить и такое, от чего не поздоровится, – но так или иначе этот процесс также должен войти как существенный в общую картину освоения первобытными обществами всего планетного разнообразия условий их существования.
Имеет ли смысл и в этих случаях говорить о социализации, о лаге социализации, о знаковой фиксации результатов? Нам кажется, что имеет, хотя здесь и не обнаруживается тех более или менее формальных процедур, которые присутствуют в социализирующих действиях старцев, в конце концов новые реалии «текущей природы» всегда фиксируются в языке, в его словарном составе. А это, бесспорно, одна из форм фиксации в знаке, типичная для универсальных навыков и умений форма социализации для передачи знания новым поколениям.
Таким образом, уже древнейший из известных и в каком-то смысле относительно простой тип культуры, общей характеристикой которого «является прямое кодирование индивидов в имена специализированных текстов коллективной деятельности, поднимает массу проблем, из которых мы более или менее подробно остановились только на анализе условий осуществимости глобальной экспансии человеческого рода. Так или иначе, но факт остается фактом: к тому времени, когда европейцы в XV – XVI вв. начали свою географическую экспансию, эпоху великих открытий, мир был уже заселен людьми. И объяснить этот факт можно только с учетом тех огромных
116
возможностей, которые открыло перед человечеством знаковое кодирование.
Растущий производно от числа почкующихся обществ потенциал перенаселенности на любой конечной территории, вызываемые им силы расталкивания и растекания многое объясняют в динамике глобальной экспансии человека, но они не объясняют необыкновенно быстрого с точки зрения биологической эволюции освоения всего многообразия условий существования и значимых для человека реалий любых мыслимых окружений. Это объяснимо только от свойств социального знакового кодирования и перекодирования. Не будь этой специфики знакового кодирования, человек, как и большинство биологических видов, занял бы свою полосу территориального расселения, не посягая на планетность.
Напоследок просто отметим, что и здесь территориальная миграция оказалась продолжением социальной миграции индивидов, она предполагает социальную миграцию как свою первопричину.
Профессионально-именной или традиционный тип культуры. Профессионально-именной тип культуры характерен для целого ряда обществ, которые по нашим школьным количественно-географическим представлениям о стране, обществе вполне укладываются в привычные рубрики. Население – сотни миллионов, сидят на территории прочно, корнями уходят в глубь веков, обладают богатейшими культурными традициями, развитым государственным аппаратом. Если в странах нашего типа культуры при всей их развитости проживает сегодня менее трети населения земли, а в «изолированных», первобытных обществах вряд ли более доли процента, то в странах традиционной культуры – все остальное население планеты. Страны эти обычно называют «развивающимися», вкладывая в этот примелькавшийся термин не столько историко-эволюционный смысл движения в иерархии развитости, внедренный в европейское сознание главным образом немецкой классической философией, сколько смысл указания на ту идею «развитого состояния», которой руководствуются эти страны в определении политики.
Идея «развитого состояния» еще лет 15-20 тому назад была, по сути дела, простым сколком положения дел в развитых странах европейского типа культуры. Теперь же она быстро эволюционирует в некое особое, теряющее определенность положение. Если раньше она попросту определялась в экономических терминах дохода на душу населения, роста национального дохода, подготовки научных и технических кадров, то теперь эта идея после ряда серьезных неудач прямою и быстрого решения
проблем экономического развития обрастает «синтезирующими» наслоениями
политического, национального, культурного толка. Причин тому много, и одна из
117
главных – растущий быстрыми темпами национализм, осложненный тем, что в Индии называют «ревивализмом» – поставленными на службу национализму реминисценциями о былом могуществе и величии стран этого типа культуры, об их лидерстве во многих областях жизни и прежде всего в техническом прогрессе своего времени.
Раман, для которого «развитое состояние» ассоциируется с научным мировоззрением, наукой, технологическими приложениями научного знания, так описывает результаты двадцатилетних усилий Индии двигаться к этому «развитому состоянию» и сложившееся в настоящее время положение: «Следовало бы ожидать, что после достижения Индией независимости произойдут радикальные изменения в отношении народа к науке, особенно если учесть официальные принятую и проводимую правительством политику. Но этого не произошло. Политика правительства, хотя она и увеличила число научных учреждений, численность ученых и объем расходов на науку, не породила научного социального движения. По злой иронии истории социальное давление средневековья с момента достижения независимости усилилось под флагом национализма и возрождения культуры. Значительное число ведущих ученых сегодня активно взялось за пропаганду синтеза науки, религии, религиозных философий и спиритуализма» (28, р. 198).
Среди причин, вызывающих трудности освоения развитого способа жизни, ученые все чаще упоминают ценности, установки, мировоззрение как группу препятствий, ответственных за «культурную несовместимость». Дарт и Прадхан (35) провели даже специальное исследование этнически идентичных групп школьников в Гонолулу и в Непале. Они с достаточной убедительностью показали, что если школьники Гонолулу, находясь в типичном европейском культурном окружении, без труда осваивают научное мировоззрение и всю европейскую систему ценностей и установок, то их непальские сверстники, хотя их и учат по тем же учебникам, воспринимают научное мировоззрение как чуждое, остаются по своему образу мыслей, по способу восприятия воспитанниками традиционной культуры.
Президент Танзании Найерере считает, что культурная несовместимость вызывается прежде всего различием установок. В традиционном обществе человек вплетен в коллектив, живет для коллектива, тогда как европейское образование предполагает индивидуализм. «В нашем традиционном обществе каждый член живо сознает свою причастность к обществу, свои обязательства по отношению к другим и обязательства других по отношению к нему. Все индивиды живут однотипной жизнью. Это тяжелая жизнь, в которой необходимость кооперации усилий очевидный факт.
118
Наши социальные институты поддерживают психологию взаимозависимости, и эта психология – обязательная составляющая окружения, в котором растут все дети. И вот теперь мы вырываем часть детей из этого окружения, отделяем их от сверстников, давая им возможность получить среднее образование, которое доступно далеко не каждому, затем мы отбираем еще более ограниченное число счастливцев и посылаем их в университеты. В этом акте мы отрываем индивида от его сообщества и обычно стимулируем его тяжелую работу обещанием личных успехов. Здесь акценты переходят со взаимозависимости на индивидуальность, поскольку именно индивиду нужно самостоятельно читать, учиться, использовать возможности для личного совершенствования. Это смещение акцентов неизбежно» (36, р. 184-185).
Описывая практику преподавания в Индонезийском университете, где он несколько лет работал по приглашению, Биарз отмечает и на уровне преподавателей и на уровне студентов множество особенностей восприятия, затрудняющих взаимопонимание между индонезийцами и американцами: «Никому из нас никогда не удавалось, разве что сверхъестественным способом, проникнуть в область мистики индонезийских объяснений. Вполне возможно, что ни один взрослый не способен войти в контакт с этими системами, если он не индонезиец по рождению» (37, р. 36). Он упоминает и об установке на взаимозависимость и взаимопомощь, которая, применительно к академической практике означала полную невозможность бороться с открытыми подсказками и списываниями: «Технические трудности при организации опросов и предварительных экзаменов в переполненных аудиториях, где студенты сидят рядами, были значительной, но в общем-то еще детской проблемой. Куда большей проблемой были нормы взаимопомощи, обычай равного распределения дефицитного блага. Помочь студенту-товарищу ответить на вопрос считалось гражданским долгом и вовсе не рассматривалось как подсказка. С точки зрения общинных норм это проявление «социальной справедливости», а вовсе не нечто постыдное» (37, р. 98). Протесты американских профессоров не встречали понимания и поддержки ни среди студентов, ни среди индонезийских коллег.
Можно приводить множество свидетельств, показывающих несовместимость традиционного и европейского способов восприятия мира, оценки событий и поступков. Баумринд, например, рассматривая проблему этических разногласий, считает, что иногда они могут быть и неразрешимыми: «Основанные на действительно противоречивых мировоззрениях разногласия неразрешимы, но они редко встречаются среди людей, воспитанных в одной культуре» (38, р. 38). Но мы пока не будем увлекаться свидетельствами – у нас нет еще базы для понимания существа проблемы
119
несовместимости. К сожалению, такой базы нет не только у нас. Путь к пониманию традиционной культуры далеко еще не пройден, и если характеризовать современный этап на этом пути к пониманию, то он предстанет чем-то вроде густых зарослей экзотики – частных, на разных уровнях и по разным поводам разросшихся расхождений и недоразумений в духе заявления Биарза: «Некоторые американцы бывали почетными гостями на индонезийских «селаметанах» – церемониях воссоединения, умилостивления и благодарения. Они наблюдали требуемые по ритуалу захоронения бычьих голов под порогами новых домов, для официальных церемоний они принимали те даты, которые предлагались астрологами как подходящие. Их осведомляли, что было бы неразумно жить в доме с фасадом, выходящим на восток. Они выслушивали объяснения, по которым неправильности поведения следовало прощать, поскольку они вызываются черной магией, а за магию ее жертвы не должны нести ответственности. Они узнавали, каких именно изменений в судьбе следует ожидать после ритуального умиротворения духов бывших жителей квартир, домов, общежитий, служебных помещений. Для любых необъяснимых событий и проблем многие индонезийцы имеют в запасе значительно больший арсенал альтернативных объяснений, чем способен предложить американский профессор. (Если развитие определено как умножение альтернатив, то кто же тогда более развит?). Эти различия в системах причинности, хотя они и не всегда выявлялись в беседах и на конференциях, достаточно часто все же становились препятствиями полному взаимопониманию между членами Кентуккийской команды и их коллегами по колледжу. Нет никакого сомнения, что обе группы бывали иногда подобны космическим кораблям, которые стремятся состыковаться, не находясь даже на пересекающихся орбитах» (37, р. 36).
Попробуем определить основные структурные сочленения традиционного общества, используя для этой цели наши универсалии: «текущую природу» и социальную миграцию.
С точки зрения «текущей природы» общества традиционного типа культуры все связаны с земледелием, причем как правило с поливным или пойменно-«разливным» и поэтому привязаны к территории, оседлы в той степени, в какой оседлы их пахотные земли – основной контакт обществ этого типа с окружением по поводу извлечения средств к жизни. История знает, правда, и кочующие время от времени земледельческие социальности, которые после истощения пашен переходят на целину, выжигают и корчуют лес, чтобы после нескольких урожаев перейти на новое месте. Таким обществам мы обязаны, например, появлением степей, да и пустыни, по мнению многих, возникали не без участия странствующих земледельцев. Но такие общества –
120
частный и не очень характерный, случай для традиции. Типичное традиционное общество локализуется в поймах рек с бурными и регулярными паводками, способствующими регенерации почвы. Долины Нила, Тигра и Ефрата, Ганга, Хуанхэ и Янцзы – типичные места локализации обществ традиционного типа культуры. Они могут возникать везде, где существуют более или менее благоприятные условия для земледелия, но долины крупных рек, регулярность и цикличность времен года, паводков создают, так сказать, опорные пункты и исследовательские лаборатории традиции, где социальные структуры и институты предстают в наиболее чистом и завершенном виде.
Земледелие и связанное с ним скотоводство образуют экономическую основу таких обществ, накладывая своей способностью отчуждать определенную долю продукта на другие социально необходимые и значимые виды деятельности определенные пропорции представительства в общем объеме социально организованной и интегрированной деятельности. Техника земледелия достаточно единообразна и устойчива: пашня, плуг, бык, пахарь, погонщик – обязательные детали картин земледельческого труда, которые можно встретить и у Гесиода, и у Шолохова. Средняя доля отчуждаемого продукта в сельском хозяйстве сравнительно невелика и по подсчетам специалистов составляет 15-20%, так что в странах традиционного типа культуры около 80% населения занята, как правило, в сельском хозяйстве, позволяя 15-20% заниматься другими общественно-полезными и значимыми делами.
Земледелец – первая, похоже, в истории человечества массовая профессия, в которой деятельность множества людей подчинена единому набору программ и правил, выразима единым текстом, привязанным к устойчивому годичному циклу времен года. «Труды и дни» Гесиода, например, можно и сегодня использовать в Средиземноморском бассейне в качестве справочника относительно времени и последовательности сельскохозяйственных работ, точно так же, как и «Георгики» Вергилия.
Массовость земледелия как основной традиционной профессии придает черты массовости и профессиональности всем остальным видам деятельности, которые прямо или косвенно обслуживают земледелие, входя в отношение пропорционального определения от численности земледельцев. Как и в любом другом обществе, фрагменты-тексты видов деятельности удерживаются в пределах человеческой вместимости, где примат ограничений принадлежит то физическим (профессия цирюльника, например), то ментальным (профессия астронома-астролога) ограничениям, причем численность той или иной профессии, оставаясь в пределах
121
общей доли отчуждаемого сельскохозяйственного продукта, регулируется и спросом на ее услуги; плотники, гончары, кузнецы, сапожники, шорники образуют, естественно, более многочисленные профессиональные «сообщества», чем, скажем, астрономы-астрологи, которых в Китае, например, было на протяжение тысячелетий всего несколько семей при дворе императора Поднебесной (39).
Исходной социальной единицей, конечным адресом распределения видов деятельности, социальных обязательств, статусов, интегрирующих связей в этом типе культуры является не индивид, как в первобытном и нашем, а семья, входящая в два основных типа интеграционных отношений: а) в профессиональные (каста, клан, профессиональное «сообщество»); б) в общесоциальные (община, деревня).
Профессиональные объединения, оформлены ли они как в Индии и в ряде других регионах в касты или кланы, активно вмешивающиеся во все детали семейной жизни, или в менее жесткие организационные образования, всегда, в любом традиционном обществе несут ответственность за содержание профессионального текста и, соответственно, за текущие стандарты профессионального мастерства – текущие тезаурусы профессии, – а также за социализацию нового. Семья при этом оказывается основным в этом типе культуры воспитательным институтом; рождаясь и взрослея индивиды в длительном контакте со старшими осваивают «дело отцов», становясь, соответственно, земледельцами, гончарами, плотниками, цирюльниками «по-природе», по самому факту рождения в семье профессионала.
Текущий тезаурус общества в том виде освоенных всеми универсальных навыков и умений, в каком мы его встречали в первобытном обществе, здесь отсутствует. Его можно, конечно, искусственно собрать, проинтегрировав текущие тезаурусы наличных профессий, но само традиционное общество такой знаковой реалии на вооружении не имеет, да и иметь не может: такой текущий тезаурус заведомо превосходил бы возможности любого отдельно взятого индивида, более того, профессии ревностно заботятся о сохранении и поддержании информационной изоляции от других профессий, хранят тайны и секреты мастерства. Типичный традиционный взгляд на профессиональное мастерство выразим постулатом Крылова: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник». В самых многообразных выражениях этот взгляд можно встретить на любой исторической глубине. Гесиод, например, так предостерегал брата-земледельца против поползновений взяться за дела плотника, работника Афины:
Самонадеянно скажет иной: «Сколочу-ка телегу!»,
Но ведь в телеге-то сотня частей! Иль не знает он, дурень?
122
Их бы вот загодя он на дому у себя заготовил!
Труды и дни, 455-457.
Отсутствие ориентированного на навыки и умения текущего универсального тезауруса общества и семейная локализация каналов трансляции-воспитания могут создать впечатление, что универсальная ступень воспитания, которая четко прослеживается и в первобытном и в нашем типах культуры, вообще отсутствует в традиционном обществе. Ниже мы покажем, что это не так. Универсальный текущий тезаурус есть и здесь, только ориентирован он на совсем иные навыки и умения. Пока же продолжим описание семьи как постоянного члена профессионального «сообщества».
Семья в функции воспитательного института, уподобления новых поколений старшим по единому для профессии текущему тезаурусу выступает очевидным интериоризатором профессионального текста, переводит его из знаковой формы в форму обыденной репродуктивной повседневной деятельности, где редко возникают ситуации, требующие знакового оформления. Обучение подрастающих идет в основном в режиме подражания – «делай как я», без объяснения деталей, почему, скажем, лошадь нужно запрягать спереди, а за плугом идти сзади. Таких вещей не объясняют, их показывают. Соответственно, текст профессии, пока он используется как сумма программ повседневной деятельности, пребывает в семейной «подкорке», содержится семьями одной профессиональной принадлежности в «расплавленном», так сказать, и «растворенном» виде, и вернуть этот текст в исходное знаковое состояние типа «Трудов и дней» Гесиода или «Георгик» Вергилия – труд явно экстрапрофессиональный и с точки зрения самих профессионалов – бессмысленный. Нет смысла гончару, скажем, объяснять, что это вот круг, это – глина, это – печь; ему все это знакомо с детских лет, как нам правила уличного движения или навыки письма.
Но положение радикально меняется, когда на сцену выходит профессионал-новатор, имеющий предложить собратьям нечто новое ко всеобщему профессиональному благу. В своих объяснениях он может опираться только на составляющие текущего тезауруса профессии, то есть на ту сумму представленных в этом тезаурусе навыков и умений, которые освоены и воспроизводятся в семейной практике профессионалов. Но, опираясь на текущий тезаурус, объясняя существо новации в понятных для коллег по профессии терминах освоенной деятельности, профессионал-новатор вынужден эксплицировать текст в той его част, которая относится к делу. При этом сразу же обнаруживаются основные реалии традиционного знакового кодирования: текст и его имя.
123
По сути дела это все та же знаковая реалия, с которой мы встречались в первобытной культуре: имя вечно, текст, оставаясь в пределах человеческой вместимости, изменчив. Но отличием и серьезным здесь выступает то обстоятельство, что в традиционном кодировании имя это не имеет смертного и недолговечного носителя-индивида, вернее оно имеет носителем все взрослое население семей данной профессии. По нормам традиционного мировоззрения это имя воспринимается как имя бога-покровителя профессии, существа хотя и рожденного, но бессмертного, любая попытка профессионала-новатора социализировать свой вклад в общепрофессиональную копилку навыков и умений, в текущий тезаурус профессии, совершается по нормам традиции от имени бога-покровителя. Боги-покровители здесь постоянные соучастники творчества смертных профессионалов-новаторов, что широко документировано массой изображений и описаний, где рядом со сценкой из деятельности человека обязательно присутствуют боги-покровители, вдохновляющие его на полезное дело.
Удерживаясь за имя бога-покровителя, текст профессии, таким образом, находится в постоянном движении от эксплицированно-знакового состояния (миф), в которое его приводят новаторы, до имплицитно-«подкоркового» состояния текущего тезауруса, в которое его приводит повседневная деятельность семей. Поскольку профессионалы-новаторы объясняются в терминах освоенной деятельности и не могут выйти за пределы человеческой вместимости боги-покровители традиции в своем большинстве антропоморфны, воспроизводят идеализированную, но вполне соответствующую вместимости человека фигуру профессионала-новатора. В этом отношении они радикально отличаются от европейских представлений о всемогущем, всеведущем и вездесущем боге. Бог традиции профессионален. Он не способен на большее, чем соответствующий профессионал, не выходит за рамки профессионального мастерства и не отрывается от профессиональной эмпирии. Вся сфера социально необходимой деятельности достаточно строго распределена в имена богов-«покровителей». Если, скажем, речь идет о делах плотника, нужно обращаться к Афине, а если о делах кузнеца – к Гефесту и т.д.
Если переключиться с области специализации на область интеграции социального целого, то и здесь также семья оказывается и знаковым символом и земным носителем соответствующих связей.
В знаковом плане имена богов-покровителей интегрированы в семейство «небожителей», которое является прямой противоположностью земной семье профессионала в том отношении, что если земная семья принадлежит к профессии, то в семье небожителей все наличные профессии принадлежат членам этой семьи,
124
расписаны по «портфелям» власти и ответственности богов-покровителей тем же примерно способом, каким мы расписываем власть и ответственность по министерским портфелям. Боги-покровители объединены кровно-родственной связью, преимущество которой состоит, во-первых, в том, что такая связь – надежный информационный изолятор, интегрирует в целостность, но не допускает смешения текущих профессиональных тезаурусов, а во-вторых, в том, что кровно-родственная связь позволяет в какой-то мере восстановить историю и последовательность появления профессий, всегда дает возможность усыновить или удочерить новую профессию: актом простого указания на родителей нового бога-покровителя.
Земная семья как представитель профессии входит с семьями другой профессиональной принадлежности в устойчивый наследственный контакт обмена продуктами и услугами. Описывая один из вариантов такого контакта – систему «джаджмани» в Индии – Кудрявцев так показывает суть традиционного контакта: «Это система традиционных, строго регламентированных, передающихся от поколения к поколению материальных и трудовых взаимообязательств между имущественно и социально неравными кастовыми группами сельского населения, своеобразная система разделения труда внутри деревни, составляющая экономическую основу деревенской общины» (21, стр. 105). В более детализированном виде это выглядит так: «По обычаю джаджмани (джаджмани хак), каждая кастовая труппа в деревне связана определенными обязательствами со всеми или большинством других кастовых групп, а точнее, отдельная семья из данной группы наследственно связана с одной или несколькими семьями в других группах... Основными джаджманами, т.е. работодателями и главной обслуживаемой группой, являются земледельцы, а особенно землевладельцы. Обычно именно они составляют основную часть деревенского населения, являясь действительными или мнимыми потомками первопоселенцев деревни» (21, стр. 107-108).
Система джаджмани остается и сегодня действующей и функционирующей социальной структурой: «В современной деревне могут оказаться отдельные семьи или группы населения, вовсе не участвующие в отношениях джаджмани. Но это исключения из общего правила, заметные преимущественно в деревнях, расположенных вблизи больших городов и крупных промышленных предприятий. Основная же масса населения большинства деревень Хиндустана до недавнего времени все еще была связана отношениями джаджмани» (21, стр. 110).
В контакт межпрофессионального обмена втянуты практически все семьи, хотя принадлежность к касте и положение каст в иерархии статусов влияют на строение
125
контакта. В одной из обследованных деревень (исследований по индийской деревне очень много, Роджерс и Шумейкер (32) насчитывают их более 500, причем исследователи по примеру Вайзера дают объектам изучения кодовые названия) дело обстояло следующим образом: «Объем взаимообязательств по системе джаджмани в деревне Каримпур показывает, что 19 из 24 кастовых групп (исключая самую низшую касту бханга и 4 мусульманские группы) пользовались услугами всех кастовых групп деревни, а 17 групп предоставляли либо свои услуги, либо материальную компенсацию всем остальным, в результате получалось, что из 161 семьи в Каримпуре 80 семей взаимно обменивались услугами, а 81 – семья компенсировала услуги других натурой или деньгами по традиционно установившимся нормам» (21, стр. 113).
Профессиональные тексты, регулирующие формы и объем участия в межпрофессиональном контакте обмена, определены довольно строго: «В Каримпуре было восемь семей бархаи (плотников). Каждая семья бархаи обслуживала широкий, но определенный круг джаджманов из разных кастовых групп... Как правило, каждый бархаи обслуживает те семьи джаджманов, которые обслуживали его отец и дед... Плотники возводят всякого рода постройки или делают деревянные части к ним, изготовляют сельскохозяйственные орудия, телеги, деревянные части упряжи, домашнюю утварь, делают срубы для колодцев и многое другое... в эти обязанности входит регулярный ремонт, а иногда и изготовление новых сельскохозяйственных орудий джаджмана, ремонт повозок в обусловленных размерах, ремонт жилых и хозяйственных построек... Существуют и нормы обязательного обслуживания. Такой нормой, например, является хозяйство джаджмана с одним плутом и одной упряжкой быков. Джаджман, имеющий два плута и две упряжки, компенсирует услуги бархаи соответственно в двойном размере... Что касается общественных работ в деревне, как строительство и ремонт общественных построек, срубы для колодцев, деревянная оснастка этих колодцев и т.д., все это делают бархаи либо безвозмездно в порядке выполнения своих общедеревенских обязательств, либо в отдельных случаях за особую компенсацию» (21, стр. 116-117).
Та же картина и у гончаров: «Существенные функции в деревенской жизни выполняла другая группа каминов – кумхары (горшечники). В Каримпуре их было три семьи. Они, как и плотники, обеспечивали обоими изделиями в первую очередь своих джаджманов... Они изготовляли глиняную посуду разных размеров, форм и назначения: посуду для воды, молока, для хранения зерна, для приготовления пищи, разного вида кувшины, резервуары для хуки (курительная трубка типа кальяна) и многое другое. Специальная посуда в больших количествах изготовлялась для различных
126
обрядов и празднеств. Часто эта посуда после однократного употребления уничтожалась, и для следующей церемонии требовалась новая посуда» (21, стр. 117-118). И у гончаров своя норма обслуживания: «В данном случае норма состояла в том, чтобы три раза в год поставить по 18 узкогорлых сосудов и по шесть сосудов для приготовления пищи в семью каждого постоянного джаджмана. За поставки сверх нормы гончар получал, правда мизерную, но все же твердо установленную (например, 10 анн за сотню плошек) плату деньгами. Больше получал он за поставки гончарной посуды к тем или иным церемониям в домах джаджманов. Так, на обряде, по выдаче замуж дочери джаджмана гончар зарабатывал 3-4 рупии, а на свадьбе сына – 1-2 рупии» (21, стр. 127).
Характерной чертой межпрофессионального обмена является его натуральность, периодичность, независимость от реального объема работ: «Прежде всего следует иметь в виду, что камины получали в определенные сроки, чаще всего связанные с циклом сельскохозяйственных работ, основную массу компенсации по нормам, какие получали их отцы, деды и более удаленные предки. Но еще более важным для нас является то обстоятельство, что эти нормы и размер фактически получаемой каминами компенсации не зависели от объема выполненных ими у постоянного джаджмана работ в данном году, сезоне или в данном случае. Фактический объем работ мог быть значительно меньше традиционных обязательств каминов перед джаджманами, тем не менее камины имели право и получали полностью причитающуюся им компенсацию... Согласно обычаю, джаджман не мог по своему произволу уменьшить или увеличишь долю компенсации, как не мог он менять и сроки выплаты ее... В прежние времена постоянные джаджманы компенсировали традиционные услуги каминов главным образом, натурой. В Каримпуре и в 20-х годах нашего века значительная часть этой компенсации выдавалась именно натурой, в особенности это касалось тех расчетов, которые производились дважды в год, в периоды сбора весеннего и осеннего урожаев. Некоторые группы каминов получали причитающееся им зерно на поле необмолоченным, в снопах, другие получали чистым, даже провеянным зерном. Однако и в том и в другом случае количество и размер снопов или вес зерна были строго обусловлены» (21, стр. 124-125).
Но в этой практике выплат принцип эквивалента не выдерживался: «Размеры компенсации зависели не только от того, кому платят, но и от того, кто платит. Так, например, джаджманы из брахманов за те же услуги тех же групп каминов платили обычно меньше, чем джаджманы других групп. В этом сказалась привилегия высшей касты джаджманов перед другими. Так, каждый брахман выплачивал обслуживающему
127
его плотнику или кузнецу 10,5 фунтов зерна в каждый сезон с каждого своего плуга, тогда как джаджманы других категорий при равных условиях платили по 14 фунтов с плуга» (21, стр. 125).
Мы пошли на это довольно подробное изложение основ межпрофессионального контакта в варианте «джаджмани» потому, во-первых, что он достаточно хорошо изучен, и потому, во-вторых, что этот вариант вряд ли принципиально отличается от других вариантов социального кодирования по нормам традиционной культуры. Изменения и модификации, естественно, могут быть, но основные детали схемы: семья как воспитательный институт и конечный адрес распределения специализирующе-профессиональной и интегрирующе-социальной функций, контакт обмена на уровне взаимообязательств семей разной профессиональной принадлежности, относительно автономное с точки зрения текущих тезаурусов и функционирования механизмов социализации нового существования профессиональных текстов, боги-покровители как имена текстов и знаковые участники социализации нового – все это, видимо, универсальные для традиционного типа культуры реалии. Специфика частной их реализации на конкретном материале данного традиционного общества может, похоже, выявляться в деталях организационного оформления профессии, в иерархии статусов профессий и в мировоззренческой санкции этой иерархии, в распределении отдельных социально-значимых видов деятельности по профессиям. Но, следует заметить, что хотя другие варианты традиционного кодирования изучены много слабее, повсюду встречаются и описываются исследователями детали, которые без труда опознаются как части единого традиционного механизма кодирования.
Особенно это заметно в той области, которую мы пока прошли мимо и оставили на дополнительное рассмотрение – в области универсального текущего тезауруса общества и, соответственно, в области универсальной составляющей образования как одного из этапов социальной миграции индивидов.
Мы уже имели случай познакомиться с составом и ориентацией текущих универсальных тезаурусов нашей и первобытной культуры. У нас этот универсальный текущий тезаурус принял формализованный вид набора текстов, образующих обязательную программу всеобщего формального обучения в общеобразовательной школе. Наш тезаурус явно ориентирован на науку, ее технологические приложения, на операции скорее со знаками и формулами, чем с вещами или людьми, хотя в нем и присутствует, бесспорно, гуманитарная составляющая, которая устанавливает единое воззрение не только на мир, но и более или менее единый взгляд на место человека в этом мире, взгляд явно антропоцентрический, полагающий человека высшей
128
ценностью в мире. В первобытном обществе универсальный тезаурус, как мы видели, ориентирован на сумму практических навыков и умений, использование которых в различных сочетаниях позволяет создавать, специализированные программы-тексты индивидуализированного поведения в ситуациях коллективного действия.
В отличие от нашего или первобытного типа культуры традиция, похоже, не испытывает нужды в универсальных тезаурусах этого научно-прикладного или практически-поведенческого типа. И накопление и использование знания о реалиях окружения здесь специализированы, совершаются в информационно изолированных профессиональных областях, специализированные текущие тезаурусы которых, бесспорно, имеют ту же ориентацию, что и универсальные тезаурусы первобытных обществ. Профессия стоит практическими навыками и умениями, но навыками и умениями специализированными, которыми вовсе не обязательно, а с точки зрения традиции даже и вредно обладать носителям других профессиональных текстов, да это и в принципе невозможно без резкого сокращения объема нескольких профессиональных текстов до вместимости человека. История возникновения нашего, например, типа культуры показывает, что навязанный условиями существования универсализм (Одиссей, например, типичный универсал или вернее «мультипрофессионал») есть по сравнению с развитым традиционным профессионализмом падение стандартов мастерства, упадок и запустение, то есть движение вспять от того совокупного объема знания, который способно накопить и нести в смене поколений традиционное общество.
Но если традиционному обществу не нужен и даже определенно вреден универсальный тезаурус, ориентированный на практические навыки и умения, – такой тезаурус сократил бы общее число составляющих наличных профессиональных тезаурусов до вместимости человека с огромными потерями социализированного знания, то необходимость интеграции общества в целое, в установках и навыках, направленных к этой цели, все же остается. Межпрофессиональный обмен на уровне семей прочерчивает эту область общего интереса единых для общества универсальных норм и правил, так что здесь, видимо, искать те навыки и умения, на которые может быть ориентирован текущий универсальный тезаурус традиционного общества.
Все исследователи отмечают высокую степень ритуализации этикета, общения людей по поводу людей в традиционных обществах. Биарз, жалуясь на непривычную утонченность индонезийцев в вопросах этикета как на причину множества конфликтов с американцами, отмечает: «Речь индонезийцев, говорят ли они на своем родном языке или на английском, различна при обращении к уважаемым лицам – друзьям, гостям,
129
старшим по возрасту или положению. Форма речи соответствует степени уважения. Медленная речь, мягкая речь, утонченная речь, как и использование особых слов делают общение скорее искусством, чем простым обменом информацией» (37,р.35). Об этих же особенностях пишут и другие, причем, как правило, на уровне экзотических случаев вроде того, например, что японцам при подготовке летчиков, где требуется быстрая реакция, пришлось отказаться от японского языка с его обилием формул вежливости и перейти на английский как боле приспособленный к краткости и точности оперативного командного общения.
Но есть и более серьезные попытки анализа этой проблемы «языкового барьера», которые идут в рамках поиска причин «культурной несовместимости», стараются выяснить, насколько язык традиционного общества способен выражать точные понятия и отношения, нести теоретико-научное содержание. Серьезные сомнения на этот счет высказывает например, Раман, который полагает, что языки стран традиционной культуры не прошли европейской школы преемственного переосмысления античной и христианской традиции и не выработали поэтому средств освоения научного мировоззрения и научного способа выражения. Наука пришла в Индию как завершенный результат длительного развития: «Она вводилась в своей современной форме как полностью развитая система без корней и традиций. Ее различие от более ранних типов науки было столь радикальным, что не так-то просто было её понять и усвоить. Чужой язык еще белее затруднял этот процесс освоения. Соответственно она вызывала либо жалобы, либо враждебность как «английская выдумка», несовместимая с индийской традицией. Проблема освоения, таким образом, приняла форму скорее исключающего выбора, чем синтеза... Неудивительно, что на выбор оказывало влияние культурное наследство Индии. В отличие от европейского переосмысления греческой традиции, в Индии этот процесс усиливал религиозные, мистические и философские традиции в ущерб рациональным и научным» (28, р.225-226).
Значительную долю ответственности за эффекта несовместимости несет язык: «Тот факт, что наука в Индии преподается на английском, усиливает ее социальную изоляцию. Научная практика и научное знание не могут распространяться в народе и создать более широкую базу для науки. Значительное большинство народа получает образование на родном языке. А этот язык не поглощает современные научные идеи и научную терминологию, остается проводником средневековых идей, поэтому и народ остается средневековым с точки зрения мировоззрения и психологических установок» (23,р. 165).
Та же картина, по мнению Рамана, характерна и для других стран традиционной
130
культуры. В Кабульском университете, например: «Факультеты естественных наук связаны с Боннским университетом и преподавание здесь ведется на немецком языке, факультеты медицины и фармакологии с Марсельским университетом, преподают здесь на французском, инженерный и сельскохозяйственный факультеты связаны с двумя различными американскими университетами и преподавание ведется на английском языке» (28, р. 65).
Иными словами, наука в странах традиционной культуры хотя и осваивается, но не присваивается, остается внешним и инородным телом в социальной структуре. Хотя проблемы «культурной несовместимости» бесспорно остры и актуальны сегодня для стран традиционной культуры, попытки списать все на язык, мистику, реализованные в языке мировоззрения звучат не так уж убедительно, особенно когда речь идет об языках Индии, о типичных представителях индоевропейской группы, к которой принадлежат и все европейские языки. А в них никаких особых мистических установок или инкорпорированных мировоззрений пока не обнаруживалось. Нам кажется, что особенности языка как средства общения мало что объясняют. Гораздо больше может объяснить само общение, его предмет. И если, как это происходит в традиционном обществе, представители одной профессии общаются по одному поводу, а собранные в межпрофессиональном контакте представители разных профессий – совсем по другому поводу, то хотя все это совершается с помощью одного и того же языка-средства, составы общения будут различными.
На этом и будет, похоже, строиться различие между профессиональными текущими тезаурусами и универсальным текущим тезаурусом общества. Воспитанный в семье профессионала индивид в отношениях к коллегам по профессии будет, бесспорно, «частичным», обладающим лишь той долей знания и соответствующего мастерства, которая положена ему по действующей норме фрагментации массива накопленного обществом знания. Здесь индивид может выявить свои творческие силы как профессионал-новатор, внести, используя бога-покровителя, свой вклад в данный фрагмент знания и этим путем в общесоциальный массив знания. С другой стороны, тот же индивид, входя через межпрофессиональный контакт семей в интегрирующее отношение всеобщности, ассоциируя себя с обществом, оказывается в существенно ином положении. Здесь как будто бы творчество противопоказано: любые изменения структуры межпрофессионального контакта вряд ли обойдутся без конфликтных ситуаций. Если бы в природе все совершалось с предельные единообразием – годы бывали сплошь урожайными, сельскохозяйственный инвентарь и постройки строго следовали в своей амортизации срокам текущего и капитального ремонта, пожаров бы
131
не было, как, равно, и наводнений, дети рождались бы в нужные сроки и в нужном половом ассортименте, то межпрофессиональный контакт с его реалиями как область и предмет общения был бы попросту интериоризирован, не требовал бы постоянного корректирующего общения.
Но особо жесткого единообразия здесь не наблюдается, поводы для общения возникают, а сама типичность этих поводов, основанная на устойчивой номенклатуре втянутых в сферу обмена продуктов и форм услуг, норм их компенсации, неизбежно вызывает ритуализацию, выработку универсальных правил и форм общения. Плотник, например, выполняя нормы обязательного обслуживания семей джаджманов, имеет и дополнительную, также ритуализированную сферу факультативно-договорных отношений: «Все же остальное бархаи делает для того же джаджмана по особой договоренности и получает с него за это особое вознаграждение, хотя и по традиционно установившимся нормам» (21, стр. 117).
Внешне представляется, что универсальный тезаурус общества и специализированные тезаурусы профессий не только не образуют как у нас или в первобытном обществе предполагающей друг друга целостной последовательности этапов социальной миграции: универсальный – специализирующий, но и вообще в традиционном обществе не пересекаются, не оказывают влияния друг на друга. Но это первое впечатление явно ошибочно. Сама устойчивость номенклатуры реалий, образующих межпрофессиональный контакт обмена, оказывает сильнейшее формирующее и ограничивающее влияние на процессы изменений в профессиональных текстах и, в конечном счете, на составы профессиональных тезаурусов.
Тот же плотник, скажем, ассоциируя себя и свое семейство с обществом через устойчивый наследственный контакт с группой семей другой профессиональной принадлежности по поводу жилых и хозяйственных построек, колодцев, инвентаря, утвари, не может предложить этим семьям ничего необычного, выходящего за исторически сложившуюся номенклатуру услуг плотника. Любая его попытка прийти, например, к джаджману-земледельцу с изобретением типа комбайна или к цирюльнику-наи с водяным колесом встретила бы и непонимание, и удивление. Новинка была бы отвергнута за ненадобностью, за явным несоответствием универсальному тезаурусу общества. А системы таких ассоциирующих связей достаточно внушительны, чтобы предостеречь профессионала от подобных попыток. В Каримпуре, например, всего 161 семья, их обслуживает 8 семей бархаи-плотников, так что на долю семьи плотника приходится около 20 наследственных семейных контактов.
132
Там же 3 семьи гончаров, здесь на долю семьи приходится более 50 контактов.
Скованность по продукту, по формам и нормам предоставления услуг проектируется и на область профессионального творчества, выделяя в ней разрешенные и запрещенные направления новаторства, причем эти направления явно производим не от текущего тезауруса профессии, а от текущего универсального тезауруса общества. Плотнику, скажем, ничего не стоило бы объяснить своим коллегам по профессии с опорой на текущий тезаурус освоенных ими навыков и умений какую-нибудь диковину вроде дивана-кровати или письменного стола, удалось бы и представить эти новинки от имени бога-покровителя как самоочевидные вклады в массив профессионального знания, но если они отсутствуют в номенклатуре межпрофессионального обмена, такие новинки вряд ли будут социализированы, будут отвергнуты не по причине своей профессиональной несостоятельности, а по причине их явной бессмысленности с точки зрения универсального тезауруса общества.
Полная социализация нового, таким образом, проходит в традиционном обществе два селекционирующих фильтра – один на соответствие текущему профессиональному тезаурусу, другой на соответствие текущему универсальному тезаурусу. Это последнее обстоятельство, возможно, выступает основным источником эффектов «культурной несовместимости». Ввести в межпрофессиональный контакт что-либо сверх установленной номенклатуры значит либо серьезно его изменить, либо поломать и отменить, предоставив его участникам искать какие-то новые связи ассоциации с обществом.
Правда, с этими диковинами – изобретениями новаторов, которые проходят через фильтр текущего профессионального тезауруса, но спотыкаются на фильтре универсального тезауруса, приходится быть осторожным. С ними иногда случаются странные приключения всемирно-исторического значения, которые сегодня довольно часто приводятся в качестве свидетельств многовекового лидерства великих традиционных цивилизаций в мировом техническом прогрессе. Мы не говорим уже о колонне Чандрагупты в Дели, вокруг которой до сих пор спорят, почему она не ржавеет. Но вот если даже взять основной набор европейских заимствований из Китая – компас, порох, печатный станок, бумага, шпиндельный спуск механических часов, то большинству из них трудно было бы найти место в практике межпрофессионального обмена и, соответственно, в номенклатуре составляющих универсального тезауруса традиционного общества. Если более внимательно присмотреться к местам обнаружения таких изобретений, сыгравших огромную роль в истории нашего типа культуры, то большинство из них обнаружится не в функционирующей ткани
133
социальных отношений, а в различного рода «кунсткамерах» типа императорских садов и дворцов, на улицах во время празднеств и т.п. Так что некоторые изобретения новаторов, явно не удовлетворяющие требованиям универсального тезауруса общества, оказываются все-таки реализованными именно как диковины, чтобы затем, как это было с заимствованиями Европы из стран Востока, окончательно социализироваться на инокультурной почве.
Если теперь, после нескольких заходов на традиционный способ кодирования индивидов в специализированную деятельность, попытаться проследить основные пути социальной миграции, то, оставаясь в рамках системы джаджмани, мы обнаружим прежде всего резкое расхождение мужской и женской линий. Трудно сказать, насколько это типично для традиции вообще, но по нормам джаджмани деревни-общины патрилокальны и экзогамны, то есть деревня как социальная единица с разветвленной сетью межпрофессиональных связей (иногда эти связи могут включать и семьи в других деревнях) удерживается в месте своей территориальной локации поколениями мужчин, прежде всего земледельцев, привязанных к пашням, тогда как все женское население деревни, начиная с определенных возрастных групп, – пришлое, появляется в деревне с запасом освоенных в родной семье навыков и умений по ведению домашнего хозяйства и частично по воспитанию: матери воспитывают только дочерей, а воспитание сыновей – дело мужчин.
Женская линия социальной миграции выглядит довольно просто: первоначальное воспитание в семье родителей, вернее на женской половине дома, затем девушек иногда в весьма раннем возрасте выдают замуж в другую деревню, куда она отправляется практически в вечное изгнание: родственные связи по женской линии не только не поощряются, но в большинстве каст и определенно запрещаются. Хотя межкастовые браки не так уж часты и в ряде каст труд женщин специализирован по профессии мужа (в касте наи-цирюльников, например), такая практика обмена женщинами в каждой деревне создает ситуацию смешения и обогащения навыков женского труда, так что стандарты и нормы домашнего обслуживания поддерживаются на достаточно высоком уровне. Замужество, собственно, завершает линию женской миграции, ассоциирует женщину с обществом через семью профессионала, в которой она остается до конца жизни. Становясь бабушкой, женщина получает право участия в обсуждении семейных дел и в воспитании внуков. Есть, конечно, как и во всяком обществе, правила и обычаи, регулирующие случаи бесплодия и другие отклонения от нормы, но они в общем-то не делают погоды.
Мужской путь социальной миграции имеет, как и в первобытном обществе,
134
основную и побочную линии. По основной линии подрастающий сын в длительном контакте со старшими мужчинами осваивает текущий тезаурус профессии и ту систему межпрофессионального контакта, которую ему предстоит унаследовать. Где-то на этом периоде, обычно в весьма юном возрасте, он женится по совету и выбору старших. Инициатив в этом деле не допускается ни с той, ни с другой стороны, а если они все-таки возникают, последствия могут оказаться самыми плачевными вплоть до высшего наказания – исключения из касты, а по сути дела из социальности.
В семьях, живущих по правилам джаджмани, нет обычая раздела, смены семейного авторитета. Авторитет наследуется старшим по возрасту. Что же касается раздела, то он в принципе возможен, хотя и предельно осложнен, поскольку требует перестройки не только собственно семейных связей с другими семьями, но и связей этих других с данной семьей. Приобщение подрастающего сына к тезаурусу профессии и ввод в деятельность старших совершается постепенно, так что здесь, на основной линии социальной миграции, срывов, диссоциирующих периодов, требующих выбора и принятия решений, как будто бы не наблюдается.
Появление побочной мужской линии вызывается тем обстоятельством, что семья как участник длительного наследственного межпрофессионального контакта обмена, поскольку она несет определенный по объему деятельности груз обязательств перед другими семьями, вынуждена создавать и воспроизводить избыточность потенциальных субъектов деятельности для обеспечения преемственности этой суммы обязательств, которая может быть нарушена не только старостью, но и болезнями и массой других случайностей. Поскольку, однако, постоянной остается не только сумма семейных обязательств, но и совокупный объем компенсаций, средств к жизни, значения избыточности не могут превышать некоторых естественных пределов потребления на члена семьи. В решении этого противоречия между необходимостью сохранять преемственность деятельности, но не выходить за пределы четко определенной суммы средств к жизни, традиция использует ряд средств, хорошо известных и нашему типу культуры, поскольку они, похоже, как и священное писание христианства традиционны по источнику и стали нормой европейской жизни в результате нивелирующего влияния церкви.
Это, во-первых, принцип первородства, по которому дело отца, его обязательства и все остальное наследуется старшим сыном, а если он по какой-либо причине выбывает из игры, то старшим по возрасту сыном. Это, во-вторых, развитая система использования внутренних ресурсов для поглощения избыточности. В системе джаджмани устройством избыточных сыновей заняты в первую очередь касты.
135
Поскольку процессы деторождения слабо поддаются управлению и контролю, в семьях касты наряду с избыточностью бывает и недостаточность, которая компенсируется сыновьями избыточных семей в различных формах, от полного усыновления до ученичества. Ученичество может быть связано и с переходом в другую касту, близкую по статусу к касте родной семьи. Наконец, избыточность может поглощаться и различными социальными институтами, ориентированными на использование «лишних людей».
В Китае, например, использование «лишних людей» было организовано в государственных масштабах. Их силами возводились и поддерживались в исправности ирригационные сооружения, они строили Китайскую стену, да и вообще их использовали как организованную неквалифицированную рабочую силу на многих трудоемких работах. Такого же типа институты существовали и в других традиционных государствах, являясь составной частью великих восточных цивилизаций.
В некоторых странах, прежде всего в Китае, для «лишних людей» в государственной структуре существовали особые ненаследственные профессии с достаточно высоким социальным статусом. В Китае это государственные служащие всех рангов и положений, которые комплектовались выходцами из разных профессий через систему мандарината – конкурсных экзаменов на занятие государственных должностей.
В институтах типа мандарината, селекционирующих людей по той или иной способности (в Китае по административным способностям), человечество впервые, похоже, вырабатывало и отрабатывало те механизмы и процедуры формального обучения, которые нам так хорошо известны по собственному типу культуры.
Но «лишние люди» – особая проблема, без анализа которой, по нашему глубокому убеждению, вообще ничего нельзя понять в человеческой истории. Этой проблемой мы займемся позже, после описания типов культуры и соответствующих им форм расселения.
Попробуем подвести некоторые итоги по традиционному типу культуры. Здесь переход социальной миграции в территориальную выглядит значительно менее очевидным прежде всего потому, что «текущая природа» традиционной культуры намертво привязана к территории, есть прежде всего пашня, пахотная земля, которую не сдвинешь с места. Но территориальная миграция есть и здесь. В системе джаджмани, например, все женские пути социальной миграции перебиваются в акте замужества миграцией территориальной. Мигрируют и «лишние люди», причем виды такой миграции могут быть самыми различными от перехода в соседнюю семью той же
136
касты до скитаний по местам государственных строек и даже до за океанских миграций по контракту с американскими, скажем, предпринимателями.
Современное положение в «развивающихся» странах традиционного очага культуры нельзя считать установившимся, культурные революции идут здесь с огромными трудностями, которые далеко не всегда так хорошо известны и документированы, как, скажем, события китайской культурной революции. Но иногда все-таки в печать проскальзывают сообщения, говорящие об остроте происходящих событий. Андерсон (40), например, приводит такой факт: в 1969 г. в Калькутте на 40 вакантных мест, требующих высшего образования как условия их замещения, было подано 28244 заявления. Такую фантастическую безработицу в среде интеллектуалов (более 700 человек на место) можно объяснить только одним: интеллектуалам пока нечего делать в традиционной социальности, она их не приемлет, выбрасывает как бесполезный шлак в засоциальную область, делает их «лишними людьми», очевидными кандидатами на территориальную миграцию в поисках социализации.
Универсально-именной (европейский) тип культуры наш родной знакомый с детства тип культуры представляется настолько уж обжитым, что и описывать его как-то вроде бы нет нужды. К тому же, в первой части, пытаясь понять закономерности и причины неравномерного расселения, мы совершили несколько заходов на описание состава социальной миграции в нашем обществе и локализации мест, куда приходится мигрировать индивидам в активном или пассивном поиске завершающей ассоциации с обществом или полной социализации. Нельзя сказать, чтобы эти заходы были строгими или удовлетворяли требованиям дидактики. В силу специфики проблемы, которая не является пока предметом сложившейся дисциплины, наши заходы приняли форму зондажа с плацдармов различных дисциплин, использующих различные понятийные и концептуальные аппараты. Осведомленные об ограничениях человеческой размерности и о закономерной тяге растущих дисциплинарных текстов к концептуальному и информационному сепаратизму, мы не предпринимали попыток прямых междисциплинарных переводов, считая их неправомерными, а постарались выйти в парадигматику, где и обнаружили более или менее явную сходимость дисциплинарных парадигм к человеческому варианту специализирующего кодирования индивидов в деятельность, фрагментированную по нормам человеческой размерности, причем это кодирование совершается с помощью знака, а не гена, совершается на основе гибкого использования текста и имени как двух универсальных знаковых реалий.
Теперь, несколько освоившись в наших путешествиях в первобытную и
137
традиционную культуру с непривычной терминологией, мы можем значительно редуцировать описание европейского типа культуры как одного из вариантов решения общечеловеческой задачи знакового специализирующего кодирования в деятельность.
На фоне первобытной и особенно традиционной культуры наша культура выглядит значительно менее упорядоченной и интегрированной, приведенной к целостности до интегрирующего вмешательства самого индивида, который прокладывает свои пути социальной миграции и попутно связывает в целое социальность, существующую для него в диссоциации как некоторый набор возможностей дальнейшего движения с разной вероятностью реализации. С точки зрения первобытной или традиционной культуры такое положение типично для «лишних людей», которые по тем или иным причинам лишаются конечного адреса социализации-ассоциации с обществом и вынуждены искать свой особый путь в социальность. В этом смысле нашу культуру можно назвать культурой «лишних людей», где никто – ни родители, ни дети – не знает, а что именно получится из человека, который находится в данный момент на универсальной или даже на специализирующей стадии социальной миграции.
Научно-техническая революция, ускоряя моральное старение специализирующих текстов-профессий, только подчеркивает эту особенность нашей культуры. Даже единожды социализировавшись, пройдя путь социальной миграции, индивид нашего типа культуры остается в неведении насчет того, что с ним будет завтра. Олден, эксперт по кадрам объединенного совета американских инженеров, так описывает собственные мытарства на путях социальной миграции: «По вопросу о переподготовке мне хотелось бы выступить в какой-то степени в защиту тех, кто не слишком на нее полагается. Думаю, что многие из нас пытались держаться на уровне событий, подучивать себя, стараться саморазвиваться, но нам всегда приходится только гадать, куда, в какую сторону следует сегодня развиваться. Еще раз сошлюсь на собственный опыт. Когда я служил на флоте, я все время самосовершенствовался. Изучал многие курсы о вещах вроде эффективности ядерного оружия или техники кораблестроения. Но потом флот решил, что он не нуждается во мне как адмирале. Тогда я взялся за курс коммерческого права, нажал на экономику в порядке собственной переподготовки к гражданской жизни. Затем меня наняли как «эксперта по кадрам», так что ничего этого мне не потребовалось. Думаю, что многие инженеры сегодня удерживаются на уровне событий в области их специализации, но что в этом толку, если исчезает сама эта область» (20,р.126).
Такое «исчезновение областей», вчера еще казавшихся солидными и
138
устойчивыми, и появление новых областей, которых вчера еще не было на карте социальной миграции, сообща порождают эффект постоянной интеграции-становления социального целого, который конечно же глубоко диалектичен, может и должен рассматриваться в категориях материалистической диалектики в плане марксистской концепции материалистического понимания истории как противоречивого единства наследования созданной предшественниками «суммы обстоятельств» и практики революционного преобразования этих обстоятельств. Следует только отметить, и подчеркнуть, что если такая диалектика исторического развития в первобытном и традиционном типах культуры, а также и на ранних этапах развития нашего типа культуры была скорее имплицитной, нежели эксплицитной – в ней явно преобладали инерционные процессы преемственности обстоятельств над революционными процессами изменения обстоятельств, то современный момент развития нашего типа культуры явно сместил акценты на процессы революционного изменения обстоятельств, что делает эти процессы эксплицитными, массовыми, доступными наблюдению и изучению методами точной науки.
Наш тип культуры использует тот же набор знаковых реалий, что и другие типы, то есть прежде всего текст конечной длины, в котором фиксируется текущее знание в той или иной форме, и связанное с текстом имя, которое, служит, с одной стороны, гарантией того, что текст остается в пределах человеческой вместимости, а с другой стороны, придает текущему тексту в любых его изменениях и модификациях черты преемственного существования во времени – изменения и модификации «одного и того же». Широкое распространение письменности в форме универсальной грамотности, а не в форме профессионального навыка писца, хорошо известной и традиции, как и развитие книгопечатания, создали в нашем типе культуры ситуацию неограниченного накопления числа текстов с неограниченным их тиражированием и, соответственно, ситуацию неограниченного роста социальной памяти, который не сдерживается уже ментальными ограничениями по вместимости: никто сегодня и физически не в состоянии прочитать не только накопленные тексты, но и те, которые публикуются, даже и те, которые публикуются по довольно узким специальностям. При всем том тексты остаются текстами и в нашем типе культуры -любой конкретный текст, если это не сумма сведенных воедино типографией различных текстов типа энциклопедии или справочника, выдержан в нормах человеческой размерности, заведомо «вместим» для человека, если он пожелает его вместить и предпримет соответствующие усилия для подготовки к осмысленному чтению и освоению этого текста.
Идет ли речь о «Метафизике» Аристотеля или об описании правил пользования
139
магнитофоном, или о статье в последнем выпуске журнала, любой текст нашей культуры, как и в любой другой культуре, отмечен вполне определенным текущим тезаурусом, на который текст опирается к без учета которого его понимание становится невозможным. К примеру, понятная сегодня каждому грамотному человеку фраза из описания магнитофона: «Запись звуковой программы можно производить от микрофона, радиоприемника или электропроигрывателя» была бы совершенно бессмысленной в начале нашего века даже для самых грамотных людей – в их текущем тезаурусе не было реалий, позволяющих понять, что все это могло бы значить. Тезаурус всегда в тени, всегда подразумевается, но он постоянный спутник текста и постоянное условие осмысленности, доступности для понимания любого текста.
Эти «теневые» свойства тезауруса – причина множества затруднений и недоразумений, связанных с интерпретацией текстов, особенно текстов прошлого. Сознание с готовностью подменяет текущий тезаурус текста и его автора текущим тезаурусом читателя, что ведет с типичным эффектам ретроспективы, в частности и к тому, что Мертон называет догадничеством: «Догадничество состоит в преданном и преднамеренном поиске различного рода ранних версий наличных научных идей. В экстремальных случаях догадка слабейшую тень сходства между ранними и более поздними идеями описывает как полную идентичность» (11,р.20-21). Но догадничество, при всей его распространенности, лишь крайнее выражение вполне определенных трудностей понимания текстов с иными по времени или, того хуже, по типу культуры отметками текущего тезауруса, и некоторым из этих трудностей и к их функциональному смыслу мы еще вернемся. Пока же просто отметим, что в нашей культуре, как и в любой иной, каждый текст предполагает присутствие текущего тезауруса. Обычно текущий тезаурус текста и текущий тезаурус его автора совпадают, что позволяет по датам жизни автора через контекст эпохи восстановить текущий тезаурус текста. Но иногда это оказывается очень сложным делом.
Вторая универсальная реалия знакового кодирования – имя – также постоянно присутствует в нашем типе культуры, хотя и имеет некоторые специфические отличия в сравнении с именами первобытной и традиционной культуры. Назначение имен как средств кодирования в любом типе культуры одно и то же: выделить индивида, отметив его знаком-именем, с тем чтобы связать с этим именем специализирующий текст. Но полное тождество между именем текста и именем индивида достигается только в первобытном обществе, да и то лишь на этапе специализации во взрослые имена. Уже в традиционном обществе имя текста (бог-покровитель) четко отделено от имен носителей-профессионалов.
140
В нашем типе культуры между личным именем человека, которое он получает при рождении, и именем текста устанавливаются более или менее длительные связи сопричастия, частичного отождествления. Харламов, скажем, для нас хоккеист, Картер – президент, Иванов – дежурный, по классу. Но ни хоккеист, ни президент, ни дежурный не исчерпывают соответствующих личных имен, входят в них как частные составляющие, с помощью которых Харламов, Картер, Иванов приобщаются к определенным текстам, к закодированным в них видам деятельности. Со временем связи эти могут оборваться, а на их месте могут появиться новые. Процесс такого приобщения через личное имя к именам текстов, временной или устойчивой ассоциации личного имени с текстами и маркирует в нашем обществе путь индивида в потоке социальной миграции. Об этом пути мы уже не можем сказать, как о путях миграции в первобытном или традиционном обществе, основной он или побочный, производный от необходимости поддерживать избыточность. В «нашем типе культуры каждый» в меру сил, способностей и возможностей «делает» свое имя. В этом многообразии личных путей социальной миграции есть, как мы видели, общие моменты, которые описываются формулой: от универсализма через специализацию к социализации-ассоциации, но большего сказать об этих путях невозможно – они индивидуальны.
Эти индивидуальные пути движения в потоке социальной миграции имеют и территориальную составляющую, поскольку деятельность по тем текстам, с которыми в данный момент ассоциировано имя индивида, распределена по территории и локализована в определенных местах. Харламову, раз уж он хоккеист высокого класса, место в Москве, в команде ЦСК, или, на худой конец в 3-4 городах, имеющих хоккейные команды сравнимого класса. Картеру – место в Белом доме, пока он президент США. Иванову на время дежурства место в школе, то есть ивановых-дежурных можно обнаружить в любом городе и населенном пункте, где есть школа. В общем же, как уже говорилось в начале, культура наша оседлая, значительная часть специализирующих видов деятельности, даже если эти виды не связаны непосредственно с природным распределением ресурсов по территории, имеют тенденцию концентрироваться в наличных скоплениях населения повышенной плотности и повышенного стандарта благоустройства по нормам человеческой размерности. Эта тенденция увлекает за собой и профессии, не имеющие ярко выраженного локального распределения. Комиссии по распределению выпускников вузов и университетов хорошо знакомы с трудностями обеспечения «периферии» кадрами общего распределения типа учитель, врач, даже агроном – всегда находятся
141
веские причины семейного и иного порядка, удерживающие выпускника в городе, где он учился, а иногда и требующие обязательного его присутствия в городе с большим населением и с более высоким статусам в наличной иерархии населенных пунктов.
Центростремительность территориальной миграции, складывающаяся из сотен тысяч и миллионов индивидуальных путей в общем потоке социальной миграции, в какой-то степени характерна не только для нашего, но и для традиционного типа культуры. Но в традиционных обществах эта центростремительность захватывает в основном только «лишних людей» или же тех, кто по тем или иным причинам теряет ассоциирующие связи с межпрофессиональным контактом обмена и переходит в диссоциированное состояние. Мы видели, например, что наи-цирюльники, потерявшие в результате конфликта по поводу компенсации за брачные обряды часть своей клиентуры, отправляются в Дели, чтобы стать парикмахером или учителем. Тот же переход от патрилокальности, удерживающий традиционного индивида в родной деревне, к центростремительности, толкающей его в крупные города, наблюдается и в случаях, когда касты теряют основную профессию и вынуждены либо менять профессиональную ориентацию, либо искать какие-то новые пути ассоциации с обществом, которые ведут обычно в большие города. Так было, например, с кастами ткачей в Индии после наплыва дешевых английских тканей. Особенность нашего типа культуры здесь в том, что у нас нет живого противоречия локальность-центростремительность, хотя предлагалось и предлагается множество мер по удержанию молодежи в деревне, нет и соответствующих полярных ориентации на деревню или город. Центростремительность территориальной миграции охватывает практически все профессии.
Обсуждая первобытный и традиционный типы культуры, мы обратили внимание на различие действующих здесь тезаурусов по составу и форме представленного в них знания. В первобытной культуре текущий универсальный тезаурус общества, на который опираются и существование которого предполагают специализирующие тексты взрослых имен, образован из практических навыков и умений, которые подлежат усвоению и освоению на универсальном этапе социальной миграции, чтобы сделать возможным специализирующее кодирование во взрослые имена.
Того же типа тезаурусы имеет и традиция, но их назначение и локация совершенно иные. Тезаурусами типа суммы подлежащих освоению практических навыков и умений обладают профессии, каждая своим. Таких тезаурусов в обществе столько же, сколько и профессий, то есть они специализированы, расположены на уровне семей данной профессии как сумма текущих программ и стандартов
142
профессиональной деятельности. Поскольку общество обладает множеством текущих тезаурусов профессий, а каждый из них нацелен на возможно более полное использование вместимости человека, сумма знания, заключенного в этом множестве текущих тезаурусов, заведомо и намного превышает вместимость индивида. Поэтому, с одной стороны, число профессий данного традиционного общества может рассматриваться как показатель его развитости, как показатель совокупного объема знания, который общество способно хранить и передавать в смене поколений, а с другой стороны, невозможность редуцировать этот совокупный объем знания до вместимости человека исключает и возможность появления на правах рабочей знаковой реалии текущего универсального тезауруса этого типа: не может индивид освоить и использовать в деятельности навыки и умения всех профессий.
Но текущий универсальный тезаурус традиционное общество все же имеет, правда это тезаурус совсем иного рода: в него входят реалии и отношения межпрофессионального контакта, на основе которых возможно существование и появление новых текстов регулирующих или корректирующих отношения между людьми и семьями – участниками этого контакта. В таком тезаурусе нет практических навыков и умений, если под «практическим» понимается нечто причастное к отношениям людей по неводу вещей, но в нем представлены этические навыки и умения, если под «этическим» понимать нечто, причастное к отношениям людей по поводу людей. Эта этическая природа универсального текущего тезауруса традиционного общества и создает те эффекты «китайских церемоний» – повышенное внимание к этикету и к формулам вежливости, которые, как мы видели, удивляют и озадачивают индивидов, воспитанных в нормах общения нашего типа культуры.
Если обозначить тезаурус, ориентированный на практические навыки и умения, на отношения людей по поводу вещей, как «тезаурус I», а тезаурус, ориентированный на этические навыки и умения, на отношения людей по поводу людей, как «тезаурус II», то формула: тезаурус I + тезаурус II, окажется для нашего типа культуры недостаточной, во всяком случае недостаточной для современного этапа ее развития. Кроме практического тезауруса I и этического тезауруса II в нашем типе культуры присутствуют как оформленные знаковые реалии тезаурусы других ориентации и прежде всего дисциплинарные тезаурусы естественных наук, назовем их тип «тезаурус III», которые играют настолько значительную роль в жизни нашей культуры, что справедливо признаются и показателями «развитости» и символами принадлежности к европейскому типу культуры.
В отличие от тезауруса I и тезауруса II, они также широко представлены в нашей
143
культуре, тезаурус III не содержит в явном виде ни отношений людей по поводу вещей, ни отношений людей по поводу людей – эти отношения элиминированы процедурами научного познания, – а содержит лишь предельно обезличенные объективные отношения вещей по поводу вещей как модели и схемы автоматической, без вмешательства разума и субъекта «самодеятельности» природы в изоляции от человека и его вмешательства.
В своих дисциплинарных свойствах тезаурус III содержит все наличные результаты дисциплинарных исследований, все накопленное дисциплиной знание как сумму диссоциированных составляющих, не имеющих отметок пространства и времени, дат появления на свет в результате познавательных усилий вполне определенного ученого, получившего этот элемент-результат во вполне определенном месте во вполне определенное время. Составляющие тезауруса III не входят друг с другом в связи, как и в любом тезаурусе. Эти связи если и появляются, превращая тезаурус в текст, в связное историческое целое, то делается это по ходу создания новых текстов учеными, объясняющих коллегам в терминах текущего тезауруса суть их вклада, суть еще одной составляющей тезауруса III, которая, появившись в массиве публикаций дисциплины, сама может стать одной из опор будущих текстов о новом, объясненном в терминах наличного, текущего.
Поскольку процесс накопления нового знания, роста дисциплинарного массива публикаций, а, следовательно, и роста числа составляющих тезауруса III не имеет ограничений по вместимости (хотя каждая публикация, естественно, и каждый вклад не выходят за пределы вместимости уже потому, что это публикации, вклады людей и для людей), он заведомо остается за пределами целостного восприятия, за пределами вместимости человека, тезаурус новых дисциплинарных текстов очевидно не может совпадать с тезаурусом дисциплины: автор статьи или монографии в своем поиске и выборе опор для объяснения, в ссылках на уже опубликованное способен вовлечь в объяснение лишь малую часть составляющих тезауруса. Может быть этим объясняется неравномерность распределения цитируемости по массиву дисциплинарных публикаций. На эту неравномерность определенно влияет и действующая практика теоретической и исторической редукции дисциплинарного знания до вместимости студента, заданной сроками обучения, учебными планами, объемом курса, расписанием. В любой форме редукция явно связана с потерей значительного числа составляющих текущего тезауруса дисциплины: для студента текущим тезаурусом будет лишь та часть тезауруса дисциплины, которая представлена в курсе. Не углубляясь в детали соотношения тезауруса III и вместимости человека, можно только
144
отметить, что, видимо, имеет смысл различать полный тезаурус III и рабочий тезаурус III, каким он присутствует в академической практике кодирования студента в дисциплинарную деятельность, в учебниках и в курсах лекций.
Это различие между полным и рабочим текущими тезаурусами дисциплины существенно не только потому, что никто, собственно, не мешает автору выйти в поисках опор для текста за пределы рабочего тезауруса, но и потому, что именно в полной, явно превышающей вместимость человека форме тезаурус III данной дисциплины вместе с тезаурусами III других дисциплин образует совокупный тезаурус наличного научного знания для приложения, назовем его тезаурус IV.
В технологических приложениях научного знания тезаурус IV при всей своей необъятности и постоянном росте функционирует в том же примерно режиме, в каком универсальный тезаурус первобытного общества функционирует по отношению к текстам взрослых имен, то есть тезаурус IV вводит «текущую природу», в какой она представлена в его наличных составляющих, в мир человеческой деятельности на правах соучастницы этой деятельности, обладающей таким-то и таким-то набором освоенных навыков и умений, что гарантируется составами текущих тезаурусов III естественно-научных дисциплин. Входящие в состав тезауруса IV диссоциированные составляющие независимо от их возраста и дисциплинарной принадлежности способны входить в ассоциированные комбинации-смеси самого различного целевого назначения, где в единой рабочей упряжке могут оказаться представители всех дисциплин и всех возрастов, любая современная технология или любая машина есть удачный или не очень удачный результат деятельности по объединению этих диссоциированных разнородных элементов в целостности, можно только гадать, насколько полно используется тезаурус IV, а с ним и возможности «текущей природы» для приложения и каковы его реальные возможности. Ясно здесь только одно: возможности тезауруса IV увеличиваются по мере его роста за счет включения новых составляющих из тезаурусов III различных дисциплин. Что же до полноты использования этого очевидно неподъемного для отдельного индивида массива знания, то она, возможно, в какой-то степени производна от массовости попыток найти в составе тезауруса IV элементы для решения технических проблем и тем самым подключить «текущую природу» в решение человеческих задач. Эта зависимость от массовости, если верить эмпирически наблюдаемому ранговому распределению поисков, не очень обнадеживающая: стандарт решения технической проблемы пропорционален корню квадратному из числа участников поиска, лаг решения -обратно пропорционален корню четвертой степени из числа участников.
145
Если присмотреться повнимательнее к функционированию тезаурусов III и тезауруса IV, то нетрудно будет заметить, что в нашем типе культуры социальная миграция индивидов скорректирована и в значительной степени осложнена социальной миграцией знания, вернее социальной миграцией диссоциированных элементов научного знания, фиксирующих отношения вещей по поводу вещей, модели их взаимодействия, их поведения в условиях изоляции от возмущающего влияния человека. Достичь полной изоляции, естественно, не удается, и на некоторых уровнях наблюдения возникают ощутимые искажающие эффекты дополнительности – взаимодействия изучаемых объектов с техникой наблюдения, экспериментальным окружением, с самим исследователем. Но мера изоляции научного знания об отношениях вещей по поводу вещей, каким оно попадает через поток публикаций в дисциплинарные массивы знания, увеличивает число составляющих тезаурусов III и тезауруса IV, определяется в конечном счете не теоретическими соображениями о чистоте и объективности того или иного элемента знания, а практической надежностью работы этого элемента в системе технологических приложений. Если данный элемент, объединяясь с другими элементами той же объективной природы, надежно и с достаточной степенью ожидаемой точности ведет себя в актах запланированного действия, то теоретические претензии к нему теряют силу убедительности для практики, для его технологических приложений.
В определении степени чистоты и изоляции от возмущающих влияний человека область технологических приложений науки ведет себя подобно станкам в задачах Крылова о приближенных вычислениях. Если «текущие» станки обрабатывают детали с точностью до 3-го знака, а «текущие» математики их рассчитывают с точностью до 10-го знака, то эта запредельная математическая точность – пустое времяпровождение и пустая трата интеллектуальных сил до тех пор, пока точность обработки не будет повышена, если это вызывается необходимостью, до точности расчетов. Точно так же обстоит дело и с чистотой элементов научного знания: сколько их ни «фальсифицируй» теоретически, сколько ни указывай им границ применимости и истинности, использовать их или нет – решать будет практика с ее требованиями к чистоте, истинности, применимости.
В отличие от социальной миграции индивидов, которая совершается усилиями самих индивидов, социальная миграция элементов научного знания на всех ее этапах требует приложения человеческих сил, не может совершаться без участия человека и, соответственно, не может не нести на себе печати человеческой размерности. Прослеживая, как мы это делали с индивидами, путь элементов научного знания с
146
момента их появления к социализации-ассоциации, мы обнаруживаем и определенные черты сходства и существенные различия.
Элемент научного знания, как и индивид, совершает движение по социальному времени. Не самодвижение, естественно, «самость» у знаков отсутствует, а движется, смещается, перемещается под воздействием человека. В этом движении по времени элемент, как и индивид, проходит ряд стадий ассоциации и диссоциации.
Если принять за начало социальной миграции элементов их исходное «непознанное» состояние ассоциации с массой непознанных и познанных других элементов, образующих природу, человеческое окружение, то первым актом, начинающим движение элемента по путям социальной миграции, является удачная попытка ученого вырвать этот элемент из природных связей ассоциации, диссоциировать и изолировать его, представить его в «логике понятий», то есть совершить над этим уловленным в научную снасть элементом первичную знаковую операцию: дать ему имя, диссоциирующее его и выделяющее его из всех поименованных уже элементов, и связать с этим именем текст, описывающий его поведение в типизированных или, как чаще говорят, в контролируемых ситуациях взаимодействия с другими элементами, познанными уже и измеренными в соответствующих шкалах, текст должен пройти многократную проверку на соответствие поведения элемента в описанных ситуациях – экспериментальную верификацию, мера этой многократности, достаточной для проверки, никем не установлена и не оговорена. Ученый может счесть достаточной и одну проверку в полной уверенности, что и вторая, и десятая, и сотая дадут тот же результат: многократность мыслится как бесконечность фиксированного текстом поведения в повторах. Оно и действительно так: единожды попавшись в расставленные ученым сети, получив имя и текст, признавшись в эксперименте, что он есть он, а не кто иной, элемент теряет всякую волю к сопротивлению, готов безропотно воспроизводить свое неведение в любых целях по первому требованию любого: демонстрировать свои свойства ученикам или студентам, безотказно тянуть лямку соучастия в технологической команде и т.д.
По традиции мы называем этот первичный акт изъятия элемента из природы и его первичной знаковой обработки открытием. Но это название, почти во всех языках оно производно от откровения, в общем-то типичная «улыбка Чеширского кота». «Открывать», «читать книгу природы» было более или менее понятно в XVI – XVII вв., когда все здравомыслящие люди, в том числе и ученые, были с детства убеждены в том, что природа сотворена богом по слову, что элементы, их имена и тексты изначально заложены в природу актом ее творения, что разум человека – суть слово
147
божие, поэтому природа и познаваема, но в XX в., когда от этой теологической парадигматики ничего не осталось, «понять» открытие стало много сложнее.
Популярное сегодня представление о поиске элементов как об опознавании разрезанных частей картинки («паззл-солвинг») вряд ли способно что-либо прибавить к старой схеме, пока открытым остается вопрос о том, откуда, собственно, берутся эти картинки. Но, как и во многих других случаях, улыбки Чеширского кота никого не смущают. Школьнику и студенту прочно вбивают в «подкорку» идею того, что ученые всегда умножали и умножают знание, что познание бесконечно, что если открытия совершались в прошлом, то почему бы им не совершаться и в будущем. На этом уподоблении будущего прошлому и покоится, собственно, наша глубокая уверенность в том, что открытия возможны, что «мир открытий» неисчерпаем, что сколько бы мы ни отлавливали непознанных элементов природы, ни переводили их в познанное состояние, в запасниках природы всегда останется уйма такого, о чем нам и не снится.
Прайс под давлением многотомных исследований Нидама о китайской науке попробовал было задуматься над тем, а что же все-таки такое открытие, и пришел к довольно неожиданному выводу: «Нет никакого сомнения в том, что китайская наука и технология была столь же изобретательна, столь же хороша и столь же плоха, как и наука и технология античности или средневековой Европы. Теперь нам предстоит подняться на следующую ступень удивления, чтобы уяснить, что история действует не совсем так, как если бы был только один истинный естественный мир открытий, причем мир, обладающий почти неизменным порядком. Мы видели выше, что история дважды выстраивала подобные миры. Ив этого удивительного обстоятельства следует, что ни эти миры сами по себе, ни порядок открытий в них не будут одними и теми же» (39,р.17-18).
С нашей точки зрения идея множественности «миров открытий» совершенно не вяжется с эмпирически наблюдаемым в любых видах человеческой и животной деятельности универсализмом и униформизмом природного определения, предъявляющего одни и те же требования ко всему живому. Будь природ много, элементы «текущей природы», изъятые в процессе научного познания из одного «мира открытий», не могли бы иметь силы для другого «мира открытий», то есть природ оказалось бы как минимум две: одна – выстроенная историей в Европе, другая – в Китае. Но и в Европе и в Китае все происходит одинаковым образом: деревья растут корнями вниз, реки впадают в море, китайские изобретения исправно работают в Европе, европейские – в Китае, так что следов этой природной двойственности как-то не обнаруживается. Идея множественности «миров открытий», на наш взгляд, резуль-
148
тат неясности в определении знания, возможных форм знания, а также и в определении социально-культурных функций науки как одного из способов познания природы, который явно не мог возникнуть ни в Китае, ни в традиционной культуре вообще, где нет изолированного от человека, от его навыков и умений чистого знания об отношениях вещей по поводу вещей.
Так или иначе, но все пути социальной миграции элементов научного знания начинаются с открытия, под которым мы пока будем понимать операцию вычленения некоторого объекта или отношения из природных связей и первичную знаковую их обработку. Имя и экспериментально подтвержденный текст, описывающий поведение носителя имени, вот тот знаковый социализирующий багаж, с которым элемент научного знания входит в социальное пространство перемещения, начинает социальную миграцию.
Если начало этого пути фиксируется как открытие, то завершение первого этапа движения отмечено актом публикации, входом соответствующим образом оформленного элемента в массив дисциплинарных публикаций и, соответственно, появлением его как составляющей в тезаурусе III данной дисциплины и в тезаурусе IV научного знания вообще. Это путь к ассоциации открытого данным ученым элемента с открытыми уже и представленными в дисциплинарном массиве публикаций элементами, для ученого основной характеристикой этого пути является режим объяснения с коллегами с опорой на тезаурус III дисциплины. Выбор дисциплинарного тезауруса для объяснений с коллегами на предмет признания нового элемента и перевода его в наличный элемент знания весьма ответственная операция, которая во многом определяет успех или неуспех дела. Ган и Штрассман, например, открыв для физики расщепление атома, не решились все-таки строить свои объяснения на тезаурусе III физики, не без оснований полагая, что физики текущего тезауруса 1939 г. их попросту не поймут, а оформили статью в тезаурусе III химии, где революционный физический смысл открытия маскировался констатацией химических фактов. Но, как правило, получив соответствующую дисциплинарную подготовку и освоив в студенческие годы текущий тезаурус дисциплины, ученые редко рискуют объясняться на языке другой дисциплины, использовать возможности чужих дисциплинарных тезаурусов.
Продвигая на этом этапе новый элемент знания к публикации и, соответственно, к признанию дисциплинарным сообществом, ученый оказывается примерно в том же положении, в котором мы ранее видели профессионала-новатора, пытающегося объяснить коллегам по профессии от имени бога-покровителя суть сотворенного им
149
новшества и вынужденного говорить в тезаурусе профессии – на языке освоенных в данный момент навыков и умений. У ученого нет бога-покровителя традиционного образца, хотя идея высокого покровительства и патронажа далеко еще не ушла со сцены. Нидам, например, выдвигая гипотезу межкультурного возникновения науки как общечеловеческого глобального предприятия, тут же взывает к покровительству: «Святым покровителем всех этих людей широких взглядов и доброй воли мог бы, возможно, стать сирийский епископ VI в. Сервус Себект, который, описав индийский метод вычислений, использующий только 9 знаков, заметил, что всем тем, кто постоянно славословит гений греков, было бы пора уже понять, что и другие тоже кое-что знали» (39,р. 3). Раман, в расчете уже, похоже, на индийского читателя, называет Неру «святым покровителем индийской науки» (28,р. 201). И хотя все это, конечно же, метафоры, не стоит забывать, что метафоры, особенно метафоры с историей типа улыбок Чеширского кота, за которыми когда-то что-то было, часто перекрывают мостиками-переходами псевдопонятности провалы и разломы мысли, что за метафорами часто ничего уже не обнаруживается.
Но хотя бога-покровителя у ученого на этом этапе продвижения нового элемента к публикации нет, осознанная или неосознанная потребность в дисциплинарном авторитете, стремление «говорить не от себя», а от имени авторитета, желание спрятаться от возможных критиков за широкие спины установившихся авторитетов или, как предпочитают говорить науковеды, «встать на плечи гигантов» определенно присутствуют в мотивации ученого, в его выборах тезаурусных опор для объяснения и органов публикации. У ученого эта мотивация выражена даже сильнее, чем у профессионала-новатора. Профессионал-новатор даже в случае неудачи своей попытки социализировать новое остается при всех личных огорчениях все же профессионалом, ассоциированным с обществом через межпрофессиональный контакт семей. У ученого более щекотливое положение: он просто новатор, и неудача с вводом нового элемента означает для него первую или очередную неудачу в серии попыток ассоциации с обществом. Для дисциплины ученый начинает существовать как ученый, как признанный член дисциплинарного сообщества лишь с момента первой публикации и существует для нее, набирая очки престижа и авторитета лишь постольку, поскольку он публикует и на его работы ссылаются те, кто публикует позже. Здесь одно из пересечений социальной миграции индивидов и социальной миграции знания, причем карьера индивида, степень его ассоциации с обществом, его престиж и положение оказываются в явной производной зависимости от миграции знания.
Неудивительно, поэтому, что если у ученого есть некоторый выбор
150
дисциплинарных журналов или издательств для публикации нового элемента знания, а сами эти журналы и издательства входят в некую иерархию авторитетности и престижа, ученый будет в большинстве случаев нацеливаться на вершину иерархии как на самое подходящее место для публикации, будет пытаться опубликовать новый элемент в наиболее престижном журнале или издательстве. Такая психологическая установка ученого вполне понятна: не было еще таких ученых и вряд ли они когда-нибудь появятся, которые не были бы искренне уверены в исключительной значимости сделанного ими открытия. И соображения личной карьеры, распределения очков престижности «за публикацию» по уровням престижной иерархии журналов и издательств могут во многих случаях отступать на второй план. Ученый с установившейся репутацией в дисциплине может и попросту отказаться публиковать новый элемент в журнале низкого престижа, хотя и такая публикация прибавила бы нечто к его престижу, и этот отказ, как правило, будет мотивироваться не соображениями личной карьеры ученого, а скорее заботами о «карьере» нового элемента знания, о его социальной миграции: публикация в журнале низкого престижа – почти верный путь в архив и забвение, путь к исключению элемента из дальнейшей миграции.
Та же ситуация возникает и при выборе тезаурусных опор для объяснения нового. Как правило, дисциплинарные журналы и стоящее за ними дисциплинарное сообщество в лице тех, кого Мертон называет «привратниками» – редакторов, рецензентов, референтов, консультантов, то есть ученых, вовлекаемых в процессы оценки рукописей, претендующих на публикацию, и, соответственно, в процессы принятия решений о публикации или отказе от публикации, создают на входе в публикацию достаточно внушительный селективный заслон, диктующий ученым-авторам под угрозой отклонения рукописи довольно жесткий набор правил, относящихся к размеру рукописи и ее оформлению. Предметом регламентирования оказывается обычно и «квота цитирования» – среднее числе ссылок на работы предшественников, то есть среднее число опор на составляющие тезауруса III.
В большинстве естественно-научных журналов квоты цитирования сравнительно невелики: 10-15 ссылок на предшественников признается достаточным числом опор для ассоциации нового элемента с наличными, для выяснения существа нового в терминах наличного. Автор же, как правило, располагает значительно большим числом способов показать свой результат в связях с уже известным. Это и создает ситуацию выбора 10-15 работ из, скажем, 100-150 работ, причем выбор этот вольно или невольно совершается с оглядкой на «привратников», на их взгляды, вкусы, предпочтения, то
151
есть выбор идет не столько по степени причастия нового элемента знания к уже известным и признанным, сколько по положению автора той или иной работы, которую можно с некоторой степенью убедительности использовать как опору, в иерархии дисциплинарных авторитетов, прежде всего авторитетов для «привратников».
Промахнуться здесь, попасть в редакционную корзину и на корню загубить карьеру элемента нового знания в самом ее начале, да и повредить собственной карьере – пара пустяков. Мертон, например, приводит статистику отклонений рукописей по 83 американским дисциплинарным журналам (см. табл.), из которой явствует, что даже в таких кондовых естественно-научных дисциплинах как химия, биология, физика, геология в корзину отправляется и выбывает из дальнейшей социальной миграции от четверти до трети рукописей, а следовательно и элементов нового знания, претендующих на признание, на присутствие в дисциплинарном тезаурусе, на участие в качестве опор объяснения в опосредовании и связи нового знания наличным.
Величины отклонения рукописей в дисциплинарных журналах в 1967 г. (11, р.471).
|
Дисциплина |
Доп. откл., % |
Число журн. |
|
История |
90 |
3 |
|
Литературоведение |
86 |
5 |
|
Философия |
85 |
5 |
|
Политология |
84 |
2 |
|
Социология |
78 |
14 |
|
Психология |
70 |
7 |
|
Экономика |
69 |
4 |
|
Эксперимент. |
51 |
2 |
|
психология |
|
|
|
Математика |
50 |
5 |
|
и статистика |
|
|
|
Антропология |
48 |
2 |
|
Химия |
31 |
5 |
|
География |
30 |
2 |
|
Биология |
29 |
12 |
|
Физика |
24 |
12 |
|
Теология |
22 |
2 |
|
Дескриптивная |
20 |
1 |
|
лингвистика |
|
|
|
|
Всего |
83 |
152
Первый этап социальной миграции нового элемента знания, если он пройден удачно, завершается публикацией. При этом одновременно, накладываясь друг на друга, происходят события в разных планах и смысловых контекстах: а) новый элемент знания переходит в наличный, становясь составляющей тезауруса III дисциплины и тезауруса IV науки; б) элемент знания теряет связи с ученым, становится общим достоянием всего дисциплинарного сообщества, а через тезаурус IV и всего человечества; в) элемент знания превращается в одну из возможных опор для объяснения и социализации новых элементов; г) он переходит из состояния диссоциации в состояние ассоциации с наличным дисциплинарным знанием.
Число событий, связанных с завершением первого этапа, можно было бы и умножить – мы, например, ничего не сказали о возможностях приложения, но общий смысл от этого не изменился бы: появившись в массиве дисциплинарных публикаций, элемент научного знания приобретает полную независимость от индивида, опознавшего и изъявшего его из исходного природного состояния непознанности. Он теперь навсегда прописан как полноправный житель тезауруса III своей дисциплины и тезауруса IV науки, доступен для использования каждым в любое время, в любом месте, для любых целей. Поскольку элемент научного знания не обладает «самостью», то есть не в состоянии иметь и проявлять собственные инициативы и поползновения самостоятельно продолжать свою карьеру на путях социальной миграции, обретенная элементом независимость от человека, который вырвал его из естественной ассоциации с элементами природы и перевел его в знаковую ассоциацию с элементами знания, должна, видимо, пониматься в терминах доступности для человека, который по тем или иным причинам, преследуя те или иные цели пожелал бы заняться дальнейшим устройством карьеры элемента в основных областях социальной миграции: в познании, в образовании, в приложении.
Авторы обзора «Первичные формы научной коммуникации» подчеркивают именно проблему доступности, начинают с нее: «В символ веры научной и технической коммуникации включается всеобщее убеждение в том, что исследование не завершено, пока его результаты не сделаны доступными» (41,стр. 27). Ясно, что элемент научного знания в послепубликационный период знаковой ассоциации с другими элементами более доступен, чем в естественной ассоциации как непознанный элемент среди других непознанных и познанных элементов. Он более доступен и по сравнению с
153
предпубликационным периодом, когда он, получив уже первичную знаковую обработку, обладая именем и текстом, остается все же личной собственностью открывателя и оформителя, который волен продолжать или бросить начатое им дело перемещения элемента на более высокий уровень доступности, на уровень опубликованных результатов. Ясно, однако, и то, что обходящий ограничения по вместимости рост числа составляющих дисциплинарного тезауруса III и общенаучного тезауруса IV снижает меру доступности элементов, находящихся в послепубликационный период в знаковой ассоциации, и, начиная с каких-то критических значений, которые, видимо, давно уже пройдены, этот неограниченный рост составляющих способен спадать в тезаурусе III и особенно в тезаурусе IV ситуацию, которая с точки зрения доступности мало бы чем отличалась от ситуации пребывания элемента в естественном состоянии непознанности.
Принципиальное различие в уровнях доступности элементов, находящихся в естественной и в знаковой ассоциациях, бесспорно есть, оно неустранимо. По отношению к естественней ассоциации в ее непознанной части, конечна эта часть или бесконечна, мы в общем-то ничего не можем предложить для повышения доступности образующих ее элементов кроме оформленной теми или иными парадигматическими шорами любознательности ученых. Элементы в естественной ассоциации не имеют ни имени, ни текста и возможности их опознания-идентификации могут здесь основываться только на самых общих критериях, сводимых в конечном счете к способности быть элементом – оставаться чем-то вне данной естественной ассоциации, вступать в иные ассоциативные связи с познанными уже элементами, иметь имя и текст, вписывающий наблюдаемое поведение этого нечто в наборе фиксированных ассоциаций. Доступность здесь может быть повышена только за счет увеличения массовости поиска, чем наш тип культуры активно и занимается, по экспоненте и в темпах, значительно превышающих рост населения, увеличивая численность ученых.
Иная ситуация поиска складывается с точки зрения доступности в знаковой ассоциации элементов, где каждый элемент имеет имя и текст, позволяющий его опознать на предмет использования, дело упирается лишь в ограничения по вместимости человека. Пока и здесь наш тип культуры в основном уповает на массовость: подготовка технических научных кадров намного превышает по массовости подготовку научных кадров. Но отмеченность элементов именем и текстам, как и развитая эпонимическая характеристика создают возможности вовлечения в поиск техники, прежде всего вычислительной техники, обладающей практически неограниченной вместимостью памяти и достаточным быстродействием. За последние
154
двадцать лет предлагалось и отвергалось много проектов машинного поиска нужных элементов с участием или без участия заказчика-потребителя. Некоторые из таких проектов пробовали реализовать с весьма относительным успехом, причем полные или частичные неудачи списывали, как правило, на косность научного сообщества, на нежелание ученых осваивать новую технику поиска.
Мы не намерены охаивать саму идею машинного поиска информации – это единственный из известных пока способов выхода за пределы ментальной вместимости человека, но, нам кажется, что пока то, что предлагалось и предлагается в этой области, исходит из весьма сомнительной посылки, будто нужная инженеру, ученому, преподавателю информация уже содержится там, куда они обращаются и что обращаются они именно за информацией. Иногда это действительно так, и нужное можно в принципе обнаружить как существующее и реализованное уже до начала поиска. Гарфильд с сотрудниками, используя возможности машинной памяти Индекса научного цитирования, показал, например, что если речь идет об исторической редукции массива дисциплинарных публикаций до вместимости студента, то ученый-преподаватель, планируя и готовя соответствующий курс лекций, вполне может обратиться к машине, задав ей в качестве исходной точки ретроспекции свою собственную или любую другую работу, в которой ученый-преподаватель видит вершину дисциплинарных достижений. Двигаясь в прошлое по сети цитирования на заданную глубину (хоть до античности) и ориентируясь на пики цитирования как на основные дисциплинарные события, машина без труда задает основу курса истории дисциплины, доказывающего, что именно эта работа и есть вершина дисциплинарных достижений, а также и библиографию такого курса. Ученому-преподавателю останется, только, сохраняя основную линию преемственности, обрубить второстепенные детали, снять лишнюю библиографию, заменить кое-где связи цитирования редуцирующими вставками, чтобы вогнать курс в запланированное число часов и предложить студенту посильный для него список литературы. Проверяя по Индексу научного цитирования историю открытия биокода, написанную Азимовым, Гарфильд обнаружил, что пики цитирования – основные ориентиры в такой работе и что машина здесь может внести серьезные коррективы, показав побочные, но существенные линии, на которые не обратил внимания автор. Но историческая редукция дисциплинарных массивов публикаций – единственная пока область, в которой достоинства и преимущества машинной обработки огромных массивов ассоциированных элементов знания представляются неоспоримыми: машина здесь реальный помощник человека, способный внести вполне осмысленные и справедливые поправки в работу и оценки
155
человеческой памяти.
Но кроме этой области социальной миграции знания существуют и другие области, также требующие ментальных операций над дисциплинарными массивами (тезаурус III) и над общенаучным массивам (тезаурус IV) знания как целостностями. В этих других областях социальной миграции элементов научного знания обстановка куда менее ясная с точки зрения условий осуществимости машинного поиска. Известные пока проекты напоминают попытки искать те, что не потеряли. Уже теоретическая редукция, например, массива дисциплинарных публикаций до вместимости студента предполагает привнесение новой теории, реассоциацию элементов по новому основанию, которое, в отличие от сети цитирования, не содержится в массиве как предшествующая попытке данность, а вносится ученым-преподавателем в массив как нечто ему внешнее и определенно в массиве отсутствующее. Здесь вряд ли можно надеяться на помощь машины, поскольку в текстах элементов научного знания, которые социализировались дисциплиной через публикацию до появления данной теории, трудно рассчитывать найти для машины зацепки, способные сказать нечто об этой новой теории, о которой авторы текстов не имели ни малейшего представления.
Точно так же обстоит дело и в области опосредования нового знания наличным на этапе подготовки рукописи к публикации. Автору, естественно, хотелось бы иметь представление о всех возможных опорах текущего тезауруса III для объяснения с коллегами, сравнить их по степени убедительности и авторитетности, отобрать в квоту цитирования 10-15 наилучших. И когда он проделал уже работу по привязке нового элемента к наличным, он вполне может, взяв этот продукт собственного творчества за исходный пункт ретроспекции, проверить машинным способом, насколько его результат хорошо вписывается в дисциплинарную традицию, не оставляет ли он огорчительных прорех и пробелов в преемственности, как она дана сетью цитирования и т.д. Но, чтобы получить эту возможность проверки, нужно сначала иметь этот исходный пункт ретроспекции, а в его сотворении, создании, в выборе опор и связей ассоциации нового с наличным никто ученому помочь не может: в тезаурусе III, сколько ни зондируй его машинным способом, нет еще того, что ученый предположительно ищет – его собственного текста, описывающего поведение нового элемента с опорой на наличные оставляющие тезауруса. Этот текст появится в тезаурус III после публикации, когда ученому уже нечего будет искать.
Близкая ситуация и в области приложения. Здесь инженеру, конструктору, ученому-прикладнику предлагают искать то, что он сам должен вложить в тексты
156
элементов тезауруса IV. В самом деле, творчество инженера, конструктора с точки зрения знаковых операций с элементами научного знания в чем-то напоминает деятельность теоретика. Теоретик привносит теорию, а с нею и новое основание для реассоциации наличных элементов знания. Инженер-конструктор руководствуется менее масштабными целями – ему нет, скажем, нужды заботиться о полноте теории, о минимуме потерь элементов знания в процессах реассоциации – но и конструктор в общем-то тоже занят реассоциацией элементов по основанию, которое он привносит как технологическую идею процесса или машины, для реализации которых нужно ассоциировать составляющие тезауруса IV, в некое новое и оптимальное единство.
Если не слишком пугаться умножения областей ассоциации и соответствующих им текущих тезаурусов, то область технологических приложений элементов научного знания можно рассматривать как некий ассоциативный континуум, безусловно обладающий свойствами целостности и имеющий с точки зрения состава-номенклатуры различений текущую характеристику, свой текущий технологический тезаурус, тезаурус V. Тогда деятельность инженера-конструктора по продолжению карьеры элемента научного знания можно рассматривать как сумму удачных или не очень удачных попыток переместить составляющие тезаурус IV элементы в ассоциативные составляющие тезауруса V, что, собственно, и вызывает процессы морального старения техники. Новые составляющие тезауруса V, если они превосходят по экономическим характеристикам наличные, вытесняют их. Механизм здесь несколько иной, чем в случаях с тезаурусами III и IV, которые растут неограниченно, накапливая неограниченнее число составляющих, хотя в любой данный момент это число конечно. Сфера же технологических приложений научного знания в любой текущий момент конечна, поэтому в тезаурусе V наблюдается и накопление и дренаж морально стареющих составляющих. Но при всем том тезаурус V по числу составляющих его ассоциированных единиц явно находится за пределами вместимости человека.
Инженеру-конструктору, естественно, хотелось бы иметь полную информацию о составляющих тезауруса IV, которые можно было бы привлечь в оптимальное решение задачи разработки новой составляющей тезауруса V, и о тех составляющих тезауруса V, от экономических характеристик которых приходится отталкиваться. Но в первом случае машина не может помочь – в текстах элементов тезауруса IV нет и не может быть информации о технологических ассоциациях, составляющих тезаурус V, тем более о составляющих новых. А вторая задача не требует машинного поиска, поскольку экономические характеристики составляющих тезауруса V известны как
157
исходный ориентир любого грамотного технологического творчества.
Карьера элемента научного знания с момента его появления в границах социальной миграции (открытие) складывается, таким образом, из серии последовательных и одновременных перемещений, выполняемых силами индивидов, получивших специальную подготовку и «закодированных» в эти виды деятельности. Исходным и решающим моментом социальной миграции элемента следует считать публикацию в форме имя-текст. С этого, события, независимо от дальнейшей судьбы элемента, он постоянно присутствует в границах социальной миграции знания на правах составляющей тезауруса III дисциплины, по массиву публикаций которой он прописан, и общенаучного тезауруса IV, присутствует как претендент на дальнейшие перемещения. Эти дальнейшие перемещения, если они происходят, идут в трех относительно независимых областях: а) связи нового наличным знанием; б) академической подготовки научных и технических кадров; в) технологического приложения. Перемещения, поскольку они не зависят друг от друга, могут происходить и одновременно, поскольку же все перемещения ведутся силами индивидов, получивших специальную подготовку и в меру собственной вместимости имеющих доступ к составляющим тезауруса III и тезауруса IV, академическая область миграции знания располагается, как правило, до области связи нового с наличным и области технологических приложений, образуя фильтр редукции тезаурусов III и IV до вместимости студента.
Область академической миграции знания и открывающиеся в ней возможности для социальной карьеры элемента научного знания, попавшего уже в тезаурусы I и IV в результате публикации, можно описать как преобразование силами ученых-преподавателей тезаурусов III и IV, явно превышающих физические и ментальные возможности студентов – будущих ученых, преподавателей, инженеров, конструкторов – в академические тезаурусы IIIа и IVa, удовлетворяющие ограничениям по вместимости. Шансы элемента на переход из тезауруса III в тезаурус IIIa или из тезауруса IV в тезаурус IVa в общем-то невелики и к тому же меняются как по времени, так и по области перехода.
Дисциплинарный переход тезаурус III – тезаурус IIIa, более вероятен, поскольку в нашем типе культуры институт высшего образования повсеместно использует вот уже более сотни лет «профессорский» ролевой набор, изобретенный в 1810 г. Гумбольдтом для Берлинского университета. В состав этого набора входят роли исследователя, преподавателя, историка и теоретика дисциплины. Значительная часть ученых, ведущих активные исследования является одновременно и преподавателями и авторами
158
учебников и курсов, рассчитанных на вместимость студента и представляющих текущее состояние тезауруса IIIa, дисциплины. Вели новый элемент знания опубликован профессором, ведущим данный дисциплинарный курс и работающим над учебниками или учебными пособиями, то у такого элемента почти 100% вероятность войти и в курс, и в учебник, а с ними и в тезаурус IIIа на правах выдающееся дисциплинарного события. В области исторической редукции для курса лекций профессор вряд ли забудет о собственном вкладе в дисциплинарную копилку знания и с большой долей вероятности именно его примет за исходную точку ретроспекции при разработке курса истории дисциплины. Похожее произойдет и в области теоретической редукции -элемент будет показан как значимое подтверждение или как яркий пример эмпирического проявления общих генерализирующих и интегрирующих допущений теории.
Эта оперативность перехода нового элемента в учебные курсы и в учебные пособия рассматривается и в принципе должна рассматриваться как достоинство профессорского ролевого набора. Она позволяет постоянно удерживать подготовку научных кадров в тесном контакте с событиями «переднего края» науки. Даже то обстоятельство, что в каждом университете при этом и каждым профессором-преподавателем читается не один и тот же «стандартный» курс, рекомендуется не одна и та же литература, используются не одни и те же учебники и не в одном и том же объеме, не может быть поставлено в вину сложившейся академической практике. Тезаурус IIIа при этом, естественно, теряет строгие очертания и, возможно, если наложить составы читаемых одновременно в разных университетах дисциплинарных курсов, совокупный тезаурус IIIa, выйдет за пределы вместимости студента. Но такое несовпадение и известная доля теоретического и исторического разнообразия только на пользу дисциплине, поскольку при этом в тезаурусах IIIa поглощается большая часть тезауруса III и обеспечивается более широкий набор соперничающих и соревнующихся точек зрения на процесс дисциплинарного познания, что способствует появлению и закреплению через академическое опосредование новых исследовательских направлений.
С возрастом шансы элемента научного знания на переход в тезаурус IIIa, на представительство в теоретических и исторических редукциях дисциплинарного знания существенно падают. Да и те элементы, которым смолоду посчастливилось попасть в составляющие тезауруса IIIa, редко остаются в нем на длительный срок: со временем более молодые элементы оттесняют их на второстепенные места или вообще вытесняют из состава академического тезауруса. В отличие от пребывания в тезаурусе
159
III, которое может считаться практически вечной и неизменной образующей карьеры элемента научного знания, пребывание в тезаурусе IIIа следует рассматривать как временную и факультативную образующую. Большинство элементов вообще не попадает в тезаурус IIIа и остается за пределами воспроизводимой через академический канал преемственности дисциплинарного исследования. Но это не значит, что такие элементы исчезли и погибли для социальной миграции знания. Не так уж редки случаи, когда элементы весьма солидного возраста в результате усилий авторов курсов и учебников оказываются в тезаурусе IIIa, как яркие подтверждения авторской концепции и позиции. Достаточно в этой связи напомнить судьбу публикаций Менделя, Буля, Флемминга. К тому же академическая область миграции, хотя она и оказывает серьезнейшее влияние на возможности миграции элемента в других областях, не является все же единственной областью, даже и не пройдя через академический фильтр текущего тезауруса IIIa, элемент может стать предметом интереса и активных перемещений в других областях.
Не более перспективен для карьеры элемента научного знания и междисциплинарный академический переход тезаурус IV – тезаурус IVa, хотя он имеет свои особенности, явно отличающие его от дисциплинарного академического перехода тезаурус III – тезаурус IIIа. Прежде всего текущий состав тезауруса IVa во многом произволен от того специализирующего крена подготовки научно-технических кадров, который задан данному институту высшей школы учебным планом. В зависимости от профиля подготовки конструкторов, скажем, или технологов, эксплуатационников или экономистов, архитекторов или строителей в состав тезауруса IVa будут цедиться в разных пропорциях и в разных долях почасового представительства курсы относящихся к делу дисциплин. Так что тезаурус IVa, существует в еще большем разнообразии вариантов и, соответственно, вероятностей присутствия в нем того или иного элемента, чем дисциплинарный тезаурус IIIa. К тому же, требования к редукции дисциплинарных массивов знания до вместимости студента выявляются здесь более жестко и разнообразно: один и тот же курс химии, скажем, может читаться на разных факультетах одними и теми же преподавателями и семестр и три семестра.
С другой стороны, подготовка научно-технических кадров для приложения научного знания значительно слабее реагирует на текущие события «переднего края» науки, чем подготовка научных кадров. Поэтому тезаурус IVa, как правило, более консервативен и стабилен, чем тезаурус IIIа. Это не значит, что преподаватели соответствующих курсов не участвуют в дисциплинарных исследованиях. Они, вроде Крылова, например, могут быть и активными исследователями и крупными
160
дисциплинарными авторитетами, но возможностей для оперативного ввода новых элементов в «микрокурсы» научно-технической подготовки у них значительно меньше. Если речь идет о тезаурусе IIIа, сама идея «стабильного» учебника никогда не пользовалась здесь популярностью, а сами учебники и учебные пособия не отличались долголетием. Когда же речь идет о тезаурусе IVa, то здесь специализированные учебники могут выдерживать десятки переизданий без существенных дополнений и изменений, так что элементы, которым удалась попасть в один из вариантов тезауруса IVa, чувствуют себя здесь прочнее и устойчивее.
Дисциплинарная разношерстность и малая дисциплинарная емкость любых вариантов «совмещенного» тезауруса IVa, делают присутствие в нем элемента научного знания куда менее престижным и для карьеры самого элемента и для карьеры автора его текста, чем пребывание в тезаурусе IIIа, хотя здесь оно и не отличается длительностью.
Наиболее престижной областью миграции элементов научного знания как для карьеры самого элемента, так и для карьеры ученого – автора текста традиционно считается область связи нового и наличного знания. Продуктивность – число опубликованных статей или монографий – саму по себе признают достаточно надежной характеристикой ученого как исследователя и она часто служит основным критерием оценок в решениях о продвижении ученого-преподавателя в академической иерархии должностей. Но продуктивность не затрагивает обычно самих опубликованных элементов, их положения в массиве дисциплинарных публикаций, да и на положение ученого в иерархии дисциплинарных авторитетов она оказывает сравнительно небольшое влияние. Куда более надежным критерием оценок и положения элемента в массиве публикаций и положения автора в дисциплинарном сообществе признается цитируемость – присутствие данного элемента научного знания в текстах публикуемых новых элементов на правах опор объяснения нового.
Тот факт, что перемещение данного элемента в текст другого и более позднего элемента идет независимым от автора способом (хотя многие авторы усердно занимаются самоцитированием), сообщает процессам цитирования вид если и не полной объективности, те, во всяком случае, достаточной безличности, что и придает критерию цитируемости особую силу показателя непредубежденной и справедливой оценки элемента научного знания и, соответственно, оценки вклада данного ученого в дисциплинарное познание.
Вероятность отметиться на правах опоры объяснения в текста более поздних элементов распределена по массиву публикаций крайне неравномерно: треть
161
опубликованных работ вообще не цитируется, а по остальным двум третям цитируемость распределена по закону Ципфа, так что в активной зоне связи нового с наличным, ответственной за 90% перемещений наличных элементов в тексты новых, всегда присутствует лишь 6-8% публикаций дисциплинарного массива. Состав этой активной зоны предельно неустойчив, так что вспыхнувшие было надежды библиотекарей использовать это распределение цитирования и аналогичное ему распределение запросов на научную литературу для резкого сокращения библиотечных фондов или хотя бы для раздельного, по рангам цитируемости и запросов хранения литературы пришлось оставить без последствий.
Исследования, а после появления Индекса научного цитирования, фиксирующего в машинной памяти акты перемещений наличных элементов в тексты входящих, область цитирования едва ли не наиболее полно исследована науковедами, выявили зависимость цитирования от возраста элемента: пик цитируемости располагается где-то на отметке год-полтора после публикации, а затем цитируемость снижается по экспоненте с «периодом полураспада» в 5-7 лет, и, конечно же, выявили зависимость вероятности цитирования от присутствия элемента в текущем академическим тезаурусе IIIа. Элементы, о которых не упоминают на лекциях, которые отсутствуют в учебниках, в списках обязательной и рекомендуемой литературы, требуют от студентов и аспирантов – будущих ученых – самостоятельного поиска в тезаурусе III дисциплины, требуют перекапывания библиотечных картотек и усердного чтения, а такой стих находит на студентов и аспирантов не так уж часто, так что элементы тезауруса III, не отмеченные в тезаурусе IIIa, остаются, как правило, за пределами доступа и их появление в процессах цитирования обязано обычно не вылазкам студентов и аспирантов за пределы тезауруса III, а скорее попыткам сложившихся уже ученых обосновать и подкрепить дисциплинарной историей новую теорию.
Накопление вхождений данного элемента в тексты других, более поздних по появлению в массиве публикаций, можно рассматривать, так это и делает большинство авторов, как процесс ценообразования в науке, работающий, с одной стороны, на выстраивание динамически ранговой ценностной иерархии из зафиксированных в тезаурусе III элементов, а с другой, – на выстраивание эпонимической иерархии дисциплинарных авторитетов как из числа живущего поколения членов дисциплинарного сообщества, так и из числа их предшественников, которые либо отошли от активных исследований, либо вообще ушли из жизни. Это последнее обстоятельство, бесспорно связанное с вечностью представленных в тезаурусе III элементов, создает парадоксальную в какой-то степени ситуацию причастности
162
смертных индивидов к вечности или, вернее, ситуацию творения смертными индивидами вечности как основания преемственности познания и существования общества в смене поколений. Карьера ученого, если открытые им, оформленные в знаке и публикованные элементы отмечены в тезаурусах III и IIIa, если они активно участвуют в ценообразовании, не обрывается с его смертью, а продолжается неопределенно долго – столетиями (Ньютон, Лавуазье, Менделеев...) и даже тысячелетиями (Демокрит, Платон, Аристотель, Эвклид, Архимед...), а иногда в общем-то и начинается, как в случае с Менделем, после смерти ученого. Эта перспектива приобщения к вечности через карьеру бессмертных вкладов в научное познание – одна из существенных составляющих мотивации ученого.
Вместе с тем, в этом накоплении вхождений в тексты других элементов очевидно присутствует и аспект исторического переосмысления текста самого участника таких вхождений, наращивания и изменения текста данного элемента усилиями тех, кто его перемещает в тексты собственных элементов для объяснения с коллегами. Такие модификации исходного текста элемента особенно заметны в периоды дисциплинарных революций, когда «переписывание» истории дисциплины и действующих учебников под давлением победившей новой парадигмы ведет, как показал Кун, к «обогащению» близких и далеких предшественников идеями, концепциями, понятиями, о которых они не подозревали и, судя по состоянию текущих тезаурусов их времени, подозревать не могли. Но этот процесс переосмысления и реинтерпретации текста данного элемента идет как нормальная рабочая процедура связи нового с наличным на любом этапе развития дисциплины. Элемент в момент своей публикации не содержит в тексте указаний на новые элементы, и если он обнаруживает все же свое присутствие в текстах этих новых элементов как одна из опор объяснения, то этот факт может означать только одно: автор, переместивший данный элемент в текст своего собственного в процессе подготовки его к публикации, усмотрел в тексте этого опорного элемента нечто такое, чего там заведомо не содержалось, «сдвинул» значение этого текста предшественника таким образом, что в нем появилась отсутствовавшая прежде связь со значением текста последующего элемента Этот сдвиг значения происходит в каждом акте цитирования.
Поэтому, анализируя тексты элементов, входящих в тезаурус III дисциплины, следует различать их исходное значение в момент публикации и наложенную на это значение серию исторических экспликаций смысла исходного текста – результат усилий тех, кто перемещал этот элемент в тексты своих элементов. Вообще-то говоря, слово «экспликация» здесь явно неуместно – эксплицировать хорошо то, что заведомо
163
имеется в невыявленном состоянии, а сказать, будто в тексте перемещенного элемента в невыявленном состоянии содержится часть или существенный момент текста нового элемента, было бы большой натяжкой. Но так уж принято называть процесс реинтерпретации исходного смысла, и против такого понимания никто не возражает, даже реинтерпретированнне авторы. Сторер, например, во введении к работам Мертона, усматривает в его ранних работах множество «семян будущего» развития социологии, в которых Мертон «на десяток и более лет» (11, р. ХII) предвосхитил будущие исследовательские направления, а Мертон благосклонно соглашается с такой интерпретацией его ранних работ: «Работая в этой области более десятилетия, профессор Сторер чувствует себя в ней как дома и вполне способен собрать перспективы социологических исследований науки в единый исторический и интеллектуальный контекст» (11,р. IX).
Мы не склонны предаваться иллюзиям по поводу способности ученых предвосхищать будущие события, и если бы, скажем, в текст элемента А его автор намеренно запрятал некий смысл С, который затем был эксплицирован авторами текстов элементов Б,В,Г, то с нашей точки зрения куда более реальной были бы такая ситуация, когда бы и текст элемента А и тексты элементов Б,В,Г оказались бы текстами одного автора: от открытий не отказываются в пользу коллег, с ними обычно спорят о приоритете, защищая собственное открытие от посягательств других. Но факт исторической реинтерпретации смысла в процессах связи нового с наличным методом перемещения наличных элементов в тексты новых остается фактом: сдвиг значения происходит в каждом акте цитирования и понимать этот сдвиг следует, видимо, не как знаковую экспликацию того, что было, а как некое добавление к тому, что было в момент публикации элемента, и к тому, что есть в момент цитирования.
Различие значений текста между этими моментами послепубликационной жизни элемента (момент публикации – момент цитирования) может быть весьма значительным, так что имеет смысл предположить, что процессы связи нового с наличным есть вместе с тем и процессы обновления наличного, что область этих процессов не просто некое пространство перемещения пассивных и неизменных элементов в тексты новых элементов, но и своего рода мастерская по переделки этих элементов для целей освоения нового. Мы не могли бы предложить достаточно строгого способа проверки этой гипотезы, но нам кажется, что когда науковеды, историки и философы науки говорят о «фальсификации» научного знания, речь идет именно об этих процессах реинтерпретации текстов наличных элементов знания через сдвиг их значения в каждом акте цитирования.
164
Таким образом, в области связи нового и наличного знания виды на продолжение карьеры элемента научного знания за счет вхождений в тексты новых элементов совпадают с видами и ожиданиями авторов текстов этих элементов. Поскольку процесс перемещения в тексты новых элементов совершается независимым ни от элемента, ни от автора его текста способом, он носит вероятностный характер, и вероятности перемещения или последовательной серии перемещений сравнительно невелики. Поскольку же перемещения эти связаны со сдвигами значения текста элемента, вполне может обнаружиться такая ситуация, которая выявит тенденции удерживать определенные группы элементов в зоне связи нового с наличным, «моду», что ли, на цитирование одних элементов и на активнее отстранение от цитирования других. Иногда наличие такой моды очевидно. Найт, например, отмечает наличие таких тенденций в науке с конца XVIII в., связывая их с процессами дисциплинарной специализации и парадигматического сепаратизма: «Кроме журналов, публикуемых обществами, в это время появились также частные издания общего и специализированного типа, которые велись иногда на коммерческой основе, но чаще пожалуй возникали под давлением групп, которым редакторы существующих журналов отказывали в публикации. Так, в конце XVIII в. можно было обнаружить, что сторонники Лавуазье публикуются в одном журнале, а приверженцы старой теории флогистона – в другом» (42,р. 15-16).
Связь нового знания с наличным как область миграции элементов научного знания пользуется, как уже говорилось, наивысшим престижным статусом среди ученых. Это и не удивительно, поскольку карьера элемента здесь тесно переплетается с карьерой ученого, автора его текста. Описывая типичный ролевой набор ученого, Мертон справедливо замечает: «Возможно из-за ее центрального функционального положения, но ученые определенно выше ценят роль исследователя, чем любую из других ролей. Как и водится обычно в случаях выполнения комплекса взаимно предполагающих Друг друга ролей, идеология не полностью отражает эти дифференцированные оценки ролей в ролевом наборе: ученые часто настаивают на «неразделимости» и, соответственно на равной важности вспомогательных ролей. И все же уже в самой модели выявленных предпочтений работа системы распределения наград в науке подтверждает, что наиболее высоко ценится роль исследователя. Героями науки провозглашаются люди по их способности быть исследователем, редко по способности быть учителем, администратором, референтом или редактором» (11,р.520).
Некоторое и оправданное удивление может вызвать то обстоятельство, что сфера
165
технологических приложений науки как область социальной миграции элементов научного знания, хотя она и пользуется среди ученых определенным «пониманием» – важность ее для общества в эпоху научно-технической революции понятна каждому, – совершенно не пользуется ни популярностью, ни сколько-нибудь заметным уважением. И удивляться здесь в общем-то есть чему: иногда и карьера элемента научного знания и карьера автора его текста начинаются именно с перемещений элемента из состава общенаучного тезауруса IV в одну из единиц технологического тезауруса V. Так, открытый в 1826 г. Грэхемом закон газовой диффузии пылился на полках библиотек более ста лет, пока он не потребовался технологии для разделения изотопов урана, что ввело этот элемент знания и в академический тезаурус IVa подготовки специалистов соответствующего профиля и включило элемент в зону связи нового с наличным, в зону дисциплинарных исследований близких явлений.
Но кое-что в этом безразличии ученых к приложению все-таки понятно. В основном своем «профессорском» ролевом наборе ученый не имеет выхода в приложение, и его карьера практически не зависит от перемещений им же открытого элемента в сфере технологии, тем более, что и перемещения-то такие начинаются обычно не сразу, а после длительных задержек на осмысление и обнаружение в элементе его технологических потенций. Но главное здесь заключается, видимо, в том, что ученый, открыв элемент и опубликовав его текст, традиционно считает свою миссию завершенной: дальше начинаются процессы ценообразования, над которыми он не властен. Ученый может открыть еще один или еще несколько элементов и довести их тексты до публикации, но дальше дорога для него перекрыта стихией чужих и неуправляемых воздействий на элемент, где ученому нечего делать и остается только ждать, как развернутся эти неуправляемые события и что они будут значить для его личной карьеры. События же в области технологических приложений оказываются слишком далеко и от самого ученого и от его коллег по дисциплине, от признания которых зависит положение ученого в дисциплинарном и академическом сообществах. Есть в этом безразличии к приложению, похоже, и тот нюанс, что ученым давно уже надоело выслушивать беспочвенные обвинения по поводу технологических приложений науки и они давно уже привыкли аргументированно снимать с себя ответственность за конкретные приложения. Оно ведь и в самом деле, кто, например, осмелится потревожить тень Грэхема, чтобы предъявить ему претензии по поводу Хиросимы и Нагасаки? Да и вообще, мало ли кому что и когда может прийти в голову насчет использования элемента знания?
Этот срыв контроля над карьерой элемента, который достаточно ощутим уже в
166
сфере связи нового с наличным, в высшей степени характерен для области технологических приложений, где перемещения элементов тезауруса IV в машины и процессы, в ассоциированные единицы тезауруса V практически не фиксируются как перемещения и не оставляют после себя следов, хотя бы отдаленно напоминающих сеть цитирования, которая всегда позволяет восстановить, кто, когда, в текст какого элемента перемещал текст данного элемента. К тому же ассоциированные единицы технологического тезауруса V представляют из себя порой такие сложные, разнородные по генезису и возрасту элементов смеси, что в большинстве случаев попытка описать их в терминах ссылок окажется невыполнимой. Попробуйте, например, описать в терминах ссылок на элементы знания простейший велосипед, и вам раз десять придется встретиться с вопросами типа «Кто придумал колесо?».
При всем том, хотя дело освоения элементами научного знания области технологических приложений сравнительно молодое – первая лаборатория как типичный институт приложения была основана Либихом в 1826 г. в Гисене, наш тип культуры на современном его этапе немыслим без массового и многоуровнего ввода научного знания прежде всего в технологию, где элементы научного знания, возвращаемые человеком из состояний знаковой ассоциации в исходное естественное состояние репродуктивных автоматизмов и бесконечных повторов, вынуждают самое природу при минимальном участии человека реализовать человеческие цели. Долю этого «минимального участия» человека не следует преуменьшать – вся сфера технологических приложений науки находится под контролем человека, и даже в самых сложных ассоциативных единицах тезауруса V технология остается человекоразмерной. Но не следует и преуменьшать меры участия естественных по генезису элементов, изъятых из природы, воспитанных человеком в процессах социальной миграции и возвращаемых природе в форме рабочих команд самого различного назначения, повторяющих и по специализированному наберу участников и по принципу их ассоциации человеческие группы коллективного действия, фиксированные по числу специализированных участников.
Выше мы уже говорили, что наш тип культуры отличается от первобытного и традиционного тем, что в его тезаурусах присутствует и неограниченно растет по объему и номенклатуре особого рода знание о природе без человека, об отношениях вещей по поводу вещей. Это знание извлекается из окружения как нечто входящее на правах составляющих в репродуктивную характеристику природы, в ее естественный, так сказать, тезаурус. Число составляющих такого тезауруса мы мыслим бесконечным, и пока ученые делают открытия, лишь утверждаемся в этом предположении. Знание же
167
о таких составляющих извлекается с помощью процедур (наблюдение-эксперимент), существенной чертой которых является устранение человека и разумного начала вообще из картины природы, если, как это происходит в собственно научно-дисциплинарном мировоззрении, концепт природы создается как нечто производное от ее яда репродуктивной характеристики, от ее естественного тезауруса.
Укрепившись в этом представлении о знаковой специфике нашей культуры – в ней действительно присутствует знание особого рода, а именно знание научное, которого нет ни в первобытной, ни в традиционной культуре, – нам теперь придется взглянуть на ситуацию под несколько иным, «селекционно-воспитательным» углом зрения, чтобы увидеть и, соответственно, эксплицировать идею параллелизма между методами знакового кодирования индивидов в специализированные фрагменты деятельности и методами знакового кодирования элементов научного знания в специализированные фрагменты социальна значимой деятельности.
Эта идея параллелизма методов кодирования в деятельность людей и элементов научного знания присутствовала уже явочным и, так сказать, намекающим порядком в наших рассуждениях о социальной миграции элементов научного знания, о карьере элемента научного знания, о тезаурусах – явлениях знаковых и чисто человеческих, которые, надо же вот, наш тип культуры комплектует именами и текстами, избегающими всяких упоминаний о человеке и намеков на присутствие человека в мире. Теперь, пытаясь понять существо процессов социальной миграции элементов научного знания в сфере приложения, нам следует более основательно войти в идею параллелизма кодирования и попробовать вывести из нее некоторые следствия.
Параллелям и аналогиям свойственно хромать, не исключение в этом отношении и наша идея параллелизма: слишком уж разнородными и непохожими друг на друга представляются люди и элементы научного знания люди смертны и в своем движении по жизни образуют лишь краткоживущий момент в жизни социального целого, длящейся неопределенно долго в смене поколений. Элементы научного знания, напротив, вечны и неподвержены изменениям даже на фоне долгоживущих социальных структур. Закон Архимеда, например, каким он было обнаружен и знаково оформлен в Сиракузах III в. до н.э., таким остается и сегодня, хотя ни от Сиракуз, но от соответствующего социального уклада ничего уже не, осталась кроме свидетельств истерии.
Люди «самостны», способны к любым видам самодвижения, самоопределения, самосознания, самовоспроизводства и вообще само... При этом «самость» человеческая в равной степени обладает и биологической и социальной природой. Биологическая
168
проталкивает человека во времени, устанавливая ему свои сроки детства, юности, расцвета, зрелости, увядания. Социальная сопрягает с этими сроками и этапами пути социальной миграции, нацеливая человека на освоение уподобляющих тезаурусов, на развилки и выборы знакового кодирования в деятельность. Элементы научного знания, как и любые знаковые реалии, не обладают «самостью». Они не способны куда-то перемещаться, что-то приобретать и накапливать собственными силами. Все это, если и происходит, то не по их вине, – виновником всегда выступает человек, который перемещает, переводит элементы научного знания из ассоциации в ассоциацию, преследуя то свои личные (карьера), то общесоциальные цели.
Человек единичен и конкретен, он всегда опутан отметками пространства и времени, ему не дано раздваиваться или, тем более, претендовать на вездесущность, присутствовать, скажем, не теряя собственной идентичности, в Москве и Ростове и в сотне других мест разом. Элемент научного знания единичен лишь в знаковых тезаурусах и ассоциациях как единица соответствующей номенклатуры. Но, не имея отметок времени и пространства, он с легкостью совершает типичный для знаковых реалий переход вездесущности: «здесь и сейчас равно всюду и всегда», то есть способен одновременно присутствовать, не теряя свой идентичности и зафиксированных в тексте особенностей поведения, и в природе, откуда его изъяли, и в массиве дисциплинарных публикаций, и в тезаурусах III и IIIа, IV и IVа, в составе многих единиц тезауруса V. Переместить элемент научного знания вовсе не значит удалить его откуда-то. Элемент в этом смысле похож на пленку идеальней эластичности, способную растягиваться во всех направлениях и измерениях, всегда присутствовать там, куда ее единожды переместили и где ее единожды зафиксировали.
Словом, различий так много, что сама идея какого-то параллелизма, какой-то аналогии между человеком и элементом научного знания представляется диковатой. И все же попробуем присмотреться к тому, какой класс задач пытается решать наш тип культуры, когда он вовлекает в текущее производстве материальных благ научное знание.
Мы не будем детализировать экономическую сторону дела, она более или менее ясна. В условиях товарного производства технологические приложения научного знания не только позволяют повышать производительность труда, но и превратить это повышение в процесс, в котором ни один из достигнутых результатов не может считаться окончательным. Дальше мы в экономику не пойдем обратимся лучше к прояснению нашего диковатого параллелизма.
Серьезнейшие различия между человеком и элементом научного знания не
169
должны скрывать от нас того сближающего их обстоятельства, что по типу знакового оформления – имя и текст – человек на завершающем этапе движения к социализации и элемент научного знания практически аналогичны. Человек на этом этапе специализирован, закодирован в посильный для него текст фрагмента деятельности. Сам по себе такой текст фрагмента, если судить об его объеме и сложности по первобытным или традиционным фрагментам, конечно же не сравним с теми более или менее элементарными отношениями вещей по поводу вещей, которые открываются учеными и фиксируются в знаковой форме как элементы научного знания. Но в истории нашего типа культуры вместе с возникновением капиталистического способа производства произошло то, что можно было бы назвать «миниатюризацией» фрагментов по физическому, главным образом, основанию, произошло резкое совращение текстов фрагментов до весьма скромного набора элементарных действий. Этот процесс углубленной специализации с резким сокращением объема текста и со столь же резким ростом частоты действий по сокращенному тексту шел явно в направлении к тему уровню сложности, на котором располагаются автоматизмы природы, а главное – он вырабатывал навык видеть в человеческой деятельности, какой бы сложной она ни представлялась, некую сумму сопряженных по частоте, объему и последовательности элементарных операций. Любая мануфактура или фабрика, если выявить их структуру производственных связей, может преподать урок решения задачи на повышение производительности труда за счет разложения сложных программ деятельности на элементарные операции и резкого повышения частоты этих элементарных операций.
Упрощение трудовых операций за счет расчленения их на элементарные составляющие и организации таких составляющих в сложные комплексы непрерывного по времени действия и, соответственно, «оседлого» по фиксированным рабочим местам участников типа открыли широкую дорогу для внедрения машин и механических устройств любого типа. Человек – произведение природы и машина продукт изобретательности человека, артефакт, были поставлены здесь на единое основание сравнений, на «одну доску», и поскольку ограничения по вместимости человека распространяются и на частоту совершения операций и на надежность выдерживания стандарта операций в бесконечных повторах, человек с его неуместными в этом типе деятельности ментальными излишествами, утомляемостью, необходимостью периодического восстановления сил очевидна проигрывал в сравнениях с машиной и в глазах организаторов такого комплексного процесса, да и в глазах философов XVII-XVIII вв. представлялся машиной хотя и сложной, но в свете технологических
170
требований несовершенной – избыточной по числу деталей и ненадежной.
С точки зрения процессов знакового кодированиям деятельность широкое внедрение машин в технологические процессы эпохи промышленной революции следует отличать и от использования орудий в первобытном и традиционном типах культуры и от технологических приложений научного знания.
Орудия – постоянные спутники и соучастники человеческой деятельности, где они выполняют функции усилителей человеческих способностей, но тот орудийный арсенал, который мы обнаруживаем в первобытном и в традиционном обществах, несет очевидные следы ограничений по человеческой вместимости и непосредственно вписан в человеческую размерность. Если это дротик, то это такой дротик, который может поднять и метнуть нормальный человек. Нетрудно, конечно, создать и неподъемный дротик – герои мифов швыряются вон стволами деревьев и скалами, но на то они и герои. В реальных орудийных арсеналах неподъемных усилителей человеческих способностей не обнаруживается. Если это молот, те им можно ковать, если плуг – пахать и т.д. Конечно же, и этот орудийный арсенал и прирученные животные, действия которых человек научился контролировать и ставить на службу своим целям, – форма вовлечения неорганической и органической природы в человеческую деятельность, но это – первичная форма освоения возможностей природы, которая с достаточным уважением относится к исторически сложившейся фрагментации деятельности, органически вписывает продукты человеческой изобретательности в контуры человеческих навыков и умений, не разрушая структуры этих навыков, их человеческой размерности.
Орудийная техника эпохи промышленной революции есть в этом отношении нечто качественно иное. Техника остается, конечно, человекоразмерной, несет на себе печать ограничений по вместимости, но и остается и несет совершенно иным способом. В отличие от молота кузнеца, паровой молот уже поднять нельзя, как нельзя, скажем, вертеть вручную станки ткацкой фабрики. Но управлять и паровым молотом и водяным колесом можно. Одним из принципов новой орудийной техники эпохи промышленной революции было вытеснение человека из сферы энергетики, из сферы приложения его физических сил в область управления машинами, явно пренебрегающими ограничениями по физической вместимости человека, что превращало человека в «мозговой придаток» машины, в регулятор, несущий весьма утомительную, но однообразную и скромную по содержанию интеллектуальную нагрузку. Известно, например, что один из таких «мозговых придатков», ленивый мальчишка, которому до смерти надоело дергать за веревочки клапаны переключения паровой машины, изобрел
171
золотник – нехитрую автоматическую систему переключения, с помощью которой машина сама себя дергала за нужные веревочки, реализуя тем самым функцию «мозгового придатка» и устраняя его.
Возникшая в эпоху промышленной революции тенденция приводит технику к человеческой размерности через управление, через рычаги, педали, рукоятки, рули, тумблеры, переключатели, кнопки, действует и сегодня, причем «золотники» постоянно вытесняют человека на низших уровнях управления, перемещая его на все белее высокие и, прямо говоря, все менее интеллектуальные уровни. Синхрофазотрон, например, или телевизор с точки зрения выводов на человеческую вместимость мало чем отличаются друг от друга. Пока все нормально – человеку нечего делать, все за него делают автоматы, когда же что-то отказывает, единственно разумный выход – позвать специалиста.
Но, несмотря на все эти черты общности, орудийная техника эпохи промышленной революции кардинальнейшим образом отличалась от нашей в том отношении, что она, являясь продуктом технологического творчества, не была все же продуктом технологического приложения научного знания. Технику того периода нельзя рассматривать как результат перемещения элементов научного знания из тезаурусов IV и IVa в составляющие технологического тезауруса V.
В XVII, XVIII, в первой половине XIX вв. наука в ее дисциплинарно исследовательских функциях уже действовала как институт познания «природы без человека», хотя предметно-парадигматическое размежевание дисциплин еще только-только начиналось, природа как объект научного познания не была еще распределена по «дисциплинарным портфелям». Физика, например, входила в химию, а большинство тех, кого мы считаем сегодня выдающимися представителями науки XVII – начала XIX вв., имело медицинское образования: курсы естественно-научного плана читались в университетах только на медицинском факультете. Говоря об этом периоде, можно более или менее определенно утверждать, что дисциплинарные тезаурусы III уже были или, во всяком случае, были в процессе становления, как и общенаучный тезаурус IV, тогда как академических тезаурусов IIIa, и IVa определенно не было («профессорская» модель появилась в 1810 г., лаборатория Либиха – в 1826 г.). Для технологических приложений науки как области социальной миграции элементов научного знания отсутствие академически оформленного в курсах, учебниках, справочниках тезауруса IVa означало практическое отсутствие людей, имеющих доступ к элементам научного знания и способных перемещать их в составляющие технологического тезауруса V.
Исторические свидетельства того периода подтверждают, что наука, научное
172
знание не стали еще ни источником, ни поводом, ни средством технологического творчества. В эпонимике великих технологических событий того времени имена людей, имевших научную подготовку, практически отсутствуют. В истории Англии, например, признанного лидера технического прогресса того времени, все сплошь практики типа цирюльника Аркрайта, кузнеца Ньюкомена, шахтера Стефенсона. Более того, когда ученые время от времени воодушевлялись идеями Бэкона о научном совершенствовании «полезных искусств» и действительно обращались к решению технических задач, дело кончалось или могло бы кончиться конфузом в духе свифтовской Лапуты. Эспинас пишет, что в 1670-е гг. Гюйгенс и Гук много сил отдали совершенствованию навигационного оборудования, прежде всего часов, но «хронометр в конце-концов был создан в XVIII в. плотником Хэррисоном» (43,р. 350). Матиас отмечает, что если бы рекомендации ученых XVII – XVIII вв. сельскому хозяйству реализовались практикой, то последствия были бы катастрофическими» (3,р.75-7б) .
Но, если участия науки в технологическом творчестве до XIX в. не обнаруживается, то вполне определенно обнаруживается влияние технологического творчества практиков-самоучек на науку. Технологическая новация здесь основной повод для научного исследования и основной проблемообразующий источник, науки. Скачала усилиями практиков возникают водяные колеса, а затем Лазар Карно закладывает основы гидротехники. Сначала изобретают и доводят до определенной степени совершенства паровые машины, а затем Карно-сын формулирует основы теплотехники и термодинамики.
Если в поисках срыва, «переворота» этих ролей технологического и научного творчества двигаться по эпонимике науки, то первым чистым случаем будет Р.Дизель, который именно из анализа цикла Карно сначала теоретических вывел возможность принципиально нового вида двигателя, а затем и реализовал эту возможность. Но Дизель – это уже самый конец XIX в., да и его современник практик-самоучка Эдисон гораздо чаще встречается нам в повседневной жизни, а тому же ученому-исследователю вовсе не обязательно быть и прикладником.
Тот факт, что наука долгое время рассматривала продукты технологического творчества как поводы для исследования, видела в них совершенные или не очень совершенные копии естественных автоматизмов природы, не должен нас особенно удивлять. Наука того времени усматривала в «полезных искусствах» остатки дарованной некогда человеку как венцу творения власти над природой. И до Бэкона и после Бэкона естественные теологи, натурфилософы, утописты, учёные мечтали о «восстановлении», а именно о восстановлении «языка Адама», причем бэконовская
173
программа «восстановления наук» как раз и опиралась на анализ и классификацию «полезных искусств» как очевидных свидетельств присутствия в человеческой деятельности слова божьего, по которому устроена природа. В хартии Лондонского Королевского общества, создатели и энтузиасты которого находились под влиянием идей Бэкона, была, например, записана и задача разработки истории ремесел как одного из способов «восстановления наук» (43, р.349-350).
Нас здесь больше должна интересовать сама процедура «декодирования» технологий в элементы научного знания и парадигматические основания такой процедуры, которая явно превращает единицы технологии в корабли, теряющие остойчивость и всегда готовые перевернуться, поскольку у них исчезает тезаурусная привязка с тем источником технологического творчества, который явно не имел отношения к науке и опирался на изобретательность самоучек, менее всего озабоченных проблемой знакового оформления своих творений в научных терминах тезауруса IV, стремлением грамотно выражаться на языке науки: его они определенно не знали. Декодирование, понятое как перевод написанных на чуждом языке технологических творений на язык науки, всегда может перевернуться в кодирование, в обратную творческую процедуру выстраивания технологических единиц из элементов тезауруса IV, то есть в технологическое приложение научного знания. Декодирование технологий до уровня «словаря», которым оказываются элементы тезауруса IV, можно рассматривать как полезную предварительную процедуру в освоении языка технологии. В этом смысле период декодирования учеными технологических единиц может рассматриваться как нечто, напоминающее период «от 2 до 5» в социальной миграции человека, когда ребенок, не обращаясь к словарям и грамматикам, сам, собственными силами разламывает речевые единицы взрослых на составляющие, создает себе свой словарь и свою грамматику, чтобы уже в полном вооружении кинуться в речевое творчество, в создание собственных речевых единиц.
Но в декодировании или в перекодировании единиц технологии на язык науки кроме процедурной стороны освоения наукой языка технологии, для которого налицо «словарь» – тезаурус IV, но нет пока «грамматики», «синтаксиса», есть и другая сторона: словарь науки, на котором предположительно должна говорить, должна строить свои знаковые единицы технология, не содержит человеческих составляющих. Поэтому и декодирование технологических единиц до уровня элементов научного знания и перекодирование их на язык науки есть очищение технологии от человека, замена человеческого их ее содержания естественным, природным.
Сегодня эта линия находит время от времени эксплицитное выражение, хотя, как
174
правило, экспликации происходят в пылу спора и вызывают бурные реакции. В споре «физиков о лириков», например, отголоски которого доходят и до наших дней, кибернетик Соболев, критикуя филолога Бялика, который «видимо, не понимает, что означают понятия, которыми он оперирует», писал: «Прежде всего о «машинах» и «живых существах». Как известно, в кибернетике машиной называют систему, способную совершать действия, ведущие к определенней цели. Значит, и живые существа, человек в частности, в этом смысле являются машинами. Человек – это самая совершенная из известных нам пока кибернетических машин, в построение которой программа заложена генетически» (44,стр.83). Человек с этой точки зрения обычный механизм, вполне допускающий описание в терминах науки, в которых нет человека: «Нет никаких сомнений, в том, что вся деятельность человеческого организма представляет собой функционирование механизма, подчиняющегося во всех своих частях тем же законам математики, физики и химии, что и любая машина» (44, стр.83).
Для описания человеческой деятельности в терминах науки сегодня широко используется знаковое «оптическое устройство», позволяющее без лишних слов и доказательств отделять и видеть в деятельности «существенное», подлежащее научному изучению, от несущественно-человеческого, случайного. Наиболее известны в этом отношении постулаты функциональной идентичности, объединяющие по функциональному подобию на уровне поведения самые разнородные явления. Таков, например, постулат «черного ящика», по которому любые системы, получающие идентичные сигналы на входе и выдающие идентичные сигналы на выходе, ведут себя идентично и должны быть признанными тождественными, «одним и тем же». Если, к примеру, связь между сигналами входа и выхода вписывается как отношение: на входе пятак – на выходе билет, то в группе реалий, сведенных таким определением в некое множество тождественных по функции и неотличимых для научного глаза предметов, окажутся и девушки из метро, и кондукторши автобусов, и шлагбаумы, и кассы копилки, и кассы автоматы. Понятно, что ни один даже самый отчаянный кибернетик не ошибется в идентификации единичных реалий окружения, без труда отличит девушку от ящика кассы или, тем более, шлагбауму. Но в области таких идентификаций он уже не кибернетик, здесь он выходит за рамки того, что позволено кибернетику его парадигмой функционального уподобления разнородного.
Соболев, пока он кибернетик, конечно же прав – в кибернетическом мире все сплошь машины, автоматы той или иной сложности и то частное обстоятельство, заложены ли программы генетически природой или текстом кибернетика, не играет в этом мире существенной роли: «Ученым уже удалось осуществить синтез простейшего
175
белкового соединения. Никого не удивит, если в самом скором времени в лаборатории будет получен «живой» вирус. А если этот вирус превратится в микроб, он проделает это, как обычный самообучающийся автомат. А ДНК с ее сложной и очень четкой программой? Искусственное оплодотворение домашних животных, его как считать – искусственным или естественным? А культура тканей?... Нет никаких препятствий «искусственному» созданию, живых организмов, как нет никакой принципиальной разницы между «искусственным» и «естественным» способом их создания. Весь вопрос лишь в там, чтобы научиться доводить их организацию до нужной степени» (44, стр.83-84).
Этот вполне корректный в рамках кибернетической вселенной вопрос сталкивается все же с другим столь же, на наш взгляд, корректным вопросом: является ли кибернетическая вселенная, в которой «человек – самая совершенная из известных нам пока машин», единственно возможной и достаточной для человека? Или же она только один из возможных знаковых научных миров, отрицать социальную и общечеловеческую пользу которых не приходится – человека давно пора вытаскивать из деятельности, допускающей описания типа «на входе пятак – на выходе билет», – рядом с которым или наряду с которым существуют и знаковые миры-вселенные, из которых выслоить человека все-таки нельзя?
Пока в этом вопросе особой ясности не видно, хотя границы кибернетической безлюдной вселенной прочерчиваются на уровне эмпирии довольно строго, допустим, что в лайнере где-то на пути из Новосибирска в Москву сидит кибернетик рядом с филологом. Оба смотрят в иллюминатор, видят облака и от нечего делать гадают по движениям элеронов, ведет ли машину пилот или автопилот. В «филологической» вселенной это вполне осмысленный вопрос, на который можно получить вполне осмысленный ответ, используя одну из допустимых в этой вселенной процедур типа: пройти в кабину летчиков и посмотреть, спросить у бортпроводницы и т.п. В «кибернетической» вселенной это вопрос запрещенный и бессмысленный. Его нельзя поставить и на него невозможно ответить, не выходя за пределы этой вселенной, кибернетик может, конечна, последовать за филологам, применить его процедуры для получена ответа, но это уже будет за пределами дозволенного. В кибернетической вселенной ответы типа «вижу, что...», «проводница сказала, что...» не имеют доказательной силы. Имеют ли вопросы этого запрещенного для кибернетической вселенной типа и соответствующие процедуры получения ответов значение для человека, для его ориентации в мире, для его поведения?
В эмпирической сфере единичных событий такие вопросы и ответы конечно же
176
имеют значение для человека: полезно все-таки, опираясь на свое восприятие и организуя собственное поведение, не путать девушку со шлагбаумом и математика с вычислительной машиной. Результаты подобной путаницы могут оказаться самыми плачевными: машина ведь и стукнуть мажет при неквалифицированном к ней подходе. Но, может быть, дело здесь ограничивается только эмпирическим уровнем единичного и случайного, на котором и наука и знак вообще чувствуют себя не очень твердо -берут только общее? Может быть дело просто в уровне обобщения, и кибернетическая вселенная способна все-таки расширить свои границы таким образом, чтобы сделать осмысленными и эти внешне невинные, но неустранимые из повседневной жизни проблемы идентификации реалий окружения не по функции, а по каким-то другим признакам?
Если внешнюю границу «кибернетической вселенной описывают простые или сложные тексты, удовлетворяющие принципу функциональной идентичности, то нам, очевидно, никак не вырваться из ситуации умножения функционально подобных, но во многих других отношениях разнородных явлений. Эти «другие отношения» всегда будут мыслится как второстепенные и несущественные в духе, скажем, рассуждения Соболева – о внебиологическом производстве себе подобных: «Совсем ведь не трудно представить себе полностью автоматизированный завод, выпускающий точно такие же машины, какие на нем установлены, и размещающий их в порядке, необходимом для производства. Что же касается Галатей будущего, то вряд ли когда-нибудь возникнет необходимость в их создании. Никто не думает и не собирается их создавать. А уж если бы их и стали делать люди будущего, то в полном соответствии с понятиями об эстетике, гармонии, пластика, так что самому взыскательному критику не к чему будет придраться. Главное же, эти Галатеи были бы живыми в полном смысле этого слова, и, вероятно, лучше любых сейчас живущих» (44, стр.84-85).
Такой ход мысли, собирающий разнородное под единую крышу функционального подобия, чтобы затем сказать нечто об одном из членов этой разнородной группы, присутствует в любых кибернетических рассуждениях на любом уровне. Колмогоров, например, пишет: «Если, свойство той или иной материальной системы «быть живой» или обладать способностью «мыслить» будет определено чисто функциональным образам (например, любая материальная система, с которой можно разумно обсуждать проблемы современной науки или литературы, будет признаваться мыслящей), то придется признать в принципе вполне осуществимым искусственное создание живых и мыслящих существ» (45,стр. 11). Нетрудно заметить что определение «чисто функциональным образом» играет здесь роль приглашения к поиску функциональных
177
аналогов одному из выделенных членов и задача мыслится исчерпанной, если такие аналоги обнаруживаются или создаются искусственно. Правомерность такого перехода от одного из выделенных членов разнородной группы через функциональную идентичность к другому существующему или мыслимому члену той же группы с их последующим отождествлением не подвергается сомнению – «придется признать». При таком движении вполне естественен и закономерен вопрос: «Почему бы, например, высокоорганизованному существу не иметь вид тонкой пленки – плесени, распластанной на камнях?» (45,стр. 14).
В нашу задачу вовсе не входит детализированная критика кибернетической вселенной и защита «филологической» или «лирической» вселенной от кибернетических вторжений, угроз внебиологическим способом натворить Галатей, «лучше любых сейчас живущих». Накал страстей в этих вопросах – не по нашей части. Нас куда больше интересует этот характерный для кибернетического способа мысли ход через функциональную идентичность от одного члена разнородной группы к другому, существующему или мыслимому безразличие. Не является ли этот ход как раз тем, что мы ищем? Ведь функциональное подобие и есть, собственно, обращение к тезаурусу IV для описания наличного в терминах науки в целях его подмены чем-то другим. И поскольку состав этого перехода текст функциональней идентичности -научен, для элементов научного знания появляется возможность двинутся по этому переходу в технологию на замену и совершенствование составляющих тезауруса V. Для этого нужно иметь доступ к составляющим тезауруса IV и кибернетики, следует отдать им должное, таким доступом обладают. Для этого необходимо владеть «грамматикой» технологии, но что, собственно, иное кибернетическая концепция машины как не идея высшей технологической единицы, технологического «предложения»? Если именно в этом ключе понять кибернетическую вселенную, то все вроде бы становится на свои места,
Кибернетика в этом смысле не дисциплина, ее конечная цель не в накоплении научного знания, а приложение – внедрение научного знания в область технологии. Тот неоспоримый факт, что в поле зрения кибернетики, оперирующей в своих функциональных определениях научным «обесчеловеченным» знанием, оказывается и человек, объясним, с одной стороны, тем, что в деятельности и поведении человека сегодня с избытком хватает «машинного», репродуктивного даже и в тех случаях, когда именно по этому виду деятельности индивиды ассоциированы с обществом, а с другой стороны, тем, что кибернетика, как и любое научное начинание, еще сравнительно молода и, соответственно, слабо «фальсифицирована» – плохо еще сознает границы
178
собственной применимости.
В самом деле, что значит дать функциональнее определение человеку? Можно ли исчерпать в определениях человека – источника и творца любых определений, которые были, есть и еще только будут? Задача явно подпадает под действие комплекса Архимеда: дайте мне точку опоры, и..., то есть из невыполнимого условия извлекаются простые вроде бы и понятные следствия. Никто и не спорит о том, что если кибернетику дадут функциональное определение человека, то он сотворит нечто удовлетворяющее этому определению если не в реальности, то хотя бы в мысли. Но вот кто даст такое определение? Колмогорову, к примеру, не нравится постановка вопроса Тьюрингом своей приземленностью: «Можно ли построить машину, которую нельзя было бы отличить от человека? Такая постановка как будто ничуть не хуже нашей, и к тому же проще и короче. На самом же деле она не вполне отражает суть дела, ведь по существу интересен не вопрос о том, возможно ли создать автоматы, воспроизводящие известные нам свойства человека, хочется знать, возможно ли создать новую жизнь, столь же высокоорганизованную, хотя, может быть, очень своеобразную и совсем непохожую на нашу» (45,стр.13).
Человек тут вроде бы уже и пройденный этап, с ним просто скучно, есть куда более масштабные и интересные проблемы. К тому же Тьюринг явно сковывает кибернетическую инициативу указанием на неотличимость машины от человека, тогда как весь – секрет кибернетического перехода через функциональную идентичность именно в отличенности – жизнь надобно творить «очень своеобразную» и совсем непохожую на нашу». Но вернемся все-таки к человеку, даже не к человеку вообще – такому невозможно дать определения, а к специализированному и закодированному в деятельность, скажем, кибернетика. Кому как не кибернетикам знать, что такое кибернетик?
Допустим, что тому же Колмогорову или Соболеву удалось закодировать себя в функциональном определении и, в согласии с требованием различенности, воспроизвести функциональное определение «кибернетик» на чем-нибудь совсем уж «непохожем» – на той же пленке-плесени как «материальную систему», какова была бы реакция естественного кибернетика на своего искусственного функционального двойника? Не касаясь уже эмоциональных и иных нюансов, обратим внимание лишь на одно: кибернетик, если он действительно человек, а не созданная им машина, оказался бы и творцом и первым критиком своего творения, если, конечно, в процессе сотворения машины по собственному образу и подобию ему приходили в голову какие-то мысли, соображения, догадки, сомнения, которые он не успел включить в
179
остановленное в знаке-тексте функциональное определение самого себя. Реализованный в машине текст безнадежно бы отставал от автора-кибернетика, так что искусственная машина или серия машин в лучшем случае гнались бы за естественным кибернетика, фиксируя пройденные им этапы самосознания и самопознания, В определении нельзя схватить то, что его разрушает, нельзя этого «воплотить и в машине – сломается, тогда как живой кибернетик, подобно любому человеку, тем, собственно и занят, что до последних дней жизни выходит из собственных определений.
Но довольно о кибернетике. Для нас важно не то, чего она не может, а то, что в переходе через функциональную идентичность, если соответствующие функциональные определения используют на правах словаря общенаучный тезаурус IV, перед нами действительно канал движения элементов научного знания в технологию и в какой-то степени получивший уже теоретическое оформление способ перекодирования технологических ассоциативных единиц на язык науки, независимо от генезиса исходных единиц. В своих теоретических основах кибернетика – грамматика приложения научного знания, технологического творчества. В этой своей грамматической функции кибернетика, возможно, столь же великое изобретение нашего очага культуры, как и научное познание природы в дисциплинарной форме. Из этого не следует, конечно, что кибернетика решает все проблемы.
Роль кибернетики в практике приложения научного знания примерно та же, что и роль парадигматики в дисциплинарных исследованиях. Правила, нормы сами по себе ничего не творят, нужны творцы-индивиды, действующие по правилам. А перед смертными ограниченными по вместимости творцами-прикладниками остаются, все те же проблемы поиска нужных элементов научного знания, разработки и оценки альтернатив существующему и т.п. Кибернетика учит грамоте, а писать уж каждому приходится от себя.
Таким образом, в нашем типе культуры действительно наблюдается известный параллелизм между «естественной» миграцией индивидов и «искусственней» миграцией элементов научного знания, карьеры индивидов и карьеры элементов научного знания все чаще пересекаются, входят в соприкосновение, предполагают друг друга. Мера этой взаимосвязи между самодвижением индивидов и перемещением элементов научного знания, как и характер возникающих здесь отношений между человеком и знанием различен для разных групп населения и видов деятельности.
Мы занимались главным образом событиями и процессами в области производства и перемещения научного знания, и это естественно: научное знание об
180
отношениях вещей по поводу вещей – специфическая: особенность нашего типа культуры, так что на явлениях, вызываемых присутствием элементов научного знания в социальном кодировании приходилось останавливаться особо. В этой области производства и перемещения знания карьеру индивидов и элементов научного знания приходят в наиболее тесное и органическое переплетение, в явную зависимость друг от друга.
Продвигая новый элемент научного знания к публикации, ученый-исследователь строит и свою карьеру и карьеру элемента, а используя в качестве опор наличные публикации массива, он активно участвует как в перемещении чужих вкладов в зону связи нового с наличным, так и в строительстве карьер авторов этих вкладов. Действуя в рамках «профессорского» ролевого набора, ученый-преподаватель, редуцируя дисциплинарный тезаурус III до вместимости студента, селекционируя и перемещая в рамках исторической или теоретической редукции элементы дисциплинарного знания в тезаурус IIIa, с которого начнет свою деятельность новое поколение ученых-исследователей, он трансформирует и сложившуюся иерархию дисциплинарных авторитетов, влияя и на свою собственную и на чужие карьеры, и вместе с там он закладывает опорную базу будущего науки, влияя на вероятность привлечения элементов тезауруса III для связи нового с наличным знанием. Наконец, перекодируя наличные технологические единицы тезауруса V и опосредуя их составляющими общенаучного тезауруса IV, ученый-прикладник строит и свою карьеру инженера или конструктора, разработчика и карьеру элементов научного знания, вовлекаемых в процессы перекодирования технологии.
При всем том индивиды, включенные и включаемые в деятельность по производству и перемещению научного знания, образуют хотя и растущую в опережающем темпе, но все же довольно незначительную группу населения: 2-4 % в развитых странах. Для остальных индивидов, ассоциированных с обществом или ищущих ассоциации с обществом через виды деятельности, которые не имеют прямого отношения к производству и перемещению научного знания, а сами по большей части становятся неводами для приложения научного знания, взаимодействие между социальной, миграцией людей и социальной миграцией элементов научного знания носит противоречивый, а иногда и трагический характер. Эта группа имеет в основном: дело с результатами технологических приложений научного знания, и структура воздействия миграции элементов научного знания на эту часть населения во многом зависит от целей и обстоятельств перекодирования технологической деятельности в данном обществе. Здесь особенно заметно различие между капиталистическим и
181
социалистическим способами технологических применений науки.
Обогащение технологии элементами научного знания, совершается ли оно ради извлечения прибыли и «выживания» фирм в условиях острейшей конкурентной борьбы за рынок или подчинено более благородным целям, дает в конечном результате постепенный рост экономического качества всех составляющих тезауруса V. Это экономическое качество представимо структурам затрат на единицу продукции, производительностью труда и другими переменными, хорошо известными экономистам. Для нас важно здесь только одно – рост экономического качества, поскольку он связан с сокращением доли живого труда в составе затрат на единицу продукции, позволяет производить необходимое для социальности количество материальных благ со все меньшим вовлечением в этот процесс соответствующим образом закодированных индивидов. При этом перед любым обществом нашего типа культуры даже в случаях преемственного перекодирования технологических, единиц, не требующих перекодирования занятых в этом виде деятельности индивидов, возникает проблемная ситуация «лишних людей», допускающая несколько решений.
Поскольку мера участия индивидов в процессах производства характеризуется и численностью соответствующей группы и средней длительностью (рабочий день, рабочая неделя) занятости индивидов этой группы, попытка сохранить ее численность ведет к сокращению занятости – к уменьшению рабочего дня, рабочей недели, к появлению различных форм неполной занятости, а попытка сохранить занятость – к уменьшению численности группы, то есть к той или иной форме диссоциации индивидов – к безработице, к переквалификации, к перекачке в области, не требующие квалифицированного труда и т.п. Проблема только обостряется и усложняется в случаях срыва преемственности перекодирования технологических единиц, причем вызываемая такими срывами технологическая безработица наиболее тяжело отражается на индивидах старших возрастных групп.
Эту ситуацию, вызываемую ростом экономического качества составляющих тезауруса V, некоторые буржуазные исследователи пытаются изобразить как становление нового социального антагонистического противоречия между «интеллектуалами», непосредственно участвующими в порождении и перемещении знания, занимающими ключевые позиции в академической подготовке новых поколений и переподготовке взрослых, и «простым народом», который испытывает на себе превратности неустойчивого существования в мире постоянных изменений. Керр, к примеру, подчеркивает: «Налицо новые линии напряженности. Интеллектуалы образуют новую меритократию, которая возмущает простого человека. Он видит в
182
интеллектуалах также главный источник изменений в науке и в обществе, а изменение как таковое стало испытанием, судом божьим для многих» (22, р. 172).
При всем том эта действительно сложная и противоречивая ситуация вовсе не обязательно должна создавать и воспроизводить конфликтные ситуации. Конфликты возникают там, где высвобожденные из сферы производства индивиды предоставлены самим себе, на свой страх и риск пытаются отыскать возможности ассоциации с обществом, как это происходит в условиях капитализма. Плановое развитие хозяйства, где технологическое применение науки сопровождается сбалансированным ростом объема производства и, соответственно, ростом числа вакантных рабочих мест как адресов возможной социализации, в принципе позволяет решить проблему с наименьшими издержками, хотя и здесь, конечно, возможны ошибки и просчеты в оценках вероятных эффектов перекодирования технологических единиц.
Но как бы то ни было, социальная миграция элементов научного знания в любом случае оказывает заметное и усиливающееся влияние на становление карьер практически всего трудоспособного населения. Для научных работников перемещение элементов знания есть вместе с тем и творение собственной карьеры, а в рамках сообщества ученых-исследователей и карьер коллег по дисциплине. В других областях социальна необходимой и социально значимой деятельности социальная миграция элементов научного знания вносит значительные изменения в наличную систему фрагментации деятельности и, производно от процессов перекодирования технологических единиц, в систему кодирования индивидов в деятельность.
Если сравнить положение индивидов в различных группах по степени устойчивости контакта ассоциации с обществом, то можно прийти к парадоксальному выводу: степень устойчивости контакта тем выше, чем ниже степень специализации соответствующего текста деятельности. В отличие от первобытной и традиционной культуры, где устойчивость контакта ассоциации опирается на устойчивость специализирующего текста и его преемственность в изменениях, в нашем типе культуры устойчивость контакта опирается скорее на незавершенность специализирующих текстов, на наличие в них некоей «недоговоренности», требующей от индивида в конкретных актах действия содержательной «творческой вставки», дописывания текста до соответствия конкретным условиям акта действия. При этом степень устойчивости контакта ассоциации оказывается значительно выше в тех видах деятельности, где относительная диссоциация, пребывание индивида в отстраненности, рассматриваются как норма, а не как преступление или уклонение от предписанных текстом правил деятельности.
183
В научной исследовательской деятельности, например, хотя она и достаточно жестко регламентирована дисциплинарной парадигматикой и набором дисциплинарных правил, ученый как признанный член дисциплинарного сообщества ведет скорее потенциальный, чем актуальный образ жизни. Он, подобно подводному обитателю или подводной лодке, появляется время от времени на актуальной поверхности дисциплинарных событий, оставляя следы своего существования в актах публикации, в актах участия его вкладов в процессах связи новых элементов научного знания с наличными, в актах вхождений, если повезет, через свои вклады в курсы лекций, в списки обязательной или рекомендованной литературы, в учебники тезауруса IIIа, но как индивид естественная сущность которого не исчерпывается этими апериодическими и не поддающимися регламентации фактами актуального выявления, он для дисциплины основную часть своего «рабочего времени» пребывает в нетях, находится в блестящем отсутствии, хотя и ассоциирован с обществом именно через дисциплину. Дисциплине дела нет до того, чем в текущий момент рабочего времени занят тот или иной член дисциплинарного сообщества. Он может отсиживать часы в лаборатории, оказаться в библиотеке или за тридевять земель на каком-нибудь конгрессе или симпозиуме, может сидеть дома за письменным столом или в компании друзей в другом месте, может и попросту спать в тайной надежде увидеть вещий сон – мифология науки полна свидетельств о том, что выдающиеся ученые ранга Пирсона или Кекуле совершали свои блестящие открытия именно во сне, – все это для дисциплины «подводная» паранаучная деятельность, не имеющая к ней отношения и для нее безразличная. В этом виде деятельности в расчет принимается не время занятости, а только конечные «штучные» результаты.
В других видах деятельности с «нормированным рабочим днем», где требуется постоянное присутствие индивидов на рабочем месте, положение несколько иное, однако и здесь полное подчинение деятельности индивида ритму целого встречается довольно редко, в основном при конвейерной сборке, причем именно эти виды деятельности оказываются наиболее «хрупкими» с точки зрения устойчивости контакта ассоциации с обществом. Переход на новую модель разрушает здесь технологическую линию, требует перекодирования рабочих мест. Если в дисциплинарном исследовании ученый может продолжать существовать для дисциплины и посмертно, то в этих видах деятельности такое невозможно.
В целом же неполное специализирующее кодирование, необходимость
184
«творческих вставок» дополнений к тексту силами индивида, закодированного в этот текст, встречается в большинстве видов деятельности, включая и те, которые входят в технологический тезаурус V. В этом отношении кодирование индивидов в деятельность существенно отличается от кодирования в деятельность элементов научного знания, от которых самодеятельности не ждут и для которых послаблений по части актуального присутствие или творческого отсутствия не допускают.
В начале работы мы говорили о влиянии распределения специализирующих институтов по территории на формирование потоков территориальной миграции и обнаружили, что наличная картина неравномерного расселения с отчетливо выраженным центростремительным вектором может, в частности, оказаться производной от локализации мест, где индивидов кодируют в специальность. Теперь мы можем, отталкиваясь от идеи параллелизма социальной миграции индивидов и социальной миграции элементов научного знания, попробовать разобраться в вопросе о том, влияет ли миграция элементов научного знания на территориальную миграцию индивидов.
В общем случае, если учитывать, что элементы научного знания не имеют отметок пространства и времени, неограниченно транспортабельны к местам и датам приложения, более или менее очевидно, что сами по себе элементы научного знания никакого влияния на расселение оказывать не могут. Любая геологическая или полярная экспедиция, как и любой корабль или лайнер, или космическая лаборатория несут с собой изрядную долю тезауруса IV и его технологических приложений. Но миграция научного знания – дело индивидов, которые перемещают его из тезауруса в тезаурус, а сами эти индивиды в отличие от элементов научного знания жестко локализованы в пространстве и времени.
В группе людей, занятой порождением и перемещением знания, а также и подготовкой научно-технических кадров, сам характер этой деятельности будет обнаруживать центростремительное стяжение этих индивидов к единому месту. Ученый в ролевом наборе профессора, например, обязан быть где-то на малом удалении от лаборатории, библиотеки, учебного корпуса. То же самое можно сказать и о студентах. Такие стяжения не обязательно, правда, должны тяготеть к политическим и промышленным центрам, в разных странах в силу исторических традиций расселение индивидов, причастных к науке, следует своим особым моделям. Но в качестве центра стяжения всегда выступают университеты, располагаются ли они в крупных городах
185
или за их пределами.
Применительно к остальным группам такого непосредственного влияния миграции элементов научного знания на расселение как будто не обнаруживается, и это отсутствие ясно выраженных эффектов более или менее понятно: результаты перекодирования технологических единиц столь же транспортабельны к местам и датам реализации, как и сами элементы. Япония, например, которая по многим показателям темпов обновления составляющих тезауруса V является лидером капиталистического мира, в значительной степени обеспечила свое ведущее положение скупкой патентов во всем мире и оперативной их реализацией. Здесь если и есть влияние миграции научного знания, то оно явно опосредовано сложившейся уже структурой расселения – наличием диссоциированной рабочей силы и многими другими факторами.
Вместе с тем картина может значительно измениться, если дело идет о создании новых технологических единиц. Тот же Хорафас, например, отмечает: «За последние десять лет в Остине (Техас) обосновалось тридцать новых фирм, использующих возможности, местного университета. Каждый из 27000 студентов этого университета обходится штату Техас в 1500 долл. в год, но власти штата считают, что расходы адекватно компенсируются промышленным, бумом, который вызван самим существованием университета» (9,р.112). Влияние миграции научного знания на расселение может усилиться и в связи с растущей необходимостью постоянно повышать или даже менять квалификацию, на чем особенно настаивает Керр (22).
В целом же влияние социальной миграции элементов научного знания на территориальное расселение индивидов мажет, возможно, рассматриваться как нечто, во всяком случае не препятствующее общим центростремительным тенденциям, а в некоторых случаях и активно участвующее в складывании таких тенденций -университетские и научные городки.
Наш тип культуры, таким образом, в своих основных характеристиках, отличающих его от первобытного и традиционного типов культуры, предстает как «онаученный» способ кодирования индивидов в сильнейшим образом фрагментированную и подвижную в своей фрагментации деятельность. В своих общечеловеческих основаниях каша культура не порывает с общим для всех культур способом знакового кодирования, в котором основными знаковыми реалиями, носителями наследственной информации остаются индивидуализирующие адреса-
186
имена и тексты конечной длины, а основной причиной, вызывающей использование знака вместо гена, выступает неспособность человеческого биокода взять на себя и решить биологическими средствами задачу специализированного кодирования в условиях, когда специализация, коллективное действие становится предпосылкой выживания человека как биологического вида.
Новым в нашем типе культуры является присутствие в нем имен и текстов, не имеющих в качестве адреса распределения деятельности (имя) человека и, соответственно, не несущих ограничений по человеческой вместимости. Такие имена-тексты описывают независимое от человека поведение вещей-носителей имен во взаимодействии с вещами же, имеющими свои имена и тексты. Основанные на наблюдении и экспериментальной верификации научные методы извлечения таких имен-текстов из окружения предусматривают по возможности полное изгнание воздействие человека или любой другой разумной силы на процессы взаимодействия вещей, что делает полученные таким способом элементы научного звания безразличными и нейтральными к нуждам, стремлениям и запросам человека. С другой стороны, обычное, через имя и текст, знаковое оформление элементов научного знания и их возникающая в процессах экспериментальной верификации свобода от связывающих определений пространства и времени делают элементы доступными человеку для перемещения и участия в знаковом кодировании деятельности.
Совокупность элементов научного знания, извлеченных наукой из окружения (тезаурус IV) описывает границы «текущей природы» нашего типа, культуры в ее познанности, принципиальной доступности для человека на предмет возможных использований. Поскольку это описание научно, выполнен в терминах элементов научного знания, оно не может содержать ничего большего, чем содержится в текстах элементов, не может включать человека, целей и способов его воздействия на окружение. Поскольку же накопление элементов научного знания в дисциплинарных формах познания природы не признает ограничений по вместимости человека и давно вышло за эти границы, в любых научных описаниях «текущей природы», для каких бы целей они ни выполнялись (подготовка научных кадров, мировоззренческое обоснование дисциплинарных парадигматик, освоение- универсального тезауруса общества через школьные курсы), всегда присутствовали и будут присутствовать редуцирующие схемы и концепты растущей степени общности, способных удерживать на соответствующем уровне общности целостное представление о «текущей природе» в
187
границах человеческой вместимости. Поскольку, наконец, любые, ив этих редуцирующих схем и концептов опираются на содержание элементов научного знание, зафиксированное в их текстах, любые мыслимые варианты научного мировоззрения не будут включать в представления о природе человека в его качествах существа мыслящего, водящего, оценивающего альтернативы и совершающего выборы: изгнанное на уровне извлечения из окружения элементов научного знания не может вдруг объявиться в процессах редукции содержания этих элементов, хотя, конечно же, как вещь среди вещей, способная взаимодействовать с вещами на уровне наблюдаемой эмпирии каузально-однозначным способам, человек вполне представим и всегда оказывается представленным в любом редуцированном описании «текущей природы» в духе, например, приводившегося уже определения Соболева: «Человек – это самая совершенная из известных нам пока кибернетических машин, в построение которой программа заложена генетически» (44, стр.83).
Отсутствие человека в наших картинах мира, природы, пока эти картины остаются научными, а «ненаучного» мы уже не вмещаем – интериоризированный в школьные и студенческие годы тезаурус не позволяет, – существенно отличает наш тип культуры от соответствующих интегрирующих «текущую природу» представлений первобытного и традиционного типа культуры, где человек в полном наборе его специфики либо непосредственно представлен как адрес специализирующего текста (взрослые имена первобытного общества), либо же текст интегрирующего природу знака приведен в человеческую размерность и удерживается в ее границах последовательными попытками профессионалов-новаторов объяснить в терминах освоенной профессией деятельности смысл предлагаемой новинки (бог-покровитель традиции).
Высокий, если не сказать высший в нашем тине культуры статус научного знания, под которым большинство из нас разумеет не один из самостоятельных видов человеческого знания, а знание как таковое, порождает не только не всегда оправданные надежды и упования на науку, но и отчетливо выраженную тенденцию к уподоблению всех видов познания научному познанию. Мы здесь не будем входить в детали появления и становления этой тенденции для этого пришлось бы идти в эпоху интеллектуальной революции, а это путешествие не из коротких, поэтому ограничимся простей констатацией: в нашей культуре к любому типу познания, результатом которого считается знание, примысливается на правах не столько определения, сколько престижного эпитета прилагательное «научное» – научное познание, научное знание.
188
Но это внешне безобидное расширительное употребление термина «научный» оказывается на поверку связанным с группой методологических и мировоззренческих представлений, которые довольно строго, хотя и с явными купюрами, повторяют модели научной методологии и текущего научного мировоззрения.
Стоит только появиться новому направлению познания, как независимо от предмета изучения, будь то человек, знак, или социальные структуры, направление тут же спешит провозгласить свою приверженность наблюдению и эксперименту без каких либо оговорок насчет того, а что именно намерено это направление устранить применением этих процедур. Отчаянные кибернетики вроде Соболева или Колмогорова в этом отношении хоть откровеннее. Посягая на изучение человека или цивилизаций в целях их искусственного воспроизведения, они прямо говорят: человек для нас кибернетическая машина, машина среди машин, и к нему применимы те методы исследования и конструирования кибернетических машин, которые уже известны и опробованы кибернетической практикой, то есть человека можно рассматривать как черный ящик, можно дать ему исчерпывающее описание в терминах однозначных соответствий между сигналами на входе и сигналами на выходе, а затем выбросить естественного человека из этого ящика и набить ящик микро- или макросхемами на полупроводниках ли или на плесени или на чем угодно, лишь бы воспроизводилась зафиксированная на человеке связь между входными и выходными сигналами. Такой ящик и будет кибернетически сотворенным человеком, которого кибернетику нельзя будет отличить от человека по тем же принципиальным причинам, по которым ему нельзя отличить естественного летчика от искусственного автопилота.
Но такие экспликации методологических намерений и предметных единиц – вещь чрезвычайно редкая и крайне нехарактерная для познавательных предприятий в нашем типе культуры. Обычно за провозглашением приверженности к наблюдению и эксперименту следует уже сама исследовательская практика – выборки, процедуры измерений, опросные листы, шкалы и т.п., и лишь присмотревшись к общим направлениям усилий исследователей, начинаешь понимать, что предмет изучения дорисован исследователями до естественного объекта, насчет которого предполагается, что между его наблюдаемым поведением и скрытыми, но умопостигаемыми свойствами существует однозначная связь. А это и позволяет изощрять изобретательность в придумывании гипотез насчет скрытых свойств и экспериментов, для проверки этих гипотез на уровне поведения. Все это вовсе не плохо, когда
189
изучаются реалии, способные быть и естественными – человек, например, хотя и здесь такой способ изучения предопределен взглядом на соответствующую реалию как на вещь среди вещей. Но когда изучаемыми реалиями выступают очевидные творения человека – социальные структуры, знаковые коды, карьеры, пути миграции, попытки примыслить к наблюдаемым явлениям некие скрытые свойства, ответственные за эти выявления, обычно ведут, да и могут привести только к апологетике наличного со ссылкой на его объективность и закономерность, то есть к научной санкции любой наблюдаемой действительности с длинными объяснениями, почему именно такой ей следует и быть.
Несколько менее подвержен этой общей тенденции к уподоблению естественнонаучным дисциплинам системный подход, хотя, как мы уже говорили в самом начале, в нем две разновидности, одна из которых – первая или бессубъектная – явно стремится к полноте и объективности описания, то есть в той или иной степени испытывает на себе давление общенаучной парадигматики, и только вторая, формализуя претензии субъекта к наблюдаемому поведению объекта, обещает как будто бы открыть пути к какому-то новому типу познания и новому типу знания, хотя пока эта разновидность системного подхода находит крайне ограниченное применение.
На этом мы кончаем наши поиски условий, при которых становятся возможными ответы на вопросы о природе социальной миграции индивидов, о переходе социальной миграции в территориальную, в расселение. Попробуем подвести некоторые итоги.
1. Несмотря на свою актуальность, проблемы расселения, регионообразования, социальной миграции вообще не стали пока целостным комплексом проблем единого исследовательского направления, имеющего на вооружении сколько-нибудь оформленную парадигму. Разбросанность проблематики по предметам различных дисциплин требует выхода на некое основание, позволяющее связать проблемы и представить их либо частными, либо производными выявлениями одного и того же. Наиболее перспективным в этом отношении основанием мы считаем специфический для человека знаковый способ специализирующего кодирования индивидов в социально необходимую деятельность, объем которой превышает ментальные и физические возможности отдельно взятых индивидов.
2. Рассматривая возрастное движение индивидов в социальных структурах, ведущее к их уподоблению предшественникам, что является условием сохранения социальной преемственности в смене поколений, как основную и естественную по
190
своей природе силу, мы обнаружили, что эта общая схема миграции индивидов, объясняющая и ряд особенностей территориального расселения, должна быть конкретизирована и представлена типологически просто потому, что задача знакового специализирующего кодирования индивидов в фрагментированную по их вместимости деятельность допускает несколько решений, в первом приближении соответствующих описаниям наличных культурных типов: первобытного, традиционного, европейского. Это значительно расширило круг вовлекаемых в анализ проблем и, соответственно, усложнило сам анализ.
3. Выход на проблему социальной миграции через знаковое кодирование индивидов в деятельность не может, естественно, считаться ни единственно возможным, ни сколько-нибудь детально разработанным, однако и в таком исходном виде он, по нашему мнению, выявляет свою эвристическую ценность, позволяя идентифицировать и представить в комплексном единстве ряд новых проблем (человеческая размерность, имя и текст, тезаурус, фрагментация, перемещение знания, связь нового с наличным знанием, миграция научного знания), а также уточнить состав и смысл ряда интенсивно исследуемых проблем, связанных с социальной функцией науки в нашем типе культуры.
4. На фоне первобытных и традиционных обществ наглядно выявляется роль научного знания, которое в нашем типе культуры находит широкое и растущее использование в процессов кодирования и перекодирования как форм деятельности, так и самих индивидов – субъектов деятельности. Хотя часть входящей сюда проблематики интенсивно исследуется науковедами, социологами и историками науки, значительная часть проблем, вызываемых социальной миграцией элементов научного знания, которая очевидно влияет на социальную миграцию индивидов, включая и их территориальную миграцию, еще ждет серьезных исследований, особенно исследований сравнительных, включающих анализ положения в развивающихся странах традиционного типа культуры, где попытки освоить науку и ее технологические применения наталкиваются на ощутимое сопротивление традиционных институтов.
5. Использование на правах исходного основания процесса кодирования индивидов в наследуемые формы деятельности и перекодирования деятельности усилиями самих индивидов, основные черты которого были выявлены еще Марксом и Энгельсом в концепции материалистического понимания истории, позволяет
191
обнаружить известную ограниченность научного мировоззрения, производную от состава и содержания элементов научного знания, в которых отсутствует информация о человеке как существе мыслящем.
6. За пределами изложения осталось много проблем, которые довольно четко локализуются как имеющие значение в рамках интегрированной, по основанию знакового кодирования, проблематики, но требуют обстоятельного изложения, явно выходящего за рамки данной работы, К ним мы надеемся вернуться в следующих работах, для которых данная может рассматриваться как развернутое предисловие.
192
ЛИТЕРАТУРА
1. Сергеев Б.М. Рациональное использование геологической среды // Природа. № 1. 1977.
2. Свифт Д. Путешествия Лемюэля Гулливера. М., 1955.
3. Science and Society 1600 – 1900. Camb., 1972
4. Zipf G.K. Human Behavior and the Principle of Least Effort. Camb., Mass., 1949.
5. Проблемы урбанизации и расселения. М., 1976.
6. Crosland M. Science and the Franco-Prussian War // Social Studies of Science. Vol. 6. № 32. L., 1976.
7. Шелли М. Франкенштейн. М., 1965.
8. Винер Н. Творец и робот. М., 1966.
9. Chorafas D.N. The Knowledge Revolution. L., 1968.
10. Merton R.K. On Theoretical Sociology. Toronto, 1967.
11. Merton R.K. Sociology of Science. Chicago, 1973.
12. Smith H.W. Strategies of Social Research. The Methodological Imagination. Englewood, 1975.
13. The Concept of Academic Freedom. Univ. of Texas Press, Austin, 1975.
14. Morgenthaw H.J. Science Servant or Master? N.Y., 1972.
15. Зинченко В.П., Муников В.М. Эргономика и проблемы комплексного подхода к изучению трудовой деятельности // Эргономика. № 10. М, 1976.
16. Ленин В.И. Соч. Т. 36.
17. Бернштейн Н. Современная биомеханика и вопросы охраны труда // Гигиена, безопасность и патология труда. 1931. № 2.
38. Мирский Э.М., Петров М.К. Методологические проблемы исследования деятельности // Техническая эстетика. 1976. № 10.
19. Hausman L. Pressures, Benefits and Options // Universal Higher Education. Wash., 1972.
20. Nakayama Sh. History of Science: A Subject for the Frustrated // Boston Studies in the Philosophy of Science. Vol. 15. Boston, 1974.
21. Changing Careers in Science and Engineering. Cambr., Mass., 1972.
22. Кудрявцев М.К. Община и каста в Хиндустане. М.,1971.
23. Kerr С. The Speed of Change: Toward 2000 A.D. // Policy and Planning in Higher Education. St. Lucia, Univ. of Qweensland Press, 1973.
24. Кун Т. Структура научных революций. М.,1975.
25. Criticism and the Growth of knowledge. Camb., 1970.
26. The Structure of Scientific Theories, Urbana, III, 1974.
193
27. Bennet J.W. Anticipation, Adaptation and the Concept of Culture in anthropology // Science. 1976. Vol. 192. № 4242.
28. Chomsky N. Reflections on Language. Glasgow, 1976.
29. Rahman A. Trimurti: Science, Technology and Society. New Delhi, 1972.
30. Whitehead A.N. Prosses and Reality. N.Y., 1929.
31. Whitehead A.N. Adventures of Ideas. N.Y., 1933.
32. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т.З.
33. Rogers E.M., Shoemaker C.F. Communication of Innovations. A Cross-Cultural Approach. N.Y., 1971.
34. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М. 1930.
35. Green J.C. The Kuhnian Paradigm and the Darwinian Revolution in Natural History // Perspectives in the History of Science and Technology. Norman, Oklahoma, 1971.
36. Dart F.E., Pradhan P.L. Cross-Cultural Teaching of Science // Science. 1967. Vol. 155. He 3763.
37. Nyerere J.K. Freedom and Socialism. Dar es Salaam, 1969.
38. Beers H.W. An American Experience in Indonesia. Lexington, Kentucky, 1971.
39. Human Rights and Psychological Research. A Debate on Psychology and Ethics. N.Y., 1975.
40. Chinese Science. Explorations of an Ancient Tradition. Cambr., Mass., 1973.
41. Anderson R.S. Are Conferences on Science in Poor Nations a Useless Extravagance? // Science Forum. Vol. 4. № 6. Toronto, 1971.
42. Коммуникация в современной науке. М., 1976.
43. Knight D. Sources for the History of Science 1660 – 1914. L., 1975.
44. The Intellectual Revolution of the Seventeenth Century. London-Boston, 1974.
45. Соболев С. Да, это вполне серьезно! // Возможное и невозможное в кибернетике. М., 1963.
46. Колмогоров А. Автоматы и жизнь // Возможное и невозможное в кибернетике. М., 1963.
Ростов-на-Дону, 1977
194
ОГЛАВЛЕНИЕ
Человекоразмерность – ключ к пониманию регионогенеза: незамеченный
императив М.К. Петрова...........................................................................................3
Введение....................................................................................................................8
