
Ярская-Смирнова.Романов.СА
.pdfТема 3.1 |
321 |
рьезным образом вовлечены в войну, но автор имеет в виду придание женщинам функциональной роли в военных действиях.
Еще одним ключевым кодом текста является женщина – это обобщенное понятие, подчеркивающее универсальность женской сущности. Автор строит аргументацию на явно выраженном противопоставлении мужчин и женщин, четких границах между мужской и женской сферами ответственности. Неявным образом проводится идея, что данное мнение – единственное и универсальное, а отклонение означает патологию.
Употребление существительного война демонстрирует нам, что автор считает войну и теракт эквивалентными понятиями. Скорее всего, автор говорит о «войне» в широком смысле, полагая ее мужским делом. По сути, речь идет о вопросе участия женщин в любых военных действиях, включая теракты, в качестве бойцов и в других функциональных ролях.
Скрытым образом, но теракт в принципе не отрицается и не осуждается. Подвергается обструкции не сам акт терроризма, а привлечение к нему женщин – это, по словам автора, большой позор, который трактуется в этом контексте как ущерб традиционной мужественности, наносимый действиями, совершаемыми вопреки традициям и стереотипам. Прилагательное «большой», если рассуждать в терминах Тулмина, выполняет функцию модального определителя, усиливая легитимность утверждения.
Формула: если мужчина позволяет женщине, используемая во втором предложении рассматриваемого фрагмента, работает в качестве гарантии и служит логической аргументации подтекста «если мужчина так делает – он не мужчина». Кроме того, в этом случае есть и еще один смысл: мужчина решает, что женщине дозволять, а что – нет. В этой фразе содержится дополнительная поддержка в развитие аргументации первого предложения: противопоставление настоящих мужчин и тех, кто, согласно автору, таковым не является. Критерием для различения правильных мужчин и немужчин, таким образом, служит та степень, с которой женщины допускаются в «мужскую» сферу ответственности. Глагол вмешиваться означает активное поведение, нарушающее обычный порядок и может быть передано близкими по смыслу словами лезть не в свои дела, принимать участие вопреки правилам, решать по поводу своей роли самостоятельно, прерывать процесс. Автор разделяет патриархатные установки относительно гендерных ролей: женщина – несамостоятельное существо, лишь мужчина, да и то, преступая обычаи, может позволить ей вмешаться или втянуть ее в мужские дела.
В качестве типично мужского дела в тексте приводится обычная бытовая драка. В этом обороте дважды подчеркивается обыденность физического насилия, которое делит общество на мужское и женское. С помощью этих модальных определителей физическое насилие выставляется привычным делом, эпизодом повседневной жизни в чеченском обществе. Кроме

322 |
Модуль 3 |
того, подтекст сообщения дает нам понять, что повседневные конфликты, которые являются прерогативой мужчин, решаются с позиции силы. Явным образом автор основывается на предположении о специфике чеченской культуры, для которой физическое насилие – элемент повседневной жизни. Скрытым образом это наводит на мысль об опасности данной культуры, а также, что физическое насилие является (или должно быть) обычным делом для всех обществ и культур.
Про него у нас говорят работает как дополнительное свидетельство в пользу валидности утверждения: местоимение «мы» должно действовать суггестивно для простых людей из народа, по аналогии со ссылками на экспертов (экономистов, психологов, социологов), если бы текст был адресован образованному среднему классу. Субъект дискурса, присоединяясь к «своим», знает состояние вещей и объясняет это читателям, явным образом прибегая к непререкаемой власти авторитета народной мудрости, говоря от имени большинства. Тем самым одобряется чеченская традиция, которая бы ни за что не одобрила вовлечение женщин в войну, однако умалчивается о мнении чеченского народа по поводу теракта как такового.
Он сам не мужчина, хуже бабы – эта поговорка, имеющая смысл «сомнения в мужском достоинстве» подводит читателя к выводу о нелигитимности участия женщин в войне (включая теракты), имлицитным образом исходя из предположения о том, что женщина для этого непригодна. Женщина здесь – баба, которая при сравнении с «неправильным» мужчиной выигрывает лишь на смысловом континууме «плохое-хуже». Отметим, что Коран как идейная основа ислама, играющего важнейшую роль в чеченской культуре, содержит социальную доктрину, в которой женщина вовсе не расценивается как недостойное и второстепенное существо. Сохранились хадисы Мухаммада, его изречения, посвященные женщинам, их достоинствам и способностям. Некоторые женские персонажи истории у мусульман почитаются вовсе не за их основные качества матерей и жен, а за ум, храбрость и даже воинские заслуги. Так, о третьей жене Мухаммада Айше было известно, что она активно боролась против Османа, она прославилась своими рассказами о пророке, оставив тысячу двести хадисов; пятая жена Зайнаб была умна и честолюбива; Сафийа Бинт Абдель Мутталиб была первой мусульманкой, убившей язычника на войне, в битве при Ухуде, а Асма Бинт Абу Бакр была знаменита благодаря своей щедрости и разуму1.
Рассматриваемая публикация2 может служить ярким примером негативной и неэтичной тональности дискурса. Как утверждает Р.Ямадаев,
1 См.: Мовсумова Л. Философский анализ женских образов в Коране. Баку: «Азер-
байджанская энциклопедия», 1997.
2 Ямадаев Р. Они прячутся за женские спины, позор! // Комсомольская правда,25 октября.2002.С.4.

Тема 3.1 |
323 |
«Свой «бабий батальон» Бараев набирал, что называется, «с бору по сосенке». В основном, это женщины, у которых от смерти близких помутился рассудок, не сложилась личная жизнь. Есть и девицы откровенно лёгкого поведения. Они в Чечне – вроде бездомных собак. Так вот, первым легко задурить голову мыслями о мести, джихаде, священной войне. Вторым – репутация не позволяет вернуться к нормальной жизни». В рассуждениях автора, возводящего своё собственное мнение в ранг универсальной системы, фиксируется представление женщин как объектов действия, террористки здесь – знак непротивления, подчинённые, повинующиеся, страдательные – их собирают и скапливают «с миру по нитке», а Бараев – властный, деятельный собственник женского террористического «подразделения». Текст транслирует женоненавистнические, патриархатные убеждения, террористки показаны неразумными, помешанными, девиантами и изгоями.
Таким образом, здесь фиксируются стереотипные модели, трактующие привлечение женщин к участию в терактах в терминах моральной и психической патологии, позиционирующих их в качестве объектов мужского выбора: «Скажу и об упрямстве чеченских женщин. Может быть, с ними и трудно будет договориться. Но ведь эти женщины там ничего не решают! Они там просто мясо, обвешанное взрывчаткой»1. Проанализировав другие газетные публикации2, мы видим, что репрезентации жен- щин-террористок и мужчин-террористов в популярных СМИ существенно различаются. Женщины воплощают девиацию по отношению к мужчинам, поскольку демонстрируют сбой этнической идентичности, не соответствуют конфессиональным регламентам и отклоняются от гендерной нормы. При этом идеология журналистского дискурса связана с непризнанием женского участия в терроризме в качестве технологии боевых действий и апеллирует к устойчивым патриархатным объяснениям, позволяющим идентифицировать рассматриваемое явление в качестве патологии – «последнего аргумента» необъявленной войны. Особенностью пресс-дискус- сий было осмысление темы женского участия в терактах на основе сравнений женщин с мужчинами – своеобразной «нормой» в мире терроризма. При этом отличительными характеристиками участниц теракта были показаны нерациональность, чрезмерная агрессивность, фанатичность и более высокая опасность, по сравнению с мужчинами.
Если судить по рассмотренным публикациям, то женщины-терро- ристки – это инертная и вспомогательная часть террористической группы, в которую их набирают, а затем используют организаторы и собственники-
1 Там же.
2 Подробнее см.: Романов П.В., Щебланова В.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Женщинытеррористки в интерпретативных моделях СМИ. Дискурс-анализ газетных публикаций // Полис. 2003. №6. С.144-154.

324 |
Модуль 3 |
мужчины. Тексты статей во всех трех выбранных нами изданиях использовали парадигматическую структуру, включающие дихотомии приватное / публичное, эмоциональность / рациональность, подчинённое / властное, дом / война как разделённые символические территории и характеристики поведения, приписываемых соответственно женщинам и мужчинам. Согласно репрезентациям, террористки демонстрируют сбой этнической идентичности и отклоняются от конфессиональных норм. Как компетентные органы, так и эксперты по психологии и этнической культуре, а также журналисты продемонстрировали неготовность объяснять участие женщин в терактах с рациональных позиций. Средства массовой информации не решились признать, что те, кто ведут сегодня террористическую войну, приспосабливаются к культурным ожиданиям своих противников, создавая новые технологии, трансформируя собственные человеческие ресурсы, пополняя свои ряды бойцами разнообразной внешности, женщинами и детьми.
Наверное, только особенности нашего восприятия, подчиняющегося привычным «правилам игры», не позволяют нам понять, почему это вдруг женщина стреляет и убивает, что это вовсе не особенность конкретной женщины, а логика войны, боевых действий. То ли из-за отсутствия научного анализа современных террористических технологий, то ли из-за желания огородить общество от этого знания, печатные СМИ довольствовались осуждением «плохих» и «неправильных» женщин, будто бы стремясь избежать когнитивного диссонанса и не желая воспринимать «странную» войну с рациональных позиций. Как показал анализ репрезентаций, российские спецслужбы, военные и журналисты в публичном дискурсе демонстрируют неготовность к восприятию женщин в качестве наемных убийц-профи и склонны объяснять этот феномен индивидуальными патологиями психиатрического или морального свойства.
Исследования СМИ в духе социального конструктивизма позволяют вскрыть приемы и проследить процессы создания социальных проблем средствами массовой коммуникации. При этом становится заметна конкуренция между социальными проблемами за место на «повестке дня», как и конкуренция между различными СМИ за монополию на право определять те или иные явления в качестве проблем или давать им особую политическую характеристику. Одним из непреднамеренных последствий медиаконструирования социальных проблем является «эмоциональное выгорание» аудитории – об этом пишет в своих работах казанский исследователь И.Ясавеев1.
Источником информации в контент-анализе могут служить предметы обихода, инструменты повседневной деятельности специалиста какой-
1 Ясавеев И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации. Казань: Изд-во Казанского университета, 2004.

Тема 3.1 |
325 |
либо профессии, одежда, история вещей или история дома1. Список можно было бы продолжать бесконечно. Отметим, что контент-анализ вещественных документов, текстов может применяться в сочетании с другими методами, при этом важно, чтобы выбор используемого метода был обоснован, а анализ и интерпретация полученных данных логично связывались с исследовательской концепцией.
Кроме того, применяются фотографические и звукозаписывающие методы. В области визуальной антропологии и этнографического кино развиваются все более сложные методы, которые внедряются в исследовательский дизайн и анализ данных.
Визуальная антропология
Фотографии не так давно начали привлекать внимание социологов, тогда как социальные антропологи более активно и уже традиционно обращаются к этому источнику информации. Фотографии выступают одновременно как иллюстрация и визуальная репрезентация: «Запечатленный фотографией образ не только воспроизводит внешний вид человека, но и позволяет более наглядно представить образ той эпохи, которой он принадлежит: мелочи быта, одежду, настроение – дух времени»2. Этот дух времени содержится в том, что именно стало вниманием фотографа, какое расположение фигур и какой ракурс он выбрал, что и в какой последовательности было отобрано для публикации в книге или журнале, помещено в семейный альбом или на рекламный щит. И хотя при прочтении фотодокументов широко применяется анализ невербального языка – языка тела, жестов, мимики и взглядов, большое значение имеет и то, какие надписи сопутствуют снимку, каково пространственное расположение фотографии, скажем, на газетной полосе и выбор субъекта (женщины, мужчины) в качестве означающего.
Как полагает визуальный этнограф Сэра Пинк3, в современном контексте этнография и изучение визуальных форм (visual studies) могут существенно обогатить друг друга. Фотография, видео и электронные средства (медиа) все более внедряются в работу этнографов: в качестве культурных текстов; как репрезентации этнографического знания; как контексты культурного производства, социального взаимодействия и индивидуального опыта, которые сами по себе представляют сферы этнографической полевой работы. Визуальные образы и технологии сегодня формируют области, методы и медиа этнографических исследований и репрезентаций, как и темы университетских учебных курсов по визуальной антропологии, визуальной социологии или визуальной культуре. Одновременно, преимуще-
1Там же. С.115.
2Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: Добросвет, 1998. С.113.
3 Pink S. Doing Visual Ethnography. London: Sage, 2001
326 |
Модуль 3 |
ства этнографического подхода известны в образовательных программам по визуальному искусству и средствам (медиа) в таком, например, предмете, как «медиа этнография». Кроме того, этнографические исследовательские методы и антропологическая теория используется в развитии фотографической практики и репрезентации.
Научных подходов к социальному исследованию существует множество, и студенты, которые желают использовать визуальные методы, должны иметь хорошее знание о дебатах, которые окружают применение визуального в социальных исследованиях. Теоретические основания, к которым относятся конкретные методы и практики, должны быть эксплицитны, их следует подвергать сомнению, и именно по этой причине позитивистские и герменевтические подходы часто конфликтуют между собой. Как полагает С.Пинк, подход тех визуальных социологов, кто нацелен внедрить визуальное измерение в уже утвердившуюся методологию, основанную на «научном» подходе к социологии, не позволяют реализовать потенциал визуального в этнографии. Сторонники этой консервативной стратегии не видят всей ценности визуального для позитивистской социологии, где доминирует письменная речь, тем самым значение образов в исследованиях в рамках той социологии, которая отвергла значимость визуальных смыслов и недооценила их потенциал для репрезентации и создания новых типов этнографического знания.
Однако, имиджи не обязательно должны заменять слова в качестве доминантного способа исследования или репрезентации, скорее, их следует рассматривать как равноценно значимый элемент этнографического мира. Тем самым, визуальные образы, объекты, описания должны включаться тогда, когда это оправдано и возможно, и если это способствует прояснению. Образы не обязательно должны быть главным исследовательским методом или темой, но посредством их связи с другими чувственными, материальными и дискурсивными элементами исследования могут проявиться совершенно новые, ранее игнорируемые аспекты, в частности, можно лучше понять, что восприятие в незападных обществах осуществляется не только посредством зрения но и обоняния, осязания, вкуса и слуха». В некоторых проектах визуальное может стать более важным, чем сказанное или написанное слово, в других – нет. Поэтому не должно быть никакой иерархии знаний или средств для этнографической репрезентации, и никакие академические эпистемологии и конвенциальные академические способы репрезентации не должны использоваться, чтобы затенять и абстрагировать эпистемологии и реальность опыта местных людей. Скорее, они могут дополнять друг друга как разные типы этнографического знания, которое может быть переживаемым опытом и репрезентироваться спектром различных текстуальных, визуальных и других чувственных способов.
Тема 3.1 |
327 |
Антропология, социология, культурология (cultural studies), обучение и изучение фотографии, изучение масс медиа разделяют интерес к материальной культуре, практикам репрезентаций, интерпретациям культурных текстов и пониманию социальных отношений и индивидуального опыта, но каждая дисциплина предлагает ее собственное понимание визуального в культуре и обществе.
Антропология подчас объектифицирует культуру (например, искусство), отделяя ее от повседневной жизни, а культурология обращаются с людьми как с текстуальными объектами, а не с агентами. Конечно, знание о напряжении между текстом и повседневностью, не является исключительно антропологическим. В качестве связующего звена между культурологическими и антропологическими подходами выступает этнография, которая инкорпорирует визуальные имиджи и технологии. Этот подход признает переплетенность объектов, текстов, имиджей и технологий в повседневной жизни и идентичностях людей. Он нацелен не только на «изучение» социальных практик людей или на чтение культурных объектов или представлений, как если бы они были текстами, но на раскрытие того, как все разнообразные типы нарративов и дискурсов переплетаются с социальными отношениями, практиками и индивидуальными опытами, благодаря этому приобретая осмысленность.
Фотографическое исследование имеет длинную историю в социальной науке, начиная от колониальных архивов и архивов фотографий преступников, создаваемых в начале двадцатого века, до более современных исследований, в которых этнографы сотрудничали с информантами посредством фотографий для документирования аспектов их культур. Создание фотографических заметок зачастую было основано на предположении о том, что фотографируемые артефакты имеют законченные, зафиксированные символические смыслы. Например, проводя систематическое фотографическое исследование визуальных аспектов материального содержания и организации дома, можно ответить на вопросы, относящиеся к экономическому уровню домохозяйства, его стилю, декору, видам деятельности, особенностям его уклада и знакам гостеприимства и отдыха. Однако, подобные фотографические заметки ограничены, поскольку они не указывают, каким образом эти объекты становятся частью жизненного опыта или осмысливаются теми людьми, в чьей жизни они так или иначе фигурируют. В последние годы этот подход фотоисследования применялся в основном визуальными социологами. Например, исследования символизма материальных объектов в доме или материальной среды брюссельского офиса норвежской мультинациональной химической компании. Пауэлс стремился контекстуализировать его визуальное исследование через интервью и анализ других аспектов офисной жизни. Однако, по мнению С.Пинк, эти исследования, основанные на реалистском подходе к фоторе-

328 |
Модуль 3 |
презентации, не полностью задействуют потенциал фотоисследования в этнографической работе, поскольку стремятся документировать визуальные факты и тем самым игнорируют идею о том, что фотографии сами являются субъективными репрезентациями.
Подход Д.Шварц1 к фотоисследовательской работе в Североамериканской фермерской общине Ваукома (Waukoma) является примером более близкого сотрудничества с информантами. Шварц определяет ее исследовательские фотографии ни как «объективные визуальные документы», ни как «фотографическую истину». Напротив, они «представляют точку зрения». Она использовала сделанные ею исследовательские образы физической среды Ваукома наряду со старыми фотографиями того же места в интервью с местными жителями. Вместо того, чтобы основывать свой анализ образов на их содержании, она осуществляет интерпретацию на основе «инсайтов, полученных посредством этнографической полевой работы и реакций на них информантов». В этой работе Шварц стремилась изучать спектр смыслов, которые эти образы несли для разных членов сообщества. Тем самым она воплотила идею, что визуальные смыслы являются бесспорно ключевыми элементами ее исследовательского метода.
Фотоисследования как попытки репрезентировать физическое окружение, события или представления могут входить в метод рефлексивной этнографии. Однако, к таким фотографиям следует относиться как репрезентациям аспектов культуры, а не к записям целых культур или символов, которые содержат в себе полные или фиксированные смыслы. Это, кроме того, имеет значение для того способа, которым этнографы хранят, категоризируют и анализируют фотографии.
Партисипаторная и совместная (коллаборативная) фотография
Этнографы сотрудничают с информантами разнообразными способами для того, чтобы создать фотографии. Имеющиеся примеры включают работу фотографа с одним информантом, с группами, включенными в конкретный контекст креативных или церемониальных действий, или эклектичные взаимодействия в различных случаях и на событиях как часть более широкого этнографического проекта. Если фотографии созданы «в сотрудничестве», они сочетают в себе намерения как этнографа/фотографа, так и информанта, и должны репрезентировать результаты их договоренностей.
Совместная (коллаборативная) фотография, как правило, включает этнографов, которые тем или иным образом вовлекаются в фотографическую культуру их информантов. В некоторых случаях они могли бы включать попытку воспроизвести типы образов, популярных в фотографических
1 Schwartz D. Waycoma Twilight: generalizations of the farm// Series on ethnographic inquiry. Washington DC: Smithsonian Institution Press, 1992
Тема 3.1 |
329 |
культурах информантов. В других проектах этнографы хотят создавать фотографии, которые относятся к местным фотографическим конвенциям, но также должны отвечать требованиям академической дисциплины. Намерения и цели исследователей и информантов сочетаются в их договоренностях, чтобы определять содержание фотографий способами, которые могут, разумеется, изменяться в различных проектах.
Например, информанты стремятся создавать семейные фотографии, образы, способные засвидетельствовать те или иные события, явления или статусы, они желают документировать локальные «традиции» или процесс работы, запечатлевать художественные выставки, создавать снимки в качестве сувениров или производить такие фотографии, которые могут использоваться для паблисити. Этнографы, в свою очередь, хотели бы создать образы, которые они могут опубликовать в академическом тексте или выставить на экспозиции. Они, по мысли С.Пинк, могут изучить местные фотографические стили, находя соответствие с конвенциями их академической дисциплины или производя образы, которые наследуют конкретную фотографическую традицию: например, реалистическая документация, экспрессивная или художественная фотография.
Существующие этнографические примеры указывают, что люди обычно быстро обучают потенциального фотографа тому, какие типы образов они хотели бы получить отснятыми. Иногда информанты фотографов требуют отказаться от убеждений, которые находятся в основе первоначальных интенций этнографов, и инициируют сдвиг в ожидаемых направлениях применения фотографии в качестве исследовательского метода. Например, соседи Сэры Пинк, когда она жила в Гвинее Бисау, очень хотели, чтобы та их фотографировала, и часто просили их снимать в моменты ее посещений. Однажды она пришла к ним на веранду утром, свет был очень хорош, но они сами не были готовы фотографироваться. Занятые работой, женщины были одеты в старую одежду, у них не было специально сделанных причесок. «Потом, потом», - повторяли они ей, говоря, что они придут ко мне домой, когда оденутся для фотографирования. Соседка Пинк однажды вечером зашла к ней домой домой, переодевшись из традиционной африканской одежды (в которой она носила воду), в красивую импортную европейскую футболку и юбку, в золотых серьгах и расчесав волосы. Она села за стол у Сэры дома, где та вела свой полевой дневник несколькими минутами ранее и приняла позу, взяв мою ручку, как будто бы она писала в моем блокноте. Сэра никогда раньше не видела свою соседку в такой позе. Она не смогла снять «документальные» образы повседневной жизни, на которые рассчитывала, но напротив, узнала, как местные женщины хотят репрезентировать себя через конкретный местный стиль портрета, практикуемого в фотостудиях и на публичных событиях и праздниках. Этот способ фотографирования позволил ей узнать о престижных элемен-
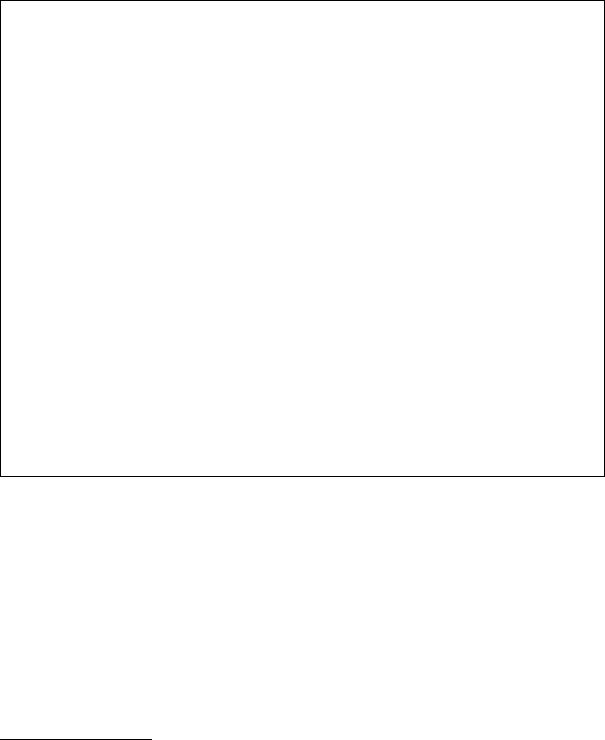
330 |
Модуль 3 |
тах, которые высоко ценятся местными женщинами, и о том, как люди представляют их ожидания посредством их визуальных саморепрезентаций.
Вот еще несколько примеров, которые приводит С.Пинк в своей книге о визуальной этнографии.
Антрополог К.Пинни описывает, как в течение его полевой работы в Индии в 1982 году, он узнал, как местные люди хотели быть представлены через его попытки фотографировать его информантов по принципам его собственного эстетического дизайна. Он отмечает, как он фотографирует его соседа, подходящего под желаемый образ: «искренний, раскрывающий, выразительный образ тех людей, среди которых я жил». Это был снимок в полроста, снятый в поле около пяти вечера: «хорошее время схватить заходящее, растворящееся солнце». Однако, его информант не был удовлетворен этим образом. Он «жаловался о тени, затемняющей его лицо, и отсутствии нижней половины его тела. Этот снимок был для него бесполезным». Информанты Пинни хотели получить фотографию другого типа, которую нужно было сделать в соответствии с другой процедурой. Эти фотографии «не могли быть сделаны быстро, так как требовалось много долгих подготовительных операций: одежду следовало сменить, волосы причесать и смазать маслом (а для женщин из высшей касты попудриться тальком, чтобы сделать кожу светлее)». Более того, их содержание и символизм соответствовали различным ожиданиям: «Эти фотографии должны быть в полный рост и симметричны, и пассивные, невыразительные лица и позы символизировали для меня в тот момент гашение именно того качества, который я так хотел запечатлеть на пленке»1.
Здесь речь идет о том, что предпочитаемый информантами способ портретной съемки указывает на то, что у них существуют ожидания от фотографии, как на их персональные и культурные использования образов. В своих исследованиях Пинк стала больше внимания уделять персональным фотоколлекциям, которые показывали ей местные женщины, чтобы интерпретировать то, как они хотели, чтобы их фотографировали: «Принятие мною фотоэкспектаций местных людей в отношении портретной фотографии руководило моей собственной фотографической практикой. Например, я поняла, что если я проявлю и напечатаю мои фотографии в дорогом (примерно втрое дороже, чем в Великобритании) фотомагазине в Биссау – столичном городе, имиджи моих информантов будут передержаны, пред-
1 Pinney C. Camera Indica: the social life of Indian photographers. London: Reacton Books, 1997.
