
4. Что такое и кто таков двойник в романе «Братья Карамазовы»?
Иван всегда рассматривается в соотнесении с персонажем, именуемым, как правило, его «двойником». Я имею в виду Смердякова. Смердяков большинству критиков кажется своего рода прямым порождением Ивана, как бы материализующим его идеи, превращающим их в реальность. Скажем, один из первых аналитиков, осознавших сверхвременное значение романа, известный славянофил Орест Миллер, писал: «Несчастный Смердяков, слепо подчинившись идеалу Ивана, <...> совершил преступление»1. Эту идею повторяют русские философы и исследователи больше столетия. Примеры бесконечны. Однако весьма существенно, что на самом деле идея эта была подкинута вначале прокурору, потом романной публике, затем читателям и, наконец, философской критике самим Смердяко-вым: «Он с истерическими слезами рассказывал мне на предварительном следствии, как этот молодой Карамазов, Иван Федорович, ужаснул его своим духовным безудер-жем. "Всё, дескать, по-ихнему, позволено, что ни есть в мире, и ничего впредь не должно быть запрещено, — вот они чему меня всё учили". Кажется, идиот на этом тезисе, которому обучили его, и сошел с ума окончательно» (15, 126-127. Курсив мой. - В.К.).
Итак, получается, что Смердяков слепое орудие Ивана, а потому и его двойник. Но такая трактовка двойничества,
1
Миллер
О. Русские
писатели после Гоголя. В 3-х т. Т. 1. СПб.,
1900.
С. 264.
448
— 1991
449
![]()
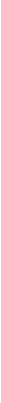
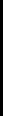 если
вдуматься, в общем-то сомнительна. В
традиции мировой
литературы двойник — это тот персонаж,
который, что
называется, подставляет
главного
героя, паразитирует
на
его внешности, его благородстве, его
происхождении и т.п.
Короче, является явным антагонистом и
врагом близкого
автору героя,
судьба которого составляет предмет
забот
того или иного произведения. Таков
злодеем был у самого Достоевского в
его «петербургской поэме» «Двойник»
господин Голядкин-младший. Он оказался
и находчивее,
и решительнее, и изворотливее, и подлее
Голядки-на-старшего,
которого он затирал, обходил на всех
поворотах
и довел, наконец, до сумасшествия,
выкинув в дом умалишенных
и заняв его место. Таков преступный и
кровавый
Викторин в «Элексирах дьявола» у
Гофмана, едва не погубивший
душу монаха Медардуса. Такова тень в
пьесе Евгения
Шварца «Тень».
если
вдуматься, в общем-то сомнительна. В
традиции мировой
литературы двойник — это тот персонаж,
который, что
называется, подставляет
главного
героя, паразитирует
на
его внешности, его благородстве, его
происхождении и т.п.
Короче, является явным антагонистом и
врагом близкого
автору героя,
судьба которого составляет предмет
забот
того или иного произведения. Таков
злодеем был у самого Достоевского в
его «петербургской поэме» «Двойник»
господин Голядкин-младший. Он оказался
и находчивее,
и решительнее, и изворотливее, и подлее
Голядки-на-старшего,
которого он затирал, обходил на всех
поворотах
и довел, наконец, до сумасшествия,
выкинув в дом умалишенных
и заняв его место. Таков преступный и
кровавый
Викторин в «Элексирах дьявола» у
Гофмана, едва не погубивший
душу монаха Медардуса. Такова тень в
пьесе Евгения
Шварца «Тень».
Даже когда двойник оказывается вроде бы порождением сознания главного героя как в романе Стивенсона «Странный случай с доктором Джекилем и мистером Хайдом», все равно побеждает своего, так сказать, родителя, убивая его. Но никогда не подчиняется главному герою. | Это закон, которому следует любой двойник.
Имеет смысл посмотреть в контексте этого рассуждения на Смердякова.
Кто же он таков? Прежде всего мы должны еще раз зафиксировать, что он из иного социального слоя, чем ■] Иван. Более того, Смердяков — человек из народа (Бердяев тут прав), о чем говорит сама его фамилия. Случайных фамилий своим героям Достоевский не давал. Происходит она от слова смерд. По Далю, «смерд <...> человек из черни, подлый (родом), мужик, особый разряд или сословие рабов, холопов; позже крепостной. <...> Смерда взгляд пуще брани. <...> Где смерд думал, тут Бог не был»1. От пренебрежительного отношения высших классов к крестьянам, смердам, возник и глагол смердеть, то есть пахнуть, как пахнут смерды. И это слово Достоевский использует в связи с преступлением Смердякова, то есть убийством Федора Павловича. Семинарист-карьерист Ракитин, беседуя с Алешей о реакции старца Зосимы на визит к нему семейства Карамазовых, как бы даже намекает на главного виновника: «Старик действительно прозорлив: уголовщину пронюхал. Смердит у вас» (14, 73. Курсив мой. — В. К).
1Даль
Вл. Толковый
словарь живого великорусского языка.
Т. IV.
М., 1982. С. 232.
Хотя, казалось бы, исходя из идеологии Достоевского, Смердяков должен быть сугубо положительный персонаж. Тем более, что не только фамилией, но и прямым авторским рассуждением связывается Смердяков с классическим типом из русского народа: «У живописца Крамского есть одна замечательная картина под названием "Созерцатель": изображен лес зимой, и в лесу, на дороге, в оборванном кафтанишке и лаптишках стоит один-одинешенек, в глубочайшем уединении забредший мужичонко, стоит и как бы задумался, но он не думает, а что-то "созерцает". Если б его толкнуть, он вздрогнул бы и посмотрел на вас, точно проснувшись, но ничего не понимая. Правда, сейчас бы и очнулся, а спросили бы его, о чем он это стоял и думал, то наверно бы ничего не припомнил, но зато наверно бы затаил в себе то впечатление, под которым находился во время своего созерцания. Впечатления же эти ему дороги, и он наверно их копит, неприметно и даже не сознавая, — для чего и зачем, конечно, тоже не знает: может, вдруг, накопив впечатлений за многие годы, бросит всё и уйдет в Иерусалим, скитаться и спасаться, а может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случится и то, и другое вместе. Созерцателей в народе довольно. Вот одним из таких созерцателей был наверно и Смердяков, и наверно тоже копил впечатления свои с жадностью, почти сам еще не зная зачем» (14, 116—117. Курсив мой. — В.К.). Однако Смердяков не раз декларирует свою ненависть к русскому народу, кичится своей мизерной образованностью («Может ли русский мужик против образованного человека чувство иметь? По необразованности своей он никакого чувства не может иметь. <...> Наш подлец в своей нищете смердит и ничего в этом дурного не находит. Русский народ надо пороть-с»; 14, 204—205), говорит о желании свое дело завести («Я при счастье могу в Москве кафе-ресторан открыть на Петровке»; 14, 205), то есть вроде бы выламывается из крестьянского состояния. Он — лакей, так его и Иван аттестует (по словам самого Смердякова): «А они про меня отнеслись, что я вонючий лакей» (14, 205). Именно этот социальный слой и называют обычно исследователи как силу, пугавшую Достоевского. Об этом в старой своей книге писал и автор этих строк1. Так
ли это?
Не забудем того, что свое дело завести мечтал в сущности любой мужик, едва выбившийся из крепостного
1983.
1 Кантор В.К. «Братья Карамазовы» Ф. Достоевского. М., С 100-103.
450
15»
451
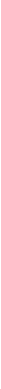 права
и бесконечной барщины. Это был закономерный
путь
всего крестьянского сословия от рабского
бесправия к
экономической самодеятельности: кто
уходил в извоз, кто
в артель строителей, кто лавчонку
открывал... Недаром Достоевский
на уровне почти художественно-бессознательном
(а может, и сознательном!) сближает
знаковые слова-символы
своего романа: Смердяков
говорит,
что русский мужик
смердит,
сознавая
при этом, что сам он — вонючий
лакей.
То есть вонючий
лакей рассуждает
презрительно о смердящих
смердах, себя
к таковым не относя. Ситуация отчасти
комическая. Хотя смешного тут мало.
Трагизм исторической
ситуации заключался в том, что Смердяков
не просто
представитель народа, а наиболее
продвинутой и все
время увеличивающейся его части. Ему
наплевать на высшую духовность (он
отвергает к примеру Гоголя: «Про неправду
всё написано, — ухмыляясь, прошамкал
Смердяков»;
14, 115), так же равнодушен он оказался и к
«Всеобщей
истории» Смарагдова. Ему нет дела до
остального мира.
Он целиком погружен в свои заботы: первый
признак
начальной образованности, лишенной
широкого кругозора.
Он, правда, благодаря своей небольшой
образованности
уже способен к созерцанию.
Но
все это не обогащено никакой
общей идеей. А потому эта склонность к
созерцательности может, как замечает
писатель, оказаться взрывчато-опасной
(«село родное вдруг спалит»).
права
и бесконечной барщины. Это был закономерный
путь
всего крестьянского сословия от рабского
бесправия к
экономической самодеятельности: кто
уходил в извоз, кто
в артель строителей, кто лавчонку
открывал... Недаром Достоевский
на уровне почти художественно-бессознательном
(а может, и сознательном!) сближает
знаковые слова-символы
своего романа: Смердяков
говорит,
что русский мужик
смердит,
сознавая
при этом, что сам он — вонючий
лакей.
То есть вонючий
лакей рассуждает
презрительно о смердящих
смердах, себя
к таковым не относя. Ситуация отчасти
комическая. Хотя смешного тут мало.
Трагизм исторической
ситуации заключался в том, что Смердяков
не просто
представитель народа, а наиболее
продвинутой и все
время увеличивающейся его части. Ему
наплевать на высшую духовность (он
отвергает к примеру Гоголя: «Про неправду
всё написано, — ухмыляясь, прошамкал
Смердяков»;
14, 115), так же равнодушен он оказался и к
«Всеобщей
истории» Смарагдова. Ему нет дела до
остального мира.
Он целиком погружен в свои заботы: первый
признак
начальной образованности, лишенной
широкого кругозора.
Он, правда, благодаря своей небольшой
образованности
уже способен к созерцанию.
Но
все это не обогащено никакой
общей идеей. А потому эта склонность к
созерцательности может, как замечает
писатель, оказаться взрывчато-опасной
(«село родное вдруг спалит»).
С одной стороны Достоевский боится: «Малообразованные, но уже успевшие окультуриться люди, окультуриться хотя бы только слабо и наружно, всего только в каких-нибудь привычках своих, в новых предрассудках, в | новом костюме, — вот эти-то всегда и начинают именно с того, что презирают прежнюю среду свою, свой народ и даже веру его, иногда даже до ненависти» (22, 115). С другой стороны, видя идущий и неизбежный процесс внедрения в народ грамотности, он надеется: «В народе нашем вполне сохранилась та твердая сердцевина, которая спасет его от излишеств и уклонений нашей культуры и выдержит грядущее к народу образование, без ущерба лику и образу народа русского» (22, 119). И все это на протяжении одной подглавки из «Дневника писателя» за 1876 (апрель). Проверка этой возможности сохранения народной правды—в образе Смердякова.
Здесь необходимы некоторые историко-теоретические пояснения. Тот тип христианства, который сложился в России после превращения ее из страны городов (Новго-родско-Киевская Русь) в страну крестьянскую, был своего рода рецепцией — со всеми вытекающими последствия-
452
ми — городской религии, каковой и было пришедшее на Русь из Византии христианство, религией образованных, грамотных слоев древнего общества. Напомню, что и на Руси именно города, княжеские и торгово-посадские города, были носителями новой веры в противовес языческому сельскому населению. Сошлюсь на фундаментальное исследование Макса Вебера: «Христианство было вначале учением странствующих ремесленников, специфически городской религией по своему характеру и оставалось таковой во все времена своего внешнего и внутреннего расцвета — в античности, в средние века, в пуританизме»1 (курсив мой. — В.К.). А потому столь сложно переживался именно в религиозно-метафизическом плане выход крестьянства из состояния патриархального невежества и приобщения к начаткам городского образования и грамотности. По сути это была проверка на духовную глубину, усвоенного народом христианства.
Грамотность, образование, проникавшие в народ, были закономерным результатом социально-исторического развития России. А образование, как иронизировал как-то Чернышевский, не лекарство, его разом не выпьешь. Стало быть, Россия обречена быть наводненной и малообразованными, и на треть образованными, и полуобразованными. Смердяковыми. Собственным искушением самого Достоевского была вера в святость русского народа. И вот одним из главных персонажей романа он делает мужика, смерда — в его грядущем непременном развитии.
Это «малообразованный» и становится двойником «высокообразованного». И вот здесь в разработанный мировой литературой образ двойника русский писатель вносит весьма существенное добавление. Двойник не просто паразитирует на главном герое, не просто старается прикрыть его обликом свои низменные мотивы и поступки — он еще выступает в роли искусителя главного героя.
