
История Всемирной Литературы / Коллектив авторов - История всемирной литературы Т.7 - 1991
.pdf
увеличивало силу их талантов, но и придавало их произведениям странный колорит то какой-то исступленности, то неизлечимой меланхолии, то пророческого бреда, неясных намеков на что-то, таинственных угроз кому-то. И все это давалось в странных образах, связь которых была трудно постигаема, в рифмах, звучавших какой-то особой печальной похоронной музыкой. ...А иногда в общем неясном шуме декадентских стихов раздавался действительно ценный и поэтический звук, искренний и простой, как молитва мытаря».
Первое по времени направление, заявившее о коренном пересмотре основ предшествующей поэзии, был французский «Парнас», возникший в 60-е годы. В нем уже заметны те черты, которые характеризовали в дальнейшем многие другие нереалистические направления в поэзии. Один из мэтров «Парнаса», Леконт де Лиль, причислял себя к «новой теократии», провозглашая некую новую обмирщѐнную веру в спасение через Красоту, непременно с большой буквы.
250
В их ярких, как бы застывших картинах, уводящих в экзотику или в древность, — явное родство с такими же картинами в исторических фресках Флобера. Конечно, у парнасцев нет той глубины социального видения, которая присуща Флоберу и в его исторической прозе.
Почти религиозное отношение к искусству характеризует все те поэтические течения, о которых идет речь. Вероисповедальная выстраданность творчества породила наряду с немалыми издержками и стремительные поэтические взлеты. Такое отношение к искусству было и реакцией на кризис христианства под натиском позитивистского мировоззрения, и на ограниченность позитивизма, вскоре отчетливо проявившуюся. Именно в кругу таких художественных исканий заключается смысл творчества одного из крупнейших французских поэтов того времени — Шарля Бодлера. Сам поэт ставит перед собой задачи невиданной сложности — прорыв в некое несказанное, иное измерение бытия. Он хочет чародействовать и создавать заклинания в разгар «здравомыслящей цивилизации». Конечно, тут таилась трагическая противоречивость творчества Бодлера, по тут же и ключ к тем его поэтическим открытиям, которые обновили поэзию. Бодлер остро ощущает свою эпоху как осеннее увядание цивилизации, в его поэзии создается горькая картина грехопадения и «предзакатного века». Несомненна связь поэзии Бодлера, как и всех нереалистических течений второй половины века, с эстетикой и практикой романтизма. Но именно в творчестве Бодлера раскрываются не только связи с романтизмом, но и кардинальные различия. У романтиков в конфликте между миром и личностью обычно так или иначе право на стороне личности, теперь же неблагополучие миропорядка отражается в ущербности человеческой души. «Для романтиков (Гельдерлина, Шелли, Китса и др.) решающим было торжество красоты и добра, а в нереалистических течениях конца XIX в., подхвативших романтическую утопию Красоты, это этическое измерение затушевывалось, а то и вовсе утрачивалось, что означало допущение аморализма красоты» (И. А. Тертерян). Демонизм проникал порой и в понимание красоты романтиками. Однако в самом этом демонизме было некое величие противостояния, свидетельствовавшее о тех гигантских масштабах, в которых предстает личность у романтиков. Это исчезает у Бодлера и его последователей. Зато теперь поэзия приблизилась к постижению множественной подвижности личности и сложности человеческой психологии. Недаром патриарх романтизма Гюго почувствовал в стихах Бодлера «новый трепет». Бодлеру во многом принадлежит и заслуга внедрения в лирику обыденного, в частности воссоздание поэзии большого города. И вместе с тем в его стихах передано ощущение некоего мирового единства, особенно ясно выраженное в программном стихотворении «Соответствия». Эта сторона творчества Бодлера была воспринята символистами.
Символисты унаследовали от парнасцев понимание поэзии как священнодействия в светском храме — башне из слоновой кости. Но они в гораздо большей степени делают акцент на подыскании ключей к тайне вселенского устроения. Автор манифеста

символизма Мореас заявлял, что «конкретные явления — простые видимости, призванные обнаружить свое эзотерическое сходство с исконными Идеями». Эти теории, восходящие к идеям Платона, соединяются с концепциями в духе Шопенгауэра, философа-пессимиста Гартмана и с учениями мистиков древности.
Символизм нашел большое распространение в западноевропейских литературах конца века, а также в русской и ряде восточноевропейских литератур. На родине символизма во Франции в оформлении его как направления приняли участие скорей менее значительные поэты. Они, так сказать, задним числом включили в это течение Бодлера и Рембо, которые ничего о нем вообще не знали. Верлен, один из признанных столпов символизма, тоже неоднократно возражал против включения своего творчества в его лоно. Однако внутренняя связь этих поэтов с принципами символизма несомненна. Верлен и Рембо стремились в своей поэзии «за черту земного», и им свойственна разведка чаемого, поиски «нездешней» действительности и выведывание вселенских тайн. В этом также, несомненно, ощутимо сближение с романтизмом. Для символистов характерно стирание граней между увиденным внешним и пережитым внутренним, а также утверждение своей особой магической власти над действительностью. В творчестве Малларме понимание поэзии как выражения таинственного смысла сущего ведет уже к чрезвычайной трудности восприятия сложных зашифрованных построений. Хотя и Верлен и Рембо стремятся не называть вещи, а намекать на них, настраивать на излучаемую волну, в их стихах присутствует подлинная поэтичность, открываются новые, более тонкие и гибкие приемы использования слова, находится многозначная и богатая образность и сильно эмоциональное воздействие.
Символизм сыграл значительную роль в дальнейшем развитии европейской поэзии. В разных национальных литературах время его возникновения и его специфика были различными. Скажем, немецкий символизм ближе к
251
романтизму. Специфическое свойство символизма — его особо интенсивная связь с живописью и музыкой. Так, подлинным откровением для символистов был «Цветной сонет» А. Рембо, в котором прокламируется внутренняя связь звуков и цветов. Символисты сделали чрезвычайно много в области обновления традиционного стиха, его ритма, рифмы, образности, синтетической конструкции.
Одно из течений, возникших в последнюю треть XIX в., — неоромантизм. Близость к романтикам выступает в этом течении прежде всего на уровне тематики, в стремлении уйти от тягостной прозы современного мира или в прошлое, или в область экзотики. Неоромантизм получил распространение прежде всего в Англии, затем в Германии, меньше во Франции. Для этого течения, особенно для английского неоромантизма, характерно стремление отыскать в возвышенном реальное (например, у Стивенсона). Они не столько противопоставляют человека среде, как делали романтики, сколько ищут, так сказать, «подходящую среду» для своих героев, не удовлетворенных прозой современности. Концепция личности и в неоромантизме, как и в других направлениях конца века, во многом противоположна романтической, и романтического воспевания человеческой активности тут, по существу, нет. Нет ни титанических личностей, ни пафоса борьбы с действительностью или даже мироустройством, нет и резкого противопоставления действительности и идеала, хотя бескрылому натурализму и упадочничеству декаданса неоромантизм пытается противостоять своими поисками прекрасного и яркого в жизни.
Важнейшая историческая тенденция последних десятилетий XIX в. — мощный рост организованного классового движения пролетариата и распространение марксизма. В 1864 г. была основана под руководством Маркса и Энгельса первая массовая международная организация пролетариата — Международное Товарищество рабочих, вошедшее в историю под названием I Интернационал и подготовившее предпосылки для

создания массовых социалистических рабочих партий в различных странах. Последние десятилетия века — период напряженной борьбы внутри партий, в которых проявлялись реформистские и анархистские тенденции.
Хотя между революциями 1848 и 1871 гг. пролетарская литература еще не представляет некоего самостоятельного целого, но все же идет процесс ее выделения из литературы общедемократической. В это время даже для передовой части пролетариата характерен такого рода социализм, который «представляет собой смесь из более умеренных критических замечаний, экономических положений и представлений различных основателей сект о будущем обществе» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20, С. 19). В то же время уже в 50—60-е годы собирались силы пролетарской литературы, оформлявшейся в качестве самостоятельного литературного направления после Парижской коммуны. В этот период складывается в разных странах Европы марксистская эстетика, для образования которой исключительна роль высказываний самих Маркса и Энгельса, касающихся коренных общих вопросов эстетики и исторических судеб реализма. Непосредственно воздействуют на литературный процесс такие выдающиеся эстетики-марксисты, как П. Лафарг, Фр. Меринг, и др. Для писателей пролетарского, социалистического направления характерны в этот период различные сочетания реализма и романтизма, однако в творчестве некоторых художников происходит становление нового метода социалистической литературы. Новыми идеями и новыми поэтическими формами обогащают поэзию французский поэт Эжен Потье, немецкий поэт Георг Гервег, выступавший как страстный обличитель прусской военщины и империалистической политики Бисмарка, и др.
Этот период в развитии социалистической литературы знаменуется становлением наряду с поэзией и прозаических жанров. Тут выдвигаются такие крупные писатели, как, например, Жюль Валлес, показавший формирование того типа людей, к которому относятся бойцы Коммуны.
Тяготение к социалистическим идеям проявляется также в утопии У. Морриса «Вести из ниоткуда». Социалистическое движение, усилившееся в Англии в 80-е годы, привело к созданию ряда произведений, изображавших борьбу рабочих за социальную справедливость. Среди писателей такого рода выделяются Маргарет Гаркнесс, Марк Резерфорд, создавший впечатляющий образ рабочего-революционера в романе «Революция в Теннерс-Лейн». Литература, проникнутая социалистическими идеями, развивается в Германии, Италии и в других европейских странах.
Особое значение для дальнейшего развития пролетарской литературы и становления ее новых направлений имела литература Парижской коммуны. Символично, что текст коммунистического партийного гимна «Интернационал» был написан поэтомкоммунаром Эженом Потье.
Роман и драма появляются в литературе, проникнутой пафосом Парижской коммуны,
252
тогда, когда возникает необходимость тщательного анализа итогов Коммуны, причин ее побед и поражений. Традиции литературы Парижской коммуны сыграли большую роль в становлении и развитии социалистической литературы XX в. Вера в правоту и в торжество революции, поиски подлинного героя, активного борца за социальную справедливость, — эти черты определяют роль литературы Парижской коммуны в дальнейшем развитии пролетарской и вообще социалистической литературы.
252
РОМАНИСТЫ И ДРАМАТУРГИ 50—60-х ГОДОВ

Начало 50-х годов XIX в. знаменует переломный рубеж в развитии французского общества прошлого столетия. Социально-исторические потрясения — кровавое подавление июньского рабочего движения 1848 г., а затем — цезаристский переворот Луи-Бонапарта 2 декабря 1851 г., вскоре утвердившего Вторую империю на обломках Второй республики, наложили глубочайший отпечаток на сознание и мироощущение творческой интеллигенции, которая во второй половине века создавала французскую культуру — философию и науку, литературу и искусство. Кровавый фарс Наполеона Малого, использовавшего незабытое обаяние имени «маленького корсиканца», был воспринят французской передовой общественной мыслью как доказательство несостоятельности прежних свободолюбимых мечтаний и идеалов, не выдержавших натиск пошлой и жестокой жизненной практики буржуазного «царства порядка». Для значительной части писателей представились в равной степени утопическими и сенсимонистские перспективы грядущего гармонического, справедливого порядка вещей, и романтические иллюзии, и вера Луи Блана в перспективу революционных возможностей восстающего народа.
Время Второй империи вплоть до ее крушения в 1870—1871 гг. в результате поражения во франко-прусской войне и Парижской коммуны представляет собой особый период в истории французской литературы.
Начало 50-х годов принесло французской литературе большие утраты. Смерть Бальзака, уход в изгнание Гюго, открыто выступившего против Наполеона Малого, жестокие цензурные рогатки, преследование демократических писателей, связанных с событиями 1848 г., временно ослабили голос французской словесности. Такая ситуация облегчила быстрое выдвижение группы романистов и драматургов — подлинных «духовных детей» Второй империи. Объявив поход против социального критицизма и «грубых тем» в литературе, они изображали действительность в идеализирующих тонах, прославляя буржуазную добропорядочность как одну из главных человеческих ценностей. Если в подобных произведениях и содержалось осуждение отдельных сторон общественных и семейных нравов, то гораздо громче звучали в них ноты апологетики буржуазного строя и морали. Эти авторы высмеивали возвышенный романтический протест героев Жорж Санд, однако весьма охотно применяли ходульные штампы эпигонов романтизма. Произведения такого рода в свое время пользовались успехом у буржуазной и мещанской публики благодаря умелому сочетанию сюжетной занимательности с нехитрыми уроками «здравого смысла», на поверку оказывающегося плоским практицизмом вполне в духе эпохи. Этому духу отвечает творчество Максима Дю Кана (1822—1894), поэта, прозаика и публициста. В своих стихотворениях Дю Кан прославляет технический прогресс, который для него олицетворяет успехи буржуазного общественного развития. В романах 50—60-х годов автор призывает умерить порывы к высоким идеалам, обрести цель жизни в утилитарной действительности.
Книгу популярного писателя Октава Фейе (1820—1890) «Роман бедного молодого человека» (1858) справедливо называли «романом бедного, но благородного молодого человека», ибо герой ее был совершенно неправдоподобным олицетворением всех героических добродетелей. Сент-Бѐв говорил, что эту книгу «распространяли как противоядие» против «Госпожи Бовари». По поводу романа Фейе «Сибилла» (1862), содержащего проповедь клерикальной догмы, Жорж Санд писала, что доктрина, которую отстаивает Фейе, «может создать угрозу принципу личной и общественной свободы».
Еще большую роль в пропаганде буржуазно-мещанских идеалов деловой активности и благопристойности играет драматургия эпохи Второй империи. Мелодрама и водевиль заменяют на подмостках французского театра
253
романтическую драму. В этой области были достигнуты известные «успехи ремесла»: умение строить стремительную интригу, живой остроумный диалог, создавать
занимательных правдоподобных персонажей. Наиболее известным драматургом этого круга был А. Дюма-сын (1824—1895), разрабатывавший один и тот же пласт моральной проблематики, связанный с конфликтами в буржуазных семьях. Поскольку тематика была злободневной, пьесы Дюма имели большой резонанс. Переделав свой роман «Дама с камелиями» (1848) в одноименную мелодраму (1852), Дюма обеспечил своей героине долгую жизнь на сцене, а опера Верди «Травиата» позже дала ей и бессмертие. Знаменательно, что моральное оправдание куртизанки Дюма видит не в искреннем, облагородившем ее чувстве (как это происходит в «Марион Делорм» Гюго), а в той жертве, которую она приносит в угоду буржуазным нравственным устоям. В дальнейших произведениях Дюма нарастает нравоучительный пафос, а в комедии «Иностранка» (1876) открыто прокламируется грубый шовинизм.
Плодовитые комедиографы Э. Ожье (1820—1889) и В. Сарду (1831—1908), увеселяя публику, не забывали превозносить «идеи порядка». В комедии «Зять господина Паурье» (1854) Ожье ратует за примирение легитимистского дворянства с буржуазией на благо Второй империи, а в драме «Сын Жибуайе» (1863) злобно высмеивает антибонапартистскую оппозицию.
Гораздо значительнее для развития французской литературы оказались так называемые реалистические бои.
Основателем и главным теоретиком «реалистической школы» 50-х годов был Шанфлери (псевдоним Жюля Юссона, 1821—1889). Новеллы и «физиологические очерки» Шанфлери оказали влияние на целую плеяду писателей, наиболее выдающимся из которых был поэт и прозаик Анри Мюрже (1822—1861). Во многом опираясь на опыт Шанфлери, Мюрже создал свой известный роман «Сцены из жизни богемы» (1848). Но, если Мюрже оставался в пределах изображения быта Латинского квартала, романтически привлекательного своим антиконформизмом, путь самого Шанфлери складывается иначе.
В 1848 г. Шанфлери приветствует Февральскую революцию и вместе с Бодлером активно сотрудничает в основанной ими республиканской газете «Салю пюблик» («Общественное спасение»). События 1848—1851 гг. углубили его антибуржуазные настроения.
С начала 50-х годов большое влияние на Шанфлери оказал художник Курбе. Появление картин «Похороны в Орнане» (1849) и «Каменщики» (1850), а затем персональная выставка 1855 г. делает Курбе признанным вождем реалистического искусства. В развернувшейся ожесточенной полемике между реакционной и прогрессивной художественной критикой Курбе активно и последовательно отстаивал свои эстетические принципы «неприкрашенной правды». Шанфлери принимал в этой «битве за реализм» энергичное участие. В его статьях об искусстве 1853—1857 гг. сформировалась и литературная теория писателя. В 1857 г. он собрал все свои программные статьи и предисловия к романам в книге «Реализм», предпослав этому сборнику довольно пространное введение, которое стало манифестом «реалистической школы».
Шанфлери призывает изучать действительность, тщательно собирать материал для художественного наблюдения, ни в коей мере не приукрашивать факты. Искусство должно быть искренним и независимым — такова основная эстетическая программа Шанфлери. Однако лозунг независимости искусства он понимает как свободу художника и от подражания образцам, и от «тенденций»: как только писатель примется защищать какой-нибудь тезис, он, по убеждению Шанфлери, перестает быть правдивым.
Таким образом, понятие «реализм» в эстетической теории Шанфлери получает упрощенное, обедненное истолкование — не как проникновение в сущность общественных процессов и человеческого характера, а как объективистское «освобождение» от идеи, описание повседневности вне связи отдельных событий и фактов с социальными проблемами.

В ряде статей Шанфлери заявляет о своем стремлении быть продолжателем Бальзака, которого он считает «величайшим романистом XIX века». Однако у Бальзака он уловил только приемы, манеру изображения героя или обстановки, не усвоив самой сущности его реализма, его принципов типизации и беспощадного анализа противоречий социальной действительности.
Романы Шанфлери — «Буржуа из Молен-шара» (1855), «Господин де Баудивер» (1856), «Наследство Ле Камю» (1857) и другие представляют собой зарисовки сцен провинциальной жизни буржуазных кругов, нравов обывателей, закулисных происков духовенства. Однако, изображая в своих романах события сами по себе малозначительные, Шанфлери не умеет подняться до широкого обобщения. Человеческие судьбы так и остаются отдельными случаями, «кусками жизни».
Антибуржуазная направленность творчества Шанфлери обусловила его относительный успех
254
среди демократических читателей и одновременно вызвала непрерывную травлю его со стороны реакционных критиков.
В середине 50-х годов вокруг Шанфлери объединялась группа его последователей и учеников. Наиболее одаренным литератором из этой группы был Луи-Эмиль Дюранти (1833—1880), который в 1856—1857 гг. совместно с критиком Жаном Ассеза издавал ежемесячный журнал «Реализм». В своих статьях, написанных в резком полемическом тоне, Дюранти высмеивает салонных литераторов типа О. Фейе, отстаивает принципы Курбе и Шанфлери. В то же время Дюранти поверхностно понимает социальную значимость искусства: он считает, что реализм ставит перед искусством цель быть практически полезным. В романах Дюранти «Несчастья Генриэтты Жерар» (1857) и «Дело красавца Гийома» (1862) детально описаны провинциальные нравы в сатирическом освещении.
Шанфлери и его последователи не обладали ни широтой кругозора, ни достаточно сильным художественным дарованием, чтобы подняться до подлинно реалистических обобщений в теории или в творчестве. Эстетика и творчество Шанфлери и его последователей не встречали одобрительного отношения со стороны братьев Гонкур и Флобера, который с раздражением говорил: «Меня обвиняют в реализме, т. е. в копировании того, что я вижу, и в неспособности к воображению».
В своем предисловии к сборнику «Реализм» Шанфлери призывал художника изображать «низшие» классы, называл народ живой силой, которой надлежит «двигать социальным механизмом». Народная тематика — главное достоинство романов, совместно созданных эльзасскими писателями Эмилем Эркманом (1823—1899) и Александром Шатрианом (1826—1890), убежденными антибонапартистами и республиканцами. В их серии «Национальных романов» 60-х годов удачно соединялась областническая тематика — жизнь и быт родного Эльзаса — с более широкими горизонтами изображения истории войн Франции времен Первой республики и Наполеона I. Романы «Тереза, или Добровольцы 1792 года» (1863) и «Безумец Егоф» (1862) пронизаны прославлением республиканских идеалов свободы, равенства, братства. В романах «Рекрут 1813 года» (1864) и «Ватерлоо» (1865) авторы открыто выступают против завоевательных войн, что в эпоху военных авантюр Второй империи звучало острооппозиционно. Лучший из их романов — «Рекрут 1813 года» повествует о последних наполеоновских кампаниях с позиций простого человека-труженика, которому глубоко чужд милитаризм. Это произведение, которое буржуазная критика объявила «непатриотичным», завоевало огромную популярность во французской деревне.
Роман Эркмана-Шатриана «История одного крестьянина» (1868), в котором столетний крестьянин рассказывает о великой революции 1789—1793 гг., свидетелем и участником которой он был, получил известность в России.

Однако в произведениях Эркмана-Шатриана несколько односторонне изображен человек из народа. Их крестьяне идеализированы, благодушны; герои похожи друг на друга. В раскрытии темы «народ в истории, народ на войне» недостает масштабности, хотя основная коллизия — враждебность народных масс милитаризму — выявлена правдиво и убедительно. Романы Эркмана-Шатриана в известной степени предвосхитили военную тематику в творчестве Золя — автора «Разгрома» — и в ряде новелл Мопассана. «Национальный роман» Эркмана-Шатриана имел свой резонанс в европейской литературе. Испанский писатель-реалист Перес Гальдос под несомненным влиянием французских романистов в 70-е годы предпринял серию романов «Национальные эпизоды», посвященных испанской истории XIX в.
Реалистическая битва 50-х годов расчистила почву для дальнейших исканий в области изображения правды жизни. Но и «школа Шанфлери», и творчество Эркмана-Шатриана быстро утратили свое значение после появления «Госпожи Бовари», открывшей новые горизонты развития французской литературы второй половины XIX в.
254
ГЮСТАВ ФЛОБЕР
Гюстав Флобер (1821—1880) — один из трех великих реалистов Франции, чье творчество определило магистральное развитие ее литературы в XIX в. и оказало решающее воздействие на развитие французского романа XIX—XX вв.
Флобер четко представлял свое историческое место в истории французской литературы. Восхищаясь Бальзаком, его глубоким пониманием своей эпохи, Флобер проницательно заметил, что великий романист умер в тот исторический момент, когда общество, которое он великолепно знал, начало клониться к закату. «С Луи-Филиппом ушло что-то такое, что никогда не возвратится, — писал Флобер Луи Буйле, узнав о смерти Бальзака. — Теперь нужна другая музыка».
255
Ощущение того, что он живет в ином мире, чем Бальзак, в мире, требующем от художника иной позиции, иного отношения к материалу, присуще Флоберу в высшей степени. В одном из писем он обронил такую принципиально важную для понимания его творчества фразу: «Реакция 1848 года вырыла пропасть между двумя Франциями».
Этой пропастью Флобер отделен от Стендаля и Бальзака.
Подобное утверждение вовсе не означает, что Флобер отрицал сделанное его великими предшественниками. Можно даже сказать, что в созданном им типе романа воплотились многие достижения французского реализма первой половины века. Но в то же время флоберовская концепция искусства, как и сами его произведения, могла возникнуть только во Франции, пережившей трагедию 1848 г.
Сложность и драматическая противоречивость нового этапа в развитии духовной жизни страны получили в прозе Флобера и поэзии Бодлера и других «проклятых» поэтов этой поры свое наиболее полное выражение.
Произведения Флобера с неумолимой последовательностью и художественной силой выражают неприятие писателем мира буржуазной Франции, и в этом он остается верен социальному пафосу романов Стендаля и Бальзака. Но, наблюдая измельчание и вырождение того общества, становление и упрочение которого описали реалисты первой половины века, Флобер в отличие от них оказывается чуждым пафосу утверждения. Все, что он видит вокруг себя, внушает ему мысль о ничтожности, глупости, убожестве мира, где господствует преуспевающий буржуа. Современность мыслится им как конечный этап
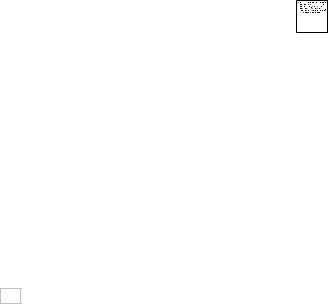
развития, и неспособность увидеть перспективу становится характерной чертой его концепции исторического процесса. И когда, стремясь спастись от жалкого меркантилизма и бездуховности современного общества, Флобер погружается в прошлое, то и там его обостренная проницательность находит низменные интриги, религиозное изуверство и духовную нищету. Так, отношение к современности окрашивает и его восприятие минувших эпох.
Подобный взгляд на мир — вовсе не результат врожденного скептицизма Флобера, о чем приходится порой читать в работах некоторых французских литературоведов. Это и не романтический бунт художника против «низкой» толпы и вульгарной повседневности. Скепсис, даже мизантропия, не столько индивидуальная черта Флобера, сколько особенность мировоззрения определенной части французской творческой интеллигенции, которая, разуверившись в возможностях буржуазного прогресса, стала отрицать идею общественного прогресса вообще. Скептическое отношение к действительности стало для таких художников единственным «способом существования», позицией, позволявшей духовно выстоять под напором буржуазного бытия.
Гюстав Флобер
Фотография Ф. Нодара. Около 1860 г.
Флобер принадлежал к числу тех французских художников, которые в своей оценке современности не разделяли позитивистской веры в обновляющую общественную роль науки и техники. Это неприятие Флобером основного пафоса позитивистской доктрины ставит его на совершенно особое место в развитии французской литературы второй половины века, служит серьезным аргументом против литературоведческих тенденций представить Флобера как предшественника натурализма. Писатель не отрицает науку как таковую, более того, ему кажется, что многое из научного подхода к явлению может и должно перейти в искусство. Но в отличие от позитивистов он не согласен абсолютизировать роль науки в жизни общества и рассматривать ее как некий субститут религии и социальных убеждений. Не приемля позитивистского биологизма натуралистов
256
и ряда их других эстетических положений, Флобер остается верным традициям реализма, однако реализм в его творчестве предстает в новом качестве и характеризуется и рядом достижений, и определенными утратами по сравнению с первой половиной XIX в.
Бескомпромиссное отрицание современного миропорядка сочетается у Флобера со страстной верой в искусство, которое представляется писателю единственной областью человеческой деятельности, еще не зараженной пошлостью и меркантилизмом буржуазных отношений. В концепции Флобера подлинное искусство творят избранники, оно заменяет религию и науку и является высшим проявлением человеческого духа. «...Искусство — единственное, что есть истинного и хорошего в жизни!» — это убеждение он сохранил до конца дней. В подобном отношении к искусству писатель не одинок: оно характерно для духовной жизни Франции второй половины XIX в. Так, Бодлер и Леконт де Лиль, ощущая крах «духовных опор» европейской цивилизации, прежде всего христианства, надеялись обрести в искусстве эти «опоры» и хотели даже видеть в художнике пророка или жреца новой религии, которая спасет человечество от вырождения.
Служению искусству Флобер посвятил всю свою жизнь.
Юность Флобера прошла в провинции 30—40-х годов, впоследствии воссозданной в его произведениях. В 1840 г. он поступил на факультет права в Париже, но из-за болезни бросил университет. В 1844 г. его отец, главный врач руанской больницы, купил

небольшое поместье Круассе, неподалеку от Руана, здесь и поселился будущий писатель. В Круассе прошла большая часть его жизни, небогатая внешними событиями. Он покидал Круассе надолго лишь во время двух своих путешествий на Восток: в 1849—1851 гг. и во время работы над «Саламбо». Флобер жил в своем доме уединенно, поглощенный работой, превыше которой не было для него в жизни ничего и которая изредка прерывалась визитами немногочисленных друзей или редкими поездками в Париж.
Творчество — постоянный предмет его раздумий, одна из главных тем его обширной переписки. В одном из писем к Жорж Санд (апрель 1876 г.) он писал: «Я помню, как билось мое сердце, какое сильное я испытывал наслаждение, созерцая одну из стен Акрополя, совершенно голую стену... Я спрашивал себя, не может ли книга, независимо от ее содержания, оказывать такое же действие? Нет ли в точном подборе материала, в редкостности составных частей, в чисто внешнем лоске, в общей гармонии, нет ли здесь какого-то существенного свойства, своего рода божественной силы, чего-то вечного как принцип?»
Подобные размышления во многом соприкасаются с тем культом «чистого искусства», который был распространен во Франции этих лет и которому определенным образом не был чужд и Флобер. Ведь не случайно он говорил, что мечтает о создании произведения ни о чем, которое держалось бы только на стиле. В неутомимых поисках совершенства формы, в изнуряющей и нескончаемой работе над стилем был источник и силы и слабости Флобера. Его поиски новых художественных приемов, его убежденность в том, что существует только один-единственный способ повествования, адекватный выражаемой идее, повлекли за собой целый ряд художественных открытий. Размышления Флобера о содержательной форме, о взаимообусловленности Идеи и Стиля обогатили теорию и практику реализма. В то же время сосредоточенность на формальных поисках, надежда на то, что спасение от ненавистной действительности можно обрести в «чистом искусстве», ограничивали кругозор Флобера, и это не могло не сказаться на его творчестве. Тем не менее преклонение перед формой никогда им не абсолютизировалось; обрекая себя на мучительную работу над словом, он никогда не превращал эту работу в самоцель, а подчинял ее высшей задаче — выразить глубинное содержание духовной и общественной жизни своей эпохи.
Эта задача блистательно решена в романе «Госпожа Бовари» (журнальная публикация
— 1856, отдельное издание — 1857). В предшествующем творчестве Флобера осуществляется своего рода подготовка, поиски форм и решений, определение круга проблем, к которым так или иначе он будет неизменно обращаться впоследствии.
Среди произведений Флобера 40-х годов, отмеченных влиянием романтизма, наибольший интерес представляют первая редакция «Воспитания чувств» (1845) и первая редакция философской драмы «Искушение святого Антония» (1849).
С романом «Воспитание чувств», вышедшим почти четверть века спустя, юношеское произведение Флобера имеет мало общего. Но проблематика, выбор основных действующих лиц, система изобразительных средств — все в этой повести важно для понимания того, с чего начинал молодой писатель. Проблема выбора пути художника и места искусства в жизни решается здесь чисто романтически.
В «Искушении святого Антония», навеянном
257
полотном Брейгеля, Флобер впервые обратился к проблеме, которая будет занимать его всю жизнь, — критическому осмыслению всех человеческих верований во имя поисков истины. Вторая редакция произведения в отрывках публиковалась в 1856 г.; третья — в 1874 г. Не случайно Флобер называл «Искушение» произведением всей своей жизни.
Осенью 1851 г. Флобер создает первую сюжетную разработку будущего романа «Госпожа Бовари». Работа над романом заняла более четырех с половиной лет. Это были
годы неустанного, почти мучительного труда, когда Флобер по многу раз переделывал и отшлифовывал строчку за строчкой.
Подзаголовок, данный роману, — «Провинциальные нравы» — сразу же как будто включает его в классическую традицию французской литературы первой половины XIX в. Тем не менее от стендалевского Верьера и бальзаковской провинции флоберовские Тост и Ионвиль отличаются решительно. «Госпожа Бовари» — это исследование современности, ведущееся средствами искусства, притом с помощью методов, близких методам естественных наук. Примечательно, что сам Флобер называл свое произведение анатомическим, а современники сравнивали его перо со скальпелем; показательна и знаменитая карикатура Лемо, изображающая, как Флобер рассматривает сердце своей героини, наколотое на острие ножа.
В исследовании современной жизни, предпринятом Флобером, новы не только методы, но и отношение автора к предмету изображения.
Если в «Сценах провинциальной жизни» Бальзака провинции противостоял Париж, то для Флобера такого противопоставления не существует; для него вся Франция — провинция, олицетворение ничтожества человеческих вожделений, всеобщего измельчания и опошления.
Работая над романом, Флобер замечал в письмах, что ему приходится писать серым по серому. В самом деле, картина буржуазного мира, нарисованная им, подавляет своей безысходностью: о том, что этот мир находится в руках финансовой аристократии, писал еще Бальзак; о том, что в этом мире нет ничего, способного противостоять буржуазному мышлению, до Флобера не говорил никто. «Я думаю, впервые читатели получат книгу, которая издевается и над героиней, и над героем», — писал Флобер о своем романе.
Выделяя Эмму Бовари из того убогого, бездуховного окружения, в котором она постоянно находится, — сначала на ферме у отца, затем в доме мужа в Тосте и Ионвиле, автор даже как будто сочувствует ей: ведь Эмма не похожа на остальных. Незаурядность Эммы состоит в том, что она не может примириться с пошлостью среды, убожество которой с такой убедительной силой показал Флобер. Эмму томит тоска, причины которой никто не может понять (замечательна в этом отношении сцена со священником Бурнизьеном). Это настоящая романтическая тоска, столь характерная для произведений французских писателей первой половины века. Она служит для героини оправданием в глазах ее создателя. Но трагедия Эммы Бовари заключается в том, что, бунтуя против мира обывателей, она в то же время является неотъемлемой его частью, его порождением, сливается с ним. Вкусы Эммы, представления о жизни и идеалы порождены все той же пошлой буржуазной средой. Со скрупулезностью естествоиспытателя, применяя свой метод объективного повествования, Флобер фиксирует мельчайшие детали, которые определяют внутренний мир Эммы, прослеживает все этапы ее воспитания чувств.
Известный исследователь творчества Флобера А. Тибоде заметил, что Эмма живет в плену «двойной иллюзии» — времени и места. Она верит в то, что время, которое ей предстоит прожить, непременно должно быть лучше того, что прожито. Она стремится к тому и может любить только то, что находится вне ее мира: она выходит замуж за Шарля только потому, что хочет покинуть отцовскую ферму; выйдя за него, она мечтает о том, что находится вне ее семейной жизни, поэтому неспособна любить не только мужа, но и дочь.
Для плохо образованной жены провинциального лекаря, духовные потребности которой сформированы монастырским воспитанием и чтением (среди авторов, которых читает Эмма, названы Ламартин и Шатобриан, и это весьма симптоматично), существуют два недосягаемых идеала — внешне красивая жизнь и возвышенная всепоглощающая любовь. С беспощадной иронией, иногда окрашенной грустью, показывает Флобер попытки Эммы украсить и «облагородить» свой быт, ее поиски неземной любви. Мечты героини о волшебных странах и сказочных принцах воспринимаются как пародия на
