
- •Содержание
- •Раздел 1. Профессиональная культура и методология региональных социально-гуманитарных исследований …………………………………………………………….
- •Раздел 2. Когнитивная ситуация в современном социально-гуманитарном познании и модели регионального научного исследования ……………………………
- •Раздел 3. Методологические проблемы региональных социально-гуманитарных исследований ….
- •Раздел 1. «Профессиональная культура и методология региональных социально-гуманитарных исследований…………………………………………
- •Раздел 2. «Когнитивная ситуация в современном социально-гуманитарном познании и модели регионального научного исследования»…
- •Раздел 3. Методологические проблемы региональных социально-гуманитарных исследований……………………………………………………..
- •Введение
- •Раздел 1.
- •1.1. Профессиональная культура и методологическая деятельность в социально-гуманитарных науках
- •1.1.1. Профессиональная культура исследователя
- •1.1.2. Рефлексия и методологическое сознание в социально-гуманитарном исследовании
- •1.1.3. Методологическая деятельность в социально-гуманитарных науках.
- •1.1.4. Проблема роста научного социально-гуманитарного знания
- •1.2. Региональное социально-гуманитарное исследование
- •1.2.1. Социально-гуманитарное исследование и идеалы научности
- •1.2.2. Логика и атрибутивные признаки научности социально-гуманитарного исследования
- •1.2.3. Типы социально-гуманитарных исследований
- •1.2.4. Специфика региональных социально-гуманитарных исследований
- •Раздел 2. Когнитивная ситуация в современном социально-гуманитарном познании и модели регионального научного исследования Преамбула
- •2.1. Когнитивная ситуация в современном социально-гуманитарном познании
- •2.1.1. Мультипарадигмальность социально-гуманитарного познания
- •2.1.2. Переход от монистической интерпретации социальной реальности к плюралистической
- •2.1.3. Особенности современного методологического сознания в социально-гуманитарных науках
- •2.1.4. Проблема истины в современном социально-гуманитарном познании
- •2.1.5. Проблема языка научного дискурса в социально-гуманитарном познании
- •2.1.6. Многообразие когнитивных практик и модели социально-гуманитарного исследования
- •2.2. Классическая модель регионального научного исследования
- •2.2.1. Дискурс Просвещения и классическая рациональность
- •2.2.2. Позитивизм и классическая модель научного исследования
- •2.2.3. Предмет и когнитивная стратегия классической модели научного исследования
- •2.3. Неклассическая модель регионального научного исследования
- •2.3.1. Дискурс Контрпросвещения и неклассическая рациональность
- •2.3.2. Антиозитивизм и неклассическая модель научного исследования
- •2.3.3. Предмет и когнитивная стратегия классической модели научного исследования
- •2.4. Постмодернизм и социально-гуманитарные исследования
- •2.4.1. Постмодернизм – «поминки» по дискурсу Просвещения
- •2.4.2. Постмодернистская критика классической науки
- •2.4.3. Когнитивная стратегия постмодернистской модели гуманитарного познания
- •2.5. Неоклассическая модель регионального научного исследования
- •2.5.1. Новый универсализм и неоклассическая рациональность
- •2.5.2. Критическое направление в социально-гуманитарном познании
- •2.5.3. Предмет и когнитивная стратегия неоклассической модели научного исследования
- •Раздел 3.
- •Методологические проблемы региональных
- •Социально-гуманитарных исследований
- •Преамбула
- •3.1. Глобализация и регионализация: методологические проблемы научного исследования
- •3.1.1. Новый универсализм – методология научного исследования глобального сообщества
- •3.1.2. Регионализация в многосоставных обществах: методологические проблемы научного исследования
- •3.2.2. Региональный политический процесс как «изменение во взаимодействии»: парадигма научного исследования
- •3.2.3. Политические ситуации и группы влияния в региональных политических процессах: методология научногоисследования
- •3.3.2. «Лики» этнократии: парадигмы научного исследования
- •3.3.3. Легитимность региональных этнократий: методологический конструкт исследования
- •3.4.2. Факторы региональной конфликтогенности: методология разноуровнего и разномасштабного исследования
- •3.4.3. Социально-политическое, этнополитическое и политическое измерения региональной конфликтогенности: методология научного исследования
- •3.5.2. Мультикультурализм и толерантность в полиэтнических регионах: парадигмы научного исследования
- •3.5.3. Межэтнические отношения и этническая толерантность: методология научного исследования
- •1. Ресурсно-акторный подход к исследованию региональных политических процессов связан с изучением:
- •2. Комплексное изучение политической ситуации в регионе предполагает следующую логику использования различных методологических походов:
- •3. Изучение структуры региональных групп влияния предполагает проведение следующих исследовательских операций:
- •4. Методологии ситуационно-факторного анализа конфликтогенных ситуаций в регионе предполагает следующую логику:
- •5. Изучение социально-политического измерения региональной конфликтогенности предполагает следующую логику научного исследования:
- •6. Методологический потенциал оппозиционного подхода при изучении этничности состоит в:
- •7. Коммуникативный тип региональной политики – это:
- •8. Субъективно-символический аспект характеризует этничность как:
- •Заключение
- •Профессиональных вам удач! Per aspera ad astra! приложение Ключи к тестам промежуточного контроля
- •Раздел 1 «Профессиональная культура и методология региональных социально-гуманитарных исследований»:
- •Раздел 2 «Когнитивная ситуация в современном социально-гуманитарном познании и модели регионального научного исследования»:
- •Раздел 3. «Методологические проблемы региональных социально-гуманитарных исследований»:
- •Рекомендуемая литература
3.2.3. Политические ситуации и группы влияния в региональных политических процессах: методология научногоисследования
В научных исследованиях региональных политических процессов как «изменения во взаимодействии» большое значение отводится анализу динамики политических ситуаций, связанному с изучением изменений в конкретном соотношении политических сил в регионе. В настоящее время существуют различные методологические подходы к изучению региональных политических ситуаций, каждый их которых акцентирует внимание исследователей на определенных их аспектах. Среди них в первую очередь следует выделить институционально-правовой, идеологический, психологический, конфликтологический, элитистский и ресурсно-акторный подходы.
Институционально-правовой подход акцентирует внимание исследователей на функционирование политические институтов в регионе, прежде всего связанных с деятельностью органов государственной власти, составляющих формально-правовой каркас региональных политических ситуаций. В рамках идеологического подхода предметом научного исследования являются идеологические аспекты региональных политический ситуаций. При этом особое значение придается изучению не только тех или иных идеологем, но и конкретизирующих их программ политической деятельности, цели и задачи которых определяют политические процессы в регионе. В русле психологического подхода особое внимание уделяется психологии политического поведения региональных акторов в конкретных политических ситуациях. При конфликтологическом подходе главный акцент делается на изучении конфликтогенных ситуаций в региональном политическом процессе. При использовании элитистского подхода главное внимание уделяется изучению соотношения политических элит в регионе, формам и способам их политического взаимодействия. В рамках ресурсно-акторного подхода акцент делается на изучении ресурсной базы политических интеракций в конкретных региональных ситуациях.
Научное исследование политической ситуации в регионе предполагает также изучение среды, в которой эта ситуация сформировалась. Наиболее продуктивными в этом плане являются политико-культурный и политико-экономический подходы.
В рамках политико-культурного подхода внимание исследователей акцентируется на изучении массовых политических представлений, ценностей и установок регионального социума, определяющих специфику региональной политической культуры. Эта культура оказывает существенное влияние на формирование региональных политических ситуаций, предполагая доминирование тех или иных форм и способов политических интеракций в регионе, в том числе связанных с политическим участием или принятием политических решений, изменяющих соотношение политических сил в регионе.
В рамках политико-экономического подхода главное внимание уделяется экономическим факторам и их влиянию на расстановку политических сил в регионе. При этом в первую очередь изучаются экономические ресурсы, которыми располагают различные региональные политические акторы и которые оказывают существенное влияние на соотношение политических сил в регионе.
Целостное видение политической ситуации в регионе предполагает необходимость комплексного использования различных методологических походов ее научного исследования. При этом специалисты отмечают, что такое использование имеет свою внутреннюю логику, отправной его точкой является институционально-правовой подход, позволяющий выявить политико-правовые особенности функционирования органов государственной власти в регионе. Затем следует переходить к элитистскому и ресурсно-акторному подходам, которые дают возможность выявить реальную расстановку политических сил, установить характер позиционирования политических акторов и разработать сценарно-базовые варианты развития политической ситуации в регионе. Затем с целью уточнения отдельных аспектов региональной политической ситуации можно использовать идеологический, психологический и конфликтологический подходы.
При этом специалисты отмечают, что переход от институционально-правового подхода к элитистскому и ресурсно-акторному при изучении конкретной политической ситуации в регионе возможен с помощью позиционного анализа региональных политических элит (см. схема 9).
Схема 9.
Логика использования методологических
походов к изучению региональных политических ситуаций
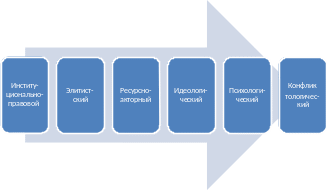
В социально-гуманитарных науках существуют различные представления о том, что такое «региональная элита». В рамках меритократическго подхода региональной элитой считаются находящиеся у власти или при власти обладатели особых позитивных личных качеств. В рамках альтиметрического подхода под региональной элитой понимают совокупность лиц, занимающих статусные позиции в структурах региональной власти или непосредственно влияющих на эти структуры в процесс принятия политических решений.
Как считают специалисты, при изучении региональных политических элит целесообразно использовать принятый в современной политической науке альтиметрический, или функциональный, подход. При этом, однако, одни исследователи под региональной политической элитой понимают совокупность должностных лиц в органах государственной власти и местного самоуправления, непосредственно (по должности) влияющих на процесс принятия политических решений в регионе.
Другие исследователи в состав региональной политической элиты включают также акторов, которые не обладают властными должностями, но непосредственно влияют на политическую ситуацию в регионе. Это – политические лидеры и ключевые представители политических партий и общественных движений; национальные и религиозные лидеры; ведущие представители деловой элиты, участвующие в политической жизни региона и воздействующие на процесс принятия политических решений.
Кроме того, некоторые исследователи в состав региональной политической элиты включают и таких лиц, которые непосредственно не занимаются политической деятельностью, однако косвенно оказывающие влияние на политическую ситуацию в регионе. Это – лидеры общественного мнения, например представители интеллектуальной элиты, которые влияют на общественные настроения в регионе и таким образом воздействующие на процесс принятия политических решений, осуществляемый властным региональным истеблишментом.
Позиционный анализ региональных политических элит предполагает изучение влияния политических деятелей через их положение во властной иерархии. При этом специалисты отмечают, что позиционный анализ предполагает не столько исследование формально-правовых норм функционирования региональных политических элит, тем более, что межрегиональные различия здесь невелики и во многих случаях просто несущественны, а изучение реальных групп влиянии в регионе. Это обусловлено тем, что формальная конфигурация органов государственной и муниципальной власти не отражает реальную расстановку политических сил в регионе, поскольку различные властные структуры могут контролироваться из одного центра, быть под фактическим управлением одной группы влияния. И, наоборот, даже в региональной администрации, которую принято представлять в виде «команды», могут быть различные политические группировки.
Позиционный анализ региональных политических элит позволяет выявить конкретные факторы их дифференциации и консолидации, которые влекут за собой появление в регионе реально существующих групп влияния. При этом исследователи выделяют эндогенные и экзогенные факторы формирования региональных групп влияния.
Эндогенные факторы дифференциации и консолидации региональных политических элит и, соответственно, формирования региональных групп влияния непосредственно связаны с деятельностью органов государственной или муниципальной власти и политических лидеров в регионе.
Органы региональной власти являются не только формально-правовыми образованиями, но и сплоченными иерархически устроенными политическими организациями со своим руководством и корпоративными интересами. Превращение того или иного органа государственной или муниципальной власти в реальный центр, вокруг которого складывается группа влияния, зависит от того, каковы его полномочия и возможности, а также от эффективности их использования в конкретных политических ситуациях.
Региональные группы влияния складываются также вокруг тех или иных политических лидеров, обладающих определенной политической автономией и ярко выраженными политическими амбициями. Поэтому к эндогенным факторам формирования региональных групп влияния относятся как амбиции региональных политических лидеров, так и личные конфликты между ними, выступающие мощным политическим стимулом, влекущим за собой дифференциацию региональной политической элиты и ее консолидацию вокруг политических лидеров. Появление лидера, умеющего заявить о себе, создать региональную группу влияния, наладить политические связи и обеспечить «механизмы» их поддержания, оказывает огромное воздействие на политическую ситуацию и ее изменение в регионе.
Исследователи выделяют два вида региональных групп влияния, складывающихся вокруг политических лидеров. Это – «кроссинституциональные» и «субинституциональные» группы влияния. «Кроссинституциональными» называются созданные политическими лидерами группы влияния, которые присутствуют в нескольких региональных властных структурах. «Субинституциональные» – это группы влияния, которые реально контролирует только часть региональной властной структуры.
Экзогенные факторы дифференциации и консолидации региональных политических элит – это факторы среды, в которой происходит формирование региональных групп влияния. Эти факторы исследователи обычно делят на экономические, географические, этнические и социальные.
Экономические факторы дифференциации и консолидации региональных политических элит связаны с борьбой за власть как средством реализации групповых экономических интересов. Это является мощным стимулом формирования региональных групп влияния, целью которых становится как защита контролируемых экономических ресурсов, так и получение новых путем осуществления политико-экономической экспансии. Эта экспансия связана с принятием региональной властью нужных для определенной группы влияния экономических решений или лоббированием ее экономических проектов, нуждающихся в политической поддержке.
Такие группы влияния обычно формируются вокруг амбициозных представителей региональной деловой элиты и в этом плане можно говорить об экономическом характере этих групп влияния. Однако для реализации своих целей эти группы влияния начинают активно участвовать в политических процессах, приобретая при этом характер политических групп влияния. Такие группы влияния иногда становятся частью уже существующих политических групп, выражающих интересы того или иного бизнеса.
Кроме того, экономические факторы дифференциации и консолидации региональных политических элит и формирования региональных групп влияния тесно связаны также с возможностями политического фандрайзинга – сбора средств для реализации политических проектов. Наличие доступных финансовых ресурсов у тех или иных представителей деловой элиты служит важным стимулом возникновения у них политических амбиций, поскольку открывает большие возможности для участия в выборах или проведения определенной информационной политики. Поэтому многие представители деловой элиты стремятся реализовать себя не только в экономике, но и политике, создавая при этом группы влияния и переходя, таким обратом, из «чистого бизнеса» в «политическое измерение». Мощным стимулом при этом является как желание развивать бизнес, получив для этого право непосредственного участия в принятии политических решений, так и стремление к личной самореализации, продолжению карьеры в новой сфере.
Географические факторы дифференциации и консолидации региональных политических элит связаны с тем, что отдельные территориальные структуры в регионе могут иметь свои политические интересы, вокруг которых и происходит формирование региональных групп влияния. Целью таких «географических» групп влияния является участие в процессах распределения и перераспределения ресурсов на внутрирегиональном уровне в пользу тех или иных территорий. Очень часто «географические» группы влияния возникает в виде реакции на дискриминационную политику региональных властей по отношению к определенным территориям.
Географические факторы дифференциации и консолидации региональных политических элит связаны также с таким явлением, как землячество. Принадлежность к одному землячеству, в основе которого лежат личные отношения между политическими акторами, ведет к формированию региональных групп влияния, созданных по земляческому принципу. Как правило, в их состав входят люди, которые не просто родились и выросли в одном районе, но и работали вместе.
Этнические факторы дифференциации и консолидации региональных политических элит связаны с наличием различных интересов у тех или иных этнических групп в регионе. Соответственно, возможно складывание «этнических» групп влияния на основе борьбы за интересы той или иной этнической группы в рамках региона. Однако следует учитывать, что формирование «этнических» групп влияния в регионе, с одной стороны, облегчено самим фактом принадлежности ее участников к одной этнической группе, что облегчает межличностные коммуникационные процессы и создает более тесные, доверительные отношения между ними, а с другой – затруднено внутри этническими противоречиями. Поэтому очень часто в роли «этнических» групп влияния в регионе выступают земляческие и родственно-клановые объединения субэтнического характера, не являющиеся выразителями обще этнического интереса.
Социальные факторы дифференциации и консолидации региональных политических элит связаны с социальной стратификацией территориального социума. Поэтому возможно появление таких региональных групп влияния, которые, отстаивая интересы определенных социальных страт, выступают с политических позиций социально-групповой солидарности.
Действие различных эндогенных и экзогенных факторов в каждом конкретном случае влияет на конфигурацию и структуру реально существующих групп влияния в регионе. Изучение структуру региональных групп влияния предполагает проведение следующих исследовательских операций:
1. Выявление значимых (влиятельных) политических акторов различного происхождения, выступающих центрами консолидации региональной политической элиты и принятия политических решений.
2. Идентификация и персонификация политических акторов, вокруг которых формируются региональные группы влияния.
3. Выявление и оценка связей между политическими акторами, форм и способов их реализации (см. схему 10).
Схема 10.
Методология научного исследования
региональных групп влияния (процедурный аспект)
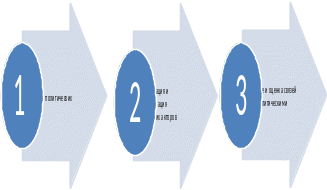
При проведении первых двух исследовательских операций ученые обычно опираются на методы «экспертных оценок» и «участия в принятии важнейших стратегических решений». В основе метода «экспертных оценок», или «репутационного анализ», лежит учет экспертных оценок, определяющих рейтинг влияния тех или иных политических акторов. Метод «участия в принятии важнейших стратегических решений» связан с сопоставлением формальных полномочий политических акторов, выявляемых в рамках позиционного подхода, с экспертными оценками, которые дает репутационный анализ. Это дает возможность выстраивания приближенной к реальности научной картины, позволяющей наиболее полно идентифицировать значимых политических акторов.
Для проведения третьей операции, направленной на выявление и оценку связей между политическими акторами, необходимо в первую очередь определить интересы и цели разных политических акторов в рамках тех или иных связей. При этом наиболее сложной задачей, как полагают специалисты, является отделение групп влияния друг от друга, нахождение границ между группами, которые не имеют явно антагонистического характера, а также решение вопроса о выделении самостоятельной группы или ее отнесения к разряду автономных субгрупп. Для разграничения групп влияния следует прежде всего выявить уровень их политической самодостаточности и автономии. Для оценки отношений между региональными группами влияния очень важен электоральный анализ, т.е. изучение региональных выборов, а также федеральных избирательных кампаний на территории региона.
Научное исследование региональных групп влияния предполагает также оценку их ресурсной базы, поскольку с ресурсами напрямую связаны коренные интересы этих групп, которые обычно рассматриваются в понятии контроля за ресурсами. Основными ресурсами региональных групп влияния являются политические, финансово-экономические и информационные. В конкретных политических ситуациях группы влияния стремятся или сохранить контроль над имеющимися ресурсами, или осуществить экспансию для их приращения. Одним из случаем такой экспансии является получение власти в регионе и, соответственно, обретение статуса доминирующей группы влияния.
К политическим ресурсам групп влияния относится их контроль над органами государственной и муниципальной власти, а также партийными организациями в регионе. Поэтому выделяют два вида политических ресурсов – административные и партийные. Административные ресурсы связаны с иерархически организованным контролем за политическими структурами, институтами и процессами в регионе. Административные ресурсы возникают в процессе использования чиновниками административных полномочий или статусного преимущества для достижения определенных политических или экономических целей, связанных с реализацией интересов определенных групп влияния в регионе.
Финансово-экономические ресурсы региональных групп влияния основаны на их контроле за отдельными секторами региональной экономики. Эти ресурсы используются в борьбе за политическое влияние в регионе, которое, в свою очередь, позволяет наращивать финансово-экономическую базу отдельных групп влияния, получать «политически добавленную» стоимость.
Под информационными ресурсами понимают контроль групп влияния за информационным полем, прежде всего средствами массовой информации в регионе. Наличие информационных ресурсов не только позволяет региональным группам влияния использовать их для достижении определенных целей, связанных с реализацией групповых интересов, но и свидетельствует о тяготении этих групп к публичному политическому влиянию.
Научное исследование региональных групп влияния предполагает их типологизацию. С учетом политического позиционирования групп влияния в регионе критериями такой типологизации могут выступать доступ к власти и статус группы с точки зрения ее принадлежности к тому или иному уровню региональной власти. В исследовательской практике на основе этих критериев обычно выделяют следующие региональные группы влияния:
1. Правящие группы регионального уровня, обладающие сильной ресурсной базой.
2. Оппозиционные группы регионального уровня, обладающие сильной ресурсной базой и открыто противопоставляющие свои интересы интересам правящих групп.
3. Латентно-оппозиционные группы регионального уровня с интересами, явно противоречащими интересам правящих групп, но не располагающие достаточными ресурсами для достижения своих групповых целей.
4. Амбивалентные группы регионального уровня, интересы которых по одним вопросам совпадают с интересами правящих, по другим – с интересами оппозиционных групп, и отличающиеся неустойчивым политическим позиционированием.
5. Нейтральные группы регионального уровня, контролирующие определенные ресурсы, обеспечивающие их политическое влияние в регионе, но не вмешивающиеся в борьбу за региональную власть.
6. Локальные группы территориального уровня, занимающие позиции правящих или оппозиционных групп в отдельных городах и районах.
7. Латентные группы регионального или территориального уровня со слабой артикуляцией групповых интересов, и не обладающие необходимыми ресурсами для политического влияния в регионе (см. схему 11).
Схема 11.
Когнитивная модель региональных групп влияния
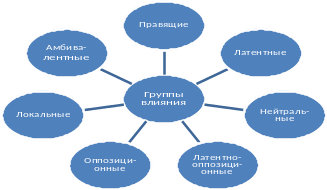
При изучении региональных групп влияния необходимо учитывать динамику их политического позиционирования, которое меняется в ходе регионального политического процесса, особенно в связи должностными изменениями в органах региональной власти или итогами региональных выборов. Изучая политическое позиционирование региональных групп влияния, следует учитывать их отношения с как с территориальным социумом в целом, так и его отдельными социальными группами. Эти отношения следует оценивать с точки зрения электорального влияния и электоральной поддержки, обеспечивающей легальность и легитимность полтического влияния этих групп в регионе.
Таким образом, расстановка политических сил в регионе и, следовательно, характер региональной политической ситуации определяется соотношением региональных групп влияния. В тех случаях, когда в регионе доминирует одна группа влияния, выражающая наиболее значимые региональные интересы, контролирующая региональные органы власти и располагающая сильной ресурсной базой, можно говорить о моноцентризме региональной политической ситуации. Наличие в регионе множества групп влияния различного происхождения, располагающими достаточными ресурсами для оказания влияния на политическую ситуацию в регионе, свидетельствует о ее полицентризме.
3.3. Региональные этнократии: методологические
проблемы исследования
3.3.1. Символический интеракционизм как методология
научного исследования региональных этнократий
Одной из тенденцией развития современного мира, наряду с глобализацией, является регионализация, которая проявляется в расширении границ между территориально-социальными комплексами, сохранении культурных различий этносов и других социальных групп, усилении чувства их исключительности, возникновении самодостаточных экономических и политических образований. В полиэтнических территориальных социумах регионализация сопровождается локализацией, которая выражается в интеграции этнических сообществ, стремящихся сохранить уникальные основы своего социального бытия, и стремлении их к политической автаркии.
Усиление процессов глобализации и локализации в новой конфигурации «мироцелостности» привело к актуализации такого особенного «лика политической власти», как региональная этнократия.
В «Своде этнографических понятий и терминов» (М., 1995), изданном Институтом этнологии и антропологии Российской Академии Наук, дается следующее определение этнократии: «Этнократия – (от греч. е thos – народ, krateia – власть; англ. – ethnic authority ) – система власти, при которой на государственных постах находятся (явно преобладают) люди одной национальности (этнической принадлежности), использующие эту власть в националистических целях. Этнократия – типичное и в целом естественное явление для национальных государств, в том числе и в таких, где утвердивший ее этнос не составляет большинства населения. Элементы этнократии проступали в той или иной степени в союзных и автономных республиках СССР, созданных для обеспечения наиболее благоприятных условий экономического и языково-культурного развития определенного («титульного») этноса. С развитием национального сепаратизма и суверенизацией республик явления этнократии обычно усиливаются в результате недемократической системы выборов, лишения иноэтнических групп гражданства и т.п., что ведет к обострению межнациональных конфликтов».
Один из известных российских специалистов Ж.Т. Тощенко рассматривает этнократию как форму политической власти, при которой управление экономическими, политическими, социальными и духовными процессами осуществляется с позиций примата национальных интересов доминирующей этнической группы в ущерб интересам других этносов. Суть этнократии состоит в целенаправленном выпячивании этнического интереса этноса в ущерб интересам и правам личности, которые не могут зависеть от ее этнической и религиозной принадлежности.
Региональные этнократии возникают не «снизу», а являются результатом деятельности этнополитических элит, которые, используя кризисное состояние общества, целеустремленно создают «почву», благоприятную для зарождения этнократических процессов. При этом они используют различные средства, но так или иначе связанные с использованием символического капитала власти. Поэтому одним из эффективных способов изучения региональных этнократий является методология символического интеракционизма, теоретические принципы которого были разработаны Дж. Мидом и Г. Блумером, а затем развиты в феноменологической социологии А. Шюца и концепции социального конструирования П. Бергера и Т. Лукмана.
С позиции символического интеракционизма деятельность людей осуществляется в соответствии с изменениями, которые происходят в окружающем их социальном мире. Однако для символического интеракционизма не существует так называемых социальных миров в «себе», для него есть лишь такие миры, какими люди конструируют их для себя и друг для друга в процессе взаимодействия.
Эти «миры» составлены из «объектов», под которыми понимается все, что человек воспринимает в таком мире, в том числе и ситуации, с которыми он сталкивается в своей повседневной практике, поступки других людей, приказы и пожелания правительств, социальные институты, а также такие абстрактные объекты, как представления о друзьях и врагах, нравственные принципы, идеалы справедливости, чести и свободы.
Для разных людей значение этих объектов может быть различным, поскольку человек не просто реагирует на окружающий его жизненный мир, а формирует активное отношение к нему. Люди способны приписывать объектам окружающего мира определенные значения, интерпретируя его и создавая тем самым свой символический мир. И если люди намерены действовать, то они должны продемонстрировать себе и другим значения этого символического мира.
С помощью различения окружающей среды и мира символических значений теория символического интеракционизма акцентирует внимание на том, что человек противостоит окружающей среде не просто как продукт, который определенным образом «организован», например, через социализацию или развитие потребностей, и лишь автоматически реагирует на внешние стимулы. Наоборот, согласно теории символического интеракционизма человек сам создает свой мир в процессе его интерпретации, и в этом плане объекты окружающего человека мира являются продуктами символических интеракций.
В этой связи Г. Блумер отмечал, что совместная жизнь людей, с точки зрения символического интеракционизма, представляет собой процесс, в котором значение объектов создается, подтверждается, изменяется и отрицается. При этом люди понимают значение объектов по сути дела благодаря способам, с помощью которых другие лица, с которыми они взаимодействует, определяют для них это значение. Люди принимают указанное значение объектов или дают ему свою интерпретацию.
В теории символического интеракционизма важное значение имеет понимание условий социальных взаимодействий. Согласно этой теории социальные взаимодействия совершаются не потому, что люди ведут себя функционально по отношению к сложившимся социальным структурам или социальным институтам как необходимым условиям взаимодействия, а потому, что они придают этим условиям определенные значения и тем самым создают эти условия. Поэтому социальные взаимодействия являются процессами совместной жизни людей, которые создают правила социальной жизни, а не наоборот, не правила сами по себе создают и поддерживают совместную жизнь людей.
Таким образом, методология символического интеракционизма базируется на следующих теоретических посылках: 1) люди действуют в отношении объектов окружающего их мира на основе значений, которыми для них объекты обладают; 2) значения объектов создаются или возникают во взаимодействии людей с социальным окружением; 3) значения используются и изменяются в процессе интерпретации людьми окружающих объектов; 4) интеракции в обществе происходит преимущественно на символическом уровне, на котором действующие люди определяют себя, узнают и интерпретируют совместные действия.
При изучении региональных этнократий в рамках методологии символического интеракционизма важное значение имеет теория символического капитала власти, в разработку которой большой вклад внес известный французский ученый П. Бурдье.
В научных социально-гуманитарных исследованиях с недавних пор популярной метафорой ресурсов стал «капитал» в терминах социального, человеческого, культурного, информационного и символического капитала.
В современной научной литературе существуют различные представления о том, что такое символический капитал. В целом эти представления можно свести к двум группам: 1) символический капитал – это специфическая форма проявления любого капитала; 2) символический капитал – это особый вид капитала. Некоторые исследователи считают символический капитал разновидностью культурного, другие, наоборот, культурный капитал относят к одной из важнейших форм символического капитала. Это во многом объясняется тем, что и культурный, и символический капиталы основаны на знании: в первом случае это полученное образование и общая культурная компетентность, во втором – экспертное влияние, т.е. власть, основанная на знании и признании авторитетности этого знания другими людьми. В рамках представления о символическом капитале как особом виде капитала, он трактуется иногда как репутация, внешность, имя, знаки достоинства и высокого социального статуса.
Идея символического капитала власти принадлежит П. Бурдье, причем в его работах понятие символического капитала власти используется в двух смыслах: и как форма проявления любого каптала власти, и как совокупность реальных и потенциальных властных ресурсов символического характера.
Рассматривая генезис и структуру бюрократического поля в рамках концепта «дух государства», П. Бурдье отмечал, что государство есть завершение процесса концентрации различных видов капитала: физического принуждения или средств насилия (армия, полиция), экономического, культурного или, точнее, информационного, символического – концентрации, которая сама по себе делает из государства владельца определенного рода метакапитала, дающего власть над другими видами капитала и над их владельцами. Концентрация различных видов капитала (которая идет вместе с формированием соответствующих им полей) в действительности, как считал П. Бурдье, приводит к возникновению некого специфического капитала, собственно государственного, позволяющего государству властвовать над различными полями и частными видами капитала, а главное – над обменным курсом между ними (и тем самым над силовыми отношениями между их владельцами). Из этого следует, что формирование государства идет вместе с формированием поля власти, понимаемого как пространство игры, внутри которого владельцы капитала (разных его видов) борются именно за власть над государством, т.е. над государственным капиталом, дающим власть над различными видами капитала и над их воспроизводством (главным образом, через систему образования).
При этом П. Бурдье подчеркивал, что символическим капиталом может быть любое свойство (любой вид капитала: физический, экономический, культурный, социальный), когда оно воспринимается социальными агентами, чьи категории восприятия таковы, что они в состоянии узнать (заметить) и признать, придать ценность этому свойству. Говоря точнее, это форма, которую принимает любой вид капитала, когда он воспринимается через категории восприятия, являющиеся результатом инкорпорации делений и оппозиций, вписанных в структуру распределения этого вида капитала. Из этого следует, что государство, располагающее средствами навязывания и внушения устойчивых принципов видения и деления, соответствующих его собственным структурам, является исключительным местом концентрации и осуществления символической власти.
П. Бурдье считал, что через условия, которое государство навязывает социальным практикам, оно учреждает и внедряет в головы общепринятые формы и категории восприятия и мышления: социальные рамки восприятия, понимания или запоминания, мыслительные структуры, государственные формы классификации. В этом плане символический каптал власти, с одной стороны, служит основой специфического авторитета обладателей государственной власти, а с другой – является формой символического насилия и контроля.
В федеративных полиэтнических государствах символическим капиталом обладает не только центральная государственная власть, но и государственная власть в субъектах федерации, особенно если они образованы на основе национально-территориального принципа.
Символический капитал региональной власти – это те преимущества (способности, возможности), которыми обладают региональные политические этноэлиты для приписывания значений тем или иным объектам социальной реальности. Символический капитал региональной власти – это символические ресурсы, используемые в региональном управлении, направленном на этническую интеграцию и мобилизацию, регуляцию этнических отношений и защиту этнических интересов. Благодаря эти ресурсам региональная государственная власть может формировать в нормативно-ценностном пространстве локального этнического сообщества такие конструкты когнитивного и ценностного содержания, усвоение которых изменяет внутренний мир людей и задает определенные стереотипы восприятия социальной действительности.
Однако эти конструкты значимы лишь для тех, кто предрасположен к их восприятию, а эта предрасположенность заключена не только в рефлексирующем этническом сознании, но и в этнокультурных архетипах. Поэтому в процессе легитимации происходит непосредственное согласование между внедренными извне ментальными структурами и неосознаваемыми духовными «кодами» жизнедеятельности людей. Эти «коды» представляют собой этнокультурные доминанты поведения людей в любых обстоятельствах, в том числе и катастрофических, и являются своеобразным выражением на уровне культуры народа, его исторической судьбы, как некоего единства характера исторических задач и способов их решения, закрепившихся в народном сознании, в этнокультурных стереотипа. Государственная власть тем самым обеспечивает в этническом сообществе необходимый уровень «логического и морального конформизма» и создает легитимизирующие структуры массового этнического сознания.
Наиболее резкие сдвиги в сфере символического капитала власти происходят тогда, когда меняется не только власть в государстве, но и само государство. Так, возникновение суверенных национальных государств или государственных образований в рамках федераций необходимо влечет за собой создание различного рода «организованных мифов», символических образов социальной реальности. Эти образы являются своего рода «миф-очками», т.е.
когнитивными и ценностными «призмы», сквозь которые люди смотрят на эту реальность. Эти образы, выполняя функции этнической маркировки «своих» и «чужих», являются основой символической солидарности тех или иных этногрупп с национально-государственной системой, приобщения к этой системе и опознания «своих» в ее социальных сетях.
