
55651550
.pdf
великому процветанию социалистической культуры, двигать ее на новый уровень развития, повышать [качество] национальной культуры [как инструмента] мягкой силы, усилить ее роль в ведении нравов, образовании народа, служении обществу, стимулировании развития»95.
Глава государства также отметил непрерывно растущее международное влияние на китайскую культуру, вследствие чего предложил углубить развитие социалистической системы ценностей в сфере образования, использовать ее для формирования единого общественного мнения. Для этого впервые в развернутом виде были обозначены двенадцать ключевых слов, позволяющих активно закладывать в людях ядро социалистической системы ценностей. Они представлены в виде так называемых «трех пропаганд»96.
1.Пропаганда богатства – силы, демократии, цивилизации и гармонии.
2.Пропаганда свободы, равенства, справедливости
иуправления на основе законов.
3.Пропаганда любви к своей стране, уважения к своей профессии, честности и дружелюбия.
Идеология, культура и пропаганда в совокупности составили одно из важнейших политических направлений в деле формирования социалистической идентичности, а образование было обозначено в качестве основы общественного прогресса и возрождения нации97.
Кажется, что, идеология, будучи политическим инструментом, проникла во все сферы жизни общества, во все его социальные институты, о чем можно говорить с большей уверенностью. Однако когда идет речь о человеке, его внутреннем мироощущении, его душе, принимающей или вынужденно принимающей окружающую реальность, даже если он воспитан в духе социалистической морали, то говорить о его идеологических установках представляется очень трудным. Минимум, на который можно рассчитывать, – это факт демонстрации формального следования этим установкам. Проявление идеологических чувств на более глубоком уровне в масштабе страны требует особой психологической мотивации. Нет сомнений в том, что китайское общество консолидировано не только политической волей, но и экономическими успехами, а идеология и ее этическая составляющая обеспечивают ему защиту от распада и деморализации. Однако воспитание психологического чувства любви к своему государству в лице его социальнополитической системы органов – задача непомерно сложная. Тем не менее совсем неожиданно данный аспект был актуализирован политическим руковод-
95Ху Цзиньтао. Твердо следовать пути социализма с китайской спецификой и бороться за всестороннее построение общества «малого благоденствия»: Доклад на 18-ом Всекитайском съезде КПК. Пекин, 2012. С. 11.
96Там же. С.12.
97Там же. С. 13.
ством КНР; была предложена особенная мотивация, составившая центральную идею политической концепции ныне действующего главы государства председателя Си Цзиньпина, – «китайская мечта».
Сама по себе постановка девиза правления перекликается с идеей американской мечты – возможности строить благополучную жизнь в условиях, исторически возникших и созданных в США. Правда, на этом формальное сходство заканчивается, т. к. содержательная суть китайской мечты заключается в «Великом возрождении китайской нации». Достижения КНР под руководством политических лидеров четырех поколений98 сделали вероятной реализацию решающего ответа западному миру на унижения, которые Китай испытывал с 1840 г. Неслучайно Си Цзиньпин выступил с первым комментарием своей концепции во время посещения выставки «Путь возрождения» в Национальном музее Китая. Вот что он сказал: «Я считаю, что реализация [идеи] Великого возрождения китайской нации – это самая заветная мечта с эпохи Нового времени99, мечта, в которой аккумулированы ожидания нескольких поколений китайцев, воплощается всеобщее благо китайской нации; это есть надежда каждого молодого китайца»100.
Цепь исторических событий, обрушившихся на Китай с начала первой Опиумной войны101, есть не что иное, как проявление кармического закона, и историческая память, идеологически воплощенная в китайской литературе, в том числе детской и школьной, стала мощным источником восстановления силы национальной идентичности современных китайцев.
Для реализации «китайской мечты», по словам председателя Си Цзиньпина102, нужно:
1. Следовать китайскому пути развития, а именно социалистическому пути с китайской спецификой, «вышедшему из Великой практики в период реформ и открытости, из непрерывных исканий с момента образования КНР, из глубоких обобщений исторического пути развития китайской нации с эпохи Нового времени, из наследия китайской цивилизации, насчитывающей более пяти тысяч лет истории. Китайская нация есть нация, обладающая необычайной творческой силой. Мы создали Великую китайскую цивили-
98Имеются в виду Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Цзэминь и Ху Цзиньтао.
99В соответствии с периодизацией истории Китая Новое время охватывает период с 1840 по 1911 г.
100Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин дал комментарий на «Китайскую мечту». 2013/05/08 [Xi Jinping zongshuji chanshi ‘Zhongguo meng’]. URL: http://news.xinhuanet.com/ziliao/2013–05/08/ c_124669102.htm
101Первая опиумная война (1840–1842).
102Речь Си Цзиньпина на закрытии 1 сессии 12-го съез-
да ВСНП (полный текст). 2013/03/17 [Xi Jinping zai shier jie quanguo renda yi ci huiyi bimuhui shang de jiang hua (quan wen)]. URL: http://www.cnr.cn/ gundong/201303/t20130317_512169849.shtml
321

зацию. Мы также можем продолжить [ее] расширение
иразвитие, соответствующее внутригосударственной ситуации. Народы всей страны обязаны глубже верить в теорию, путь и систему социализма с китайской спецификой, непоколебимо следовать китайскому пути».
2.Всемерно пропагандировать дух Китая, а именно патриотизм как дух нации и инновации как дух времени. Этот дух (1) есть дух (2) процветающего государства, собравшего свои внутренние/духовные силы, есть дух (3) сильного государства, сконцентрировавшего свои внешние/физические силы103. Патриотизм всегда выступал духовной мощью, объединяющей китайскую нацию, а инновации – силой, подстегивающей нас к своевременному движению вперед в ходе политики реформ и открытости. Народы всей страны обязаны всемерно пропагандировать дух нации и времени, неустанно укреплять духовные узы, движущие силы духа, оптимистично шагать в будущее.
3.Собрать воедино всю силу Китая, а именно ту, которая объединяет все народы страны. Китайская мечта – это мечта всей нации, это мечта каждого китайца. Если мы все крепко сплотимся, станем единодушными в борьбе за воплощение общей мечты, то соответствующая сила станет несравненно большей,
истарания каждого из нас в реализации своей мечты охватят более широкое пространство. Китайский народ, живущий в Великом Отечестве и Великую эпоху, [должен] сообща воспользоваться выдающимся в жизни шансом, шансом, позволяющим воплотить мечту в реальность, шансом, дающим расти и прогрессировать вместе с Отечеством и эпохой. И мечта, и возможность, и борьба – все эти прекрасные вещи могут быть [нами] созданы. Народы всей страны обязаны твердо помнить о [предначертанной] миссии, быть в полном единении, использовать мудрость и силу многочисленного народа104, чтобы создать непобедимую мощь.
Положения, обозначенные председателем Си Цзиньпином, похоже, свидетельствуют, что в истории Китая появился новый лидер-идеолог. Экономический успех, несущий в себе опасность духовного раз-
103В оригинальном варианте этого предложения использованы три слова, имеющих значение «дух». Первое – «цзиншэнь» обозначает «сознание», «мыслительную деятельность», «жизненность». Второе – «хунь» считается духовной составляющей цзиншэнь, а третья, «по», – его физической/материальной составляющей. Согласно традиционным верованиям китайцев, хунь (относится к категории ян) и по (относится к категории инь) части одного целого – цзиншэнь, без которого невозможна человеческая жизнь. После смерти, если китаец похоронен в соответствии с погребальными правилами, его душа/хунь поднимается на небо, к предкам, а душа по остается в теле покойного. В данном фрагменте речи председателя Си Цзиньпина имела место метафора.
104Для облегчения восприятия текста автор посчитал нужным заменить сочетание «один миллиард триста миллионов человек», используемое в прямой речи, на сочетание «многочисленный народ».
ложения и развития противоборствующих сил, требует жесткого контроля со стороны идеологической сферы. В этом смысле, как представляется, наступил момент, когда приоритет экономического противоречия, если не уступил место идеологическому противоречию, то, во всяком случае, оказался уравненным с ним в концепции политического курса действующего главы КНР.
«Китайская мечта» – это не только возможность стать успешным человеком в контексте условий развития, созданных поколениями политических руководителей КНР, но и шанс укрепить единство общества перед лицом всего того, что противостоит этой мечте. По сути, я бы назвал ее вызовом, завуалированным в столь привлекательном для рядового гражданина образном выражении.
Несомненно, председатель Си Цзиньпин сделал успешный шаг вперед в деле качественной трансформации китайского общества. В его трех положениях мы найдем идею об исключительной китайской нации, предопределенности развития в ее контексте, недопустимости обособления от нее человека в какой бы то ни было иной социально-культурной форме. Фактически задан знаковый этап конструирования социалистической общности, задача которого состоит
вслиянии потребностей человека-гражданина, народа и государства.
Как мы видим, руководство КНР, прежде всего, обращает свой взгляд на внутреннее развитие формы. Создаваемое полиморфное, но единообразное культурное пространство защищает китайское общество от раскола, сепаратизма и разрушения государственных основ. С каждым трансформационным витком развития эффект этнического слияния народов КНР становится сильнее. Объединение людей, разных по этнической принадлежности, в одно сообщество сопровождается формированием общих ценностных ориентиров, отчасти заданных сверху, а отчасти базирующихся на конкретной этнокультурной почве. Специфика китайского социализма как раз и состоит
вучете географических и исторических особенностей развития китайского общества и его структурных этнических компонентов. Поэтому надэтнические интеграционные процессы в Китае напрямую привязаны к реальным условиям жизни гражданина в том или ином районе страны. Успех материально-экономиче- ской и психоидеологической интеграции человека в социалистическую нацию во многом обусловлен моделью администрирования.
Китай – унитарное государство, и понятно, что в такой форме государственного устройства админи- стративно-территориальные единицы не обладают суверенитетом и даже не имеют вероятной перспективы на какую-либо самостоятельность, поэтому интеграционные процессы внутри страны только способствуют приобщению народа к управлению государством. Даже национальная автономия не является барьером
вэтом процессе, наоборот, ее наличие облегчает решение национального вопроса. Любая территория,
322

населенная людьми, отличающимися самобытной культурой, должна быть административно выделена, ибо заключенная в форму, она окажется во власти модели взаимодействия противоположностей, на единство которых направлены надэтнические установки государства.
Согласно Белой книге КНР105 к концу 2008 г. было создано 155 национальных автономий, в том числе пять автономных районов, 30 автономных округов и 120 автономных уездов106. Их совокупная площадь занимает около 60 % от всей территории страны, а численность этнических меньшинств приблизительно составила 80 % от общей численности неханьских народов.
О чем это может говорить? С точки зрения, традиционного учения о противоположностях, эти автономии представляют собой ту самую специфику, постижение которой запускает механизм развития внутренней структуры государства как формы, постепенно ориентирует на единообразие жизни в ее разных сферах и снижает риски перерастания обозначенного противоречия в антагонизм. Следует заметить, что название «национальная автономия» является весьма условным и не предполагает абсолютной моноэтничности, ибо это идет вразрез с учением о единстве противоположностей. И здесь мы встречаем все тот же закон развития формы. В Белой книге сообщается: «Расселение народов Китая характеризуется большой разрозненностью, незначительной компактностью и чересполосицей. В [исконно] ханьских районах компактно проживают представители малочисленных народов и, наоборот, на территориях, населенных этническими меньшинствами, присутствует ханьский компонент. Я в тебе, Ты во мне...»107. Это положение позволяет нам интерпретировать процесс конструирования национальной идентичности не как национализацию в ханьском виде или китаизацию человека другой этнической принадлежности, а как обоюдовыгодный процесс созидания трудового народа с развитым гражданским самосознанием. В этой связи, декларируемое единство национальностей (миньцзу туаньцзэ) представляется не просто социалистическим лозунгом, а реальной гарантией социального прогресса и территориальной целостности страны. Китайское представление о том, что форма не может развиваться сама по себе, создает и воплощает в жизнь целый ряд принципиальных концепций и положе-
105Белая книга КНР – официально обнародованный сборник документов высших органов государственной власти, посвященных вопросам внутренней, внешней и экономической политики страны. Впервые публикуется с 1991 г. За весь период вплоть по 2014 г. было опубликовано 95 .
106Белая книга «Национальная политика Китая и всеобщее процветание народов [КНР]». Пекин: Информационное бюро Государственного совета КНР, 2009.
С. 16.
107Там же. С. 4.
ний, таких как: «Одна страна две системы»108, «Мирное объединение»109, «Держать в двух руках»110, «Три в одном»111, «Четыре в одном»112, «Пять в одном»113, «Неразрывная пара»114, «Неразрывное трио»115 и др. Так или иначе, в любой структуре на любом уровне должны быть обозначены противоположности и продемонстрировано их несомненное воплощающееся единство.
Применительно к национальной политике взаимопроникновение этнокультурных форм, обусловли-
108Одна страна, две системы – концепция возрождения единого Китая, политика которого направлена на создание условий гармоничного сосуществования двух типов общества (социалистического типа на большей территории Китая и капиталистического типа в Сянгане, Макао и Тайване); предложена Дэном Сяопином в 1984 г.
109«Мирное объединение» – важная часть политической теории и практики построения социализма с китайской спецификой; содержит ориентиры на привлечение и взаимовыгодное сотрудничество китайцев, независимо от места их проживания в мире.
110Концепция Дэна Сяопина, заключающаяся в недопустимости игнорирования строительства духовной составляющей (в особенности политико-идеологиче- ской) социалистического общества в условиях развития рыночной социалистической экономики.
111Концепция стратегии развития китайского социализма, охватывающая экономическую, политическую и культурную сферы (1986). Буквальный перевод китайского варианта ее названия («сань вэй и ти») – «три стороны одной формы». Кстати, этим же выражением обозначают лидера КНР, совмещающего на своем посту три высших должности: Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель Военного совета ЦК КПК и Председатель КНР.
112Концепция стратегии развития китайского социализма, охватывающая экономическую, политическую, культурную и социальную сферы (2002).
113Концепция стратегии развития китайского социализма, охватывающая экономическую, политическую, культурную, социальную и экологическую сферы
(2012).
114«Неразрывная пара» («лян гэ либукай») – одно из важных принципиальных положений в национальной политике КНР, принятое к действию в 1981 г. Его суть: ханьский народ, с одной стороны, и малочисленные народы – с другой, безотрывно сосуществуют друг с другом. Грамматическая форма глагола «либукай» со встроенным отрицанием модальности указывает на абсолютность единства данных противоположностей, невозможность разрыва связи между ними.
115«Неразрывное трио» («сань гэ либукай») является трансформацией положения «неразрывная пара», выдвинутого Цзян Цзэминем в 1990 г. Его суть: ханьский народ неразрывно связан с малочисленными народами, малочисленные народы крепко связаны с ханьским народом и между малочисленными народами существует взаимно нерасторжимая связь.
323

вающее их последующую взаимозависимость и далее размывание их границ, осуществляется с помощью многочисленной «армии» подготовленных специали- стов-проводников, или по-китайски ганьбу.
Слово «ганьбу», заимствованное из японского языка, ныне обозначает представителя кадрового состава общественной, военной или государственной организации. Однако в контексте строительства социализма с китайской спецификой под руководством КПК это значение приобретает ярко выраженное идеологическое содержание. Поэтому подготовка кадров из среды неханьских народов представляет собой важнейший аспект национальной политики КНР. В Белой книге прямо сказано: «Они, знающие язык, историю, традиции и обычаи данного народа, знающие особенности культуры, экономики и политики в данной местности, являются важным “мостом”, соединяющим правительство и малочисленные этносы». И далее: «В течение долгого времени государство в деле решения национального вопроса, качественного выполнения работы в национальных районах, стимулирования развития каждого народа, считало ключевым усиление отрядов кадровиков и создание отрядов талантливых работников из среды этнических меньшинств…»116
Начиная с 1978 г. подготовка ганьбу из среды малочисленных народов закрепляется в Конституции КНР. Ныне действующий основной закон страны от 4 декабря 1982 г. гласит: «Государство помогает национальным автономиям в подготовке большого количества кадров разного уровня, талантливых специалистов и квалифицированных работников из этнической среды данных районов»117.
Исполнение указанной конституционной нормы в значительной степени реализуется через сферу образования. Так, в 2009 г. специальной подготовкой управленческих кадров из этнической среды занимались 15 институтов. Кроме этого, было основано множество соответствующих школ и курсов118. К концу 2008 г. общая численность неханьского кадрового состава достигла почти трех миллионов человек, что больше, чем в 1978 г. в три с лишним раза119.
Конечно, это – определенный успех, содействие которому оказывают высшие политические силы, что, с точки зрения природы взаимодействия инь и ян, вполне естественно. Напомним, что слияние двух форм происходит не само по себе. Сторона инь не вовлечена во взаимодействие до тех пор, пока не последует инициатива со стороны ян.
116Белая книга «Национальная политика Китая...» С. 36.
117Конституция КНР с комментариями. Пекин, 2006 [Zhonghua renmin gongheguo xianfa zhushi ben ]. Статья 122.
118Белая книга «Национальная политика Китая и всеобщее процветание народов [КНР]». С. 37.
119Там же.
Китайское руководство страны на протяжении всего периода истории КНР демонстрирует постоянство политической инициативы, стабильность политического курса и основополагающих рабочих программ, ввиду этого, как мы можем видеть, конструирование национальной идентичности не только не утрачивает своей актуальности, но и приобретает более четкий контур.
В 1999 году в ходе заседания Центрального совета по национальной работе председатель Цзян Цзэминь призвал к тому, чтобы кадровые сотрудники ханьской национальности, работающие в национальных автономиях, объединились с кадровиками из среды малочисленных народов в общей борьбе за единство. Он подчеркнул, что кадровый работник, независимо от его этнического самосознания, принадлежит партии и государству, что партийные и государственные дела являются важнейшими, ибо приносят пользу всем народам страны120.
Результаты деятельности ганьбу, оказывающие значительное влияние на решение одной из главных государственных задач – построение общества «малого благоденствия», дали повод усилить национальную работу и акцентировать внимание на развитии национальной идентичности, о чем было сказано на заседании Центрального совета по национальной работе под председательством Си Цзиньпина в сентябре 2014 г. Действительно, за 65 лет истории коммунистического Китая страна достигла впечатляющих социальных и экономических показателей роста, но главное – это непрекращающиеся интеграционные процессы внутри страны. На совете прозвучало: «Наша национальная работа находится перед лицом новых особенностей этапного характера. …[необходимо] побуждать [представителей] всех народов страны усиливать чувство идентичности по отношению к Великому отечеству, китайской нации, китайской [национальной] культуре, пути социализма с китайской спецификой»121.
Прозвучавшая идея усиления чувства культурной идентичности у граждан страны в деле борьбы против ханьского шовинизма также знаменует собой новый виток в развитии социалистического сознания. Да, идея искоренения национализма отражена в Конституции КНР122, но интерес вызывает то, как китайское руководство подходит к решению этой проблемы. Националистические настроения малых народов КНР обусловлены ханьским шовинизмом. С точки зрения учения о единстве противоположностей, данная связь
120Цзинь Бингао, Гун Сюэцзэн. Тезисы по изучению теории этноса/нации и национальной политике”. С. 142.
121Си Цзиньпин: усиление культурной идентичности [с целью] противоборства великоханьскому шовиниз-
му. 2014/09/30 [Xi Jinping: Zengqiang wenhua renting fandui da hanzuzhuyi]. URL: http://www.zgtks.gov.cn/ jtbd/ww/lingdao/2014–09–30/30430.html
122Конституция КНР с комментариями. Пекин, 2006 [Zhonghua renmin gongheguo xianfa zhushi ben ]. С. 4.
324

предопределяет борьбу против последнего, тем самым лишая цели первые. Когда-то, в июле 1950 г. Дэн Сяопин, работавший в представительных органах ЦК КПК по Юго-Западному району Китая, пригласил на встречу известного этнолога Фэй Сяотуна для обсуждения национального вопроса. Итог беседы был выражен в следующих словах: «Изменить узкий национализм малочисленных народов можно при условии отказа от [ханьского] шовинизма. Мы не можем прежде требовать от этнических меньшинств этого, пока сами по-настоящему не откажемся от него. Так можно объединить [народы]»123.
Несмотря на декларируемую борьбу с ханьским шовинизмом и пропаганду равноправия народов, строительство социалистической нации осуществляется на основе представления о классовом обществе, в гражданском сознании которого этнический компонент размывается. Вместе с тем нельзя отрицать факт демографического и культурного доминирования ханьцев (как формы ян) над остальными народами Китая. Государственное строительство так или иначе предполагает исключения из политики равноправия, во всяком случае, касающиеся таких значимых параметров, как государственный язык, государственное письмо, государственные праздники и ряд других.
Согласно Конституции КНР, государство распространяет путунхуа124 на всю территорию страны125. Однако путунхуа – ханьский язык, и на нем ведется политический диалог с народом страны, осуществляются торгово-экономическое сотрудничество и межнациональное общение. Более того, соответствующий Закон КНР закрепляет право граждан на изучение и использование языка и письменности (ханьцев), а государство, в свою очередь, создает условия для этого. Народное правительство всех уровней на местах обязано принять меры по распространению нормативного китайского языка и китайской письменности. Все это, как гласит закон, необходимо для того, чтобы защитить суверенитет страны и национальное достоинство, объединить народы Китая и построить социалистическую цивилизацию126.
К исключениям также можно отнести праздники, отмечающиеся на всей территории КНР. В соответствии с решением Государственного совета КНР № 644, с 1 января 2014 г. выходными праздничными
123У Юэнун. Дэн Сяопин и Фэй Сяотун беседуют на тему национального вопроса. 2005/04/26 [Wu Yuenong. Deng Xiaoping yu Fei Xiaotong tongtan minzu wenti]. http://theory.people.com.cn/GB/ 40557/47435/47438/ 3350088.html
124Путунхуа – официальный язык, стандартизированный по фонетическим, лексическим и грамматическим признакам с целью общего использования его населением КНР.
125Конституция КНР с комментариями. Статья 19.
126Закон КНР «Об общепринятом языке и письменно-
сти». Пекин, 2001 [Zhonghua renmin gongheguo guojia tongyong yuyan wenzi fa]. Статьи 3, 4, 5.
днями, общими для всех граждан страны, являются Новый год, Праздник весны127, Праздник поминовения усопших128, Праздник труда, Праздник двойной пятерки129, Праздник середины осени130, Национальный праздник основания КНР. Четыре из перечисленных праздников считаются ханьскими и отмечаются по традиционному ханьскому календарю.
Таким образом, объединение народов как задача государства и этнический процесс слияния, вытекающий из него, в определенной степени согласуются с представлением о модели взаимодействия противостоящих друг другу форм или сторон одной формы. Действительно, национальная политика КНР фактически следует словам Мао Цзэдуна о том, что в мире не существует вещей, развивающихся равномерно131. Если принять это за очевидное, то тот же процесс слияния, как и социализм, приобретает свою, китайскую, специфику, в частности отражающую демографическое, культурное и в определенной степени политическое доминирование ханьского компонента.
Государство как форма ян и народ как форма инь, ханьский народ как форма ян и остальные этносы страны как форма инь – все это составляет суть неоспоримой исторической реальности, на протяжении тысячелетий лежащей в основании развития китайской цивилизации. Создать условия, при которых форма вынуждена вступить во взаимодействие с другой, обладающей инициативой, и приобрести статус стороны взаимоотношения в рамках новообразующейся формы, есть квинтэссенция китайской политики…
* * *
Итак, взгляд на национальную идентичность в КНР через призму материалистической диалектики, развивающейся испокон веков в сознании китайца и воплощающейся в различных китайских концепциях мироустройства, позволяет нам говорить о ней как о форме, создающейся в ходе заданного трансформа-
127Китайский новый год. Наступает в первый день первого месяца по китайскому лунно-солнечному календарю; считается самым важным в году. Его продолжительность составляет 15 дней.
128Традиционный праздник, отмечающийся 4-го, 5-го или 6-го числа 4-го месяца по лунно-солнечному календарю. Время происхождения восходит к династии Чжоу (XI в. – 221 г. до н. э.). Обычай праздновать его распространился на многие малочисленные народы Китая.
129Праздник поэта Цюй Юаня (342–278 гг. до н. э., поэт, политический деятель в царстве Чу) или Праздник драконьих лодок. Его отмечают 5-го числа 5-го месяца по лунно-солнечному календарю.
130Китайский традиционный праздник, отмечается 15-го числа 8-го месяца по лунно-солнечному календарю. Время происхождения восходит к эпохе Тан (618– 907 гг.).
131Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 1. С. 326.
325

ционного процесса. Иными словами, она есть продукт активной национальной политики государства. Решение противоречий, лежащих на пути тотального оформления социалистической идентичности, осуществляется в рамках управляемых надэтнических сфер: социалистической экономики, социалистического управления, социалистической идеологии, включающей в себя воспитание и образование. Сторонами противоречия, по нашему предположению, выступают не столько сами народы (в этом случае существует высокая вероятность развития антагонистических тенденций), сколько население администра- тивно-территориальных единиц, образованных по национальному признаку и обладающих правом автономии. Жизнь народа в обозначенном государством районе или уезде протекает в условиях полиэтничности, в определенной степени предупреждающей сепаратизм и способствующей более тесному межэтническому общению в русле заданных социалистических установок. Неудивительно, почему выявленные 55 малочисленных народов КНР, так же как китайская нация, включающая их в себя, называются одним термином – «миньцзу». Если не существует понятийного разграничения, то нет и возможности противопоставления. В этом случае «миньцзу» приобретает диалектическое свойство – народы в нации, нация в народах. Вместе с тем представляется, что главными противоположностями одного целого являются государство в лице своих представительных органов и народ, населяющий его административно-территориальные единицы. В таком виде взаимопроникновение двух составляющих КНР наиболее полно отвечает сути диалектического мировоззрения и историческому духу китайской цивилизации. Максимальная вовлеченность государства в народ позволяет успешно продвигать свою идеологию, решать весь спектр поставленных задач. Максимальная вовлеченность народа в государство позволяет ему в своем развитии выйти на уровень, обозначенный политическим руководством страны. Не об этом ли говорит Цзинь Бингао?
Процесс конструирования национальной идентичности, безусловно, занимает длительное время и требует смены не одного поколения людей. Политическое руководство КНР как молодого социалистического государства особенно чувствительно к результатам своей национальной работы, признанию или неприятию своих трудов гражданами страны. Поэтому национальный вопрос, выраженный в противопоставлении идентичностей, весьма актуален, что подтверждается исследованиями упомянутых выше китайских этнологов Фэя Сяотуна, Чжоу Цзяньсиня, Чэня Синь-
линя, Ци Цзиньюя и других. Он указывает на факт сосуществования в обществе идентичностей двух и более уровней. Однако ни китайские этнологи, ни китайское руководство не видят в этой ситуации ничего негативного. Как говорил Мао Цзэдун, следует сохранять специфичность, отвечающую местным условиям, ибо она необходима в интересах целого, единства страны132. Другое дело, что эта специфичность с течением времени приобретает новое содержание в обозначенных административных границах, внутри которых получают развитие социалистические институты и ценности. Ведь процесс трансформации формы не направлен на консервацию специфики и не подразумевает обратной связи, ибо эволюционистский подход и поступательное развитие общества заложены в материалистической диалектике ханьцев.
История китайской цивилизации изобилует примерами так называемых «трансформационных витков», воплощенных в чередованиях: распад – объединение, сепарация – консолидация, децентрализация власти – династическая империя. Черпая в ней, как в источнике, оправдание и обоснование нынешнего этапа истории китайского общества, политические и этнологические концепции (в том числе китайская теория нации) приобретают авторитетный статус и монополизируют вектор развития. Пропаганда их снижает вероятность какого-либо противодействия всем надстраиваемым установкам государства. Идеологические девизы и политические программы лидеров КНР подчинены установке на строительство социализма с китайской спецификой, создание социалистической нации, а поэтому они не противоречат, но дополняют друг друга. Каждый раз, опираясь на национальные успехи, достигнутые под управлением очередного поколения руководителей КНР, они (девизы и программы) задают все более высокие критерии развития, от которых, как уже говорилось, зависит успех межэтнического сближения и этнического слияния. Вот и ныне идеологический девиз «Китайская мечта», интригующий возможностью разделить общее чувство гордости за неоспоримые достижения китайской нации под руководством КПК и приобрести «кусочек» богатства и могущества в ходе более активного участия в деле социалистического развития страны, оставляет надежды и ожидания на приближение к заветной цели…
132Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 5. Пекин, 1977. С. 352.

Е.Л. Скворцова
СЛОЖНОСТЬ КУЛЬТУРЫ В ВОЗЗРЕНИЯХ ЯПОНСКИХ ФИЛОСОФОВ ХХ в.
Проблема сложности культуры необычайно остро встала сегодня перед научным сообществом. Все чаще звучащие в СМИ апокалиптические заявления о культурной деградации современной цивилизации, о продолжающемся процессе примитивизации
иварваризации населения во всем мире заставляют современных исследователей пристально вглядеться в это многогранное явление, попытаться проанализировать культурный генезис того или иного народа, выявить присущие ему закономерности, чтобы, вооружившись полученным знанием, уметь прогнозировать его будущее развитие. Учитывая необозримое множество дефиниций таких понятий, как «культура»
и«традиция», сразу оговоримся, что считаем наиболее лаконичными и емкими следующие определения, приведенные в работе С.А. Арутюнова «Силуэты этничности на цивилизационном фоне»: «Культура – внебиологически выработанный и передаваемый способ человеческой деятельности»; «традиция – выраженный в организованных стереотипах групповой опыт»1.
Феномен японской культуры в конце минувшего века явился предметом всеобъемлющего и детального изучения ведущих мировых культурологов, применяющих самые последние данные современной науки. Международные конференции, посвященные этой проблеме, прошли, в частности, в Копенгагене (1994), Денвере (1995) и Киото (1996). На последней конференции были зарегистрированы 250 участников из 40 стран; было сделано 175 докладов и сообщений. В центре внимания японских ученых и многочисленного интернационального отряда крупнейших японоведов оказались проблемы специфики японской культуры (нихон бунка-рон) и японской идентичности (нихондзин рон) (в дальнейшем для краткости мы будем именовать эти понятия НБР и НР). Видные исследователи с мировыми именами, такие, например, как Бэфу Харуми – профессор университета Бункё, Хамагути Эсюн – профессор факультета антропологии Осакского университета, Сугияма-Лебра Такиэ из Гавайского университета, Кумон Сюмпэй – директор
1Арутюнов С.А. Силуэты этничности на цивилизацион-
ном фоне. М.: ИНФРА–М, 2012. С. 43, 281
Центра глобальных коммуникаций, Питер Носко из университета Южной Калифорнии и другие оживленно дискутировали на тему национального своеобразия Японии, ее общественной структуры, межличностных отношений, японского национального характера и японской культуры. Ниже мы постараемся изложить наиболее существенные моменты этой дискуссии, дополнив их анализом культурологических работ крупнейших японских философов: Нисиды Китаро
(1870–1945), Вацудзи Тэцуро (1884–1960) и Имамити Томонобу (1922–2012).
Полемика о японской культурной идентичности
Тема самобытности японской культуры в самой Японии имеет давнюю историю, считается, что истоки ее восходят к трудам мыслителей-«почвенников» ХVIII в., принадлежащих к так называемой школе кокугакуха. Тогда на повестке дня стоял вопрос определения фундаментальных основ японской культуры. Этими основами были признаны, во-первых, культ местных богов во главе с Аматэрасу омиками (озаряющей небо солнечной богиней), от которой произошла самая древняя, а потому – и самая истинная династия верховных правителей Японии, императо- ров-тэнно. А во-вторых, принцип эмоционального отклика «моно-но аварэ»2, якобы связывающий воедино всех жителей прекрасных японских островов3.
Следующий всплеск острого интереса к национальной специфике отмечается во второй половине
2Аварэ (моно-но аварэ) – «чары, магия», исторически первая категория «прекрасного» в японской традиционной эстетике.
3См.: Михайлова Ю.Д. Мотоори Норинага. Жизнь и творчество (Из истории общественной мысли Япо-
нии ХVIII в.). М.: Наука, 1988. С. 75–94; Григорье-
ва Т.П. Япония. Путь сердца. М.: Новый Акрополь, 2008. С. 92–94, 153–154; Ониси синори. Югэн то аварэ (Югэн и аварэ). Токио: Иванами сётэн, 1973.
С. 103–191; Bellah R.N. Japan’s Cultural Identity: Some Reflections on the Work of Watsuji Tetsuro // The Journal of Asian Studies. 1965. № 24 (4).
327
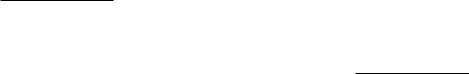
ХIХ в., когда после 250-летней политики изоляции, проводившейся правящим кланом Токугава (1603– 1867), Япония оказалась лицом к лицу с превосходящей в военном и техническом отношении мощью западной цивилизацией. Чтобы избежать колониального порабощения, страна взяла курс на ускоренную модернизацию. Японское общественное мнение разделилось, с одной стороны, на «цивилизаторов и просветителей», стремящихся как можно скорее превратить Японию в подобие Америки или Германии, а японцев – в европейцев; а с другой – на сторонников «изгнания волосатых варваров», желавших вернуть порядки «старой доброй Японии». Впрочем, и те и другие не сомневались в насущной необходимости скорейшего достижения военного и технологического паритета с западными державами4. Дискуссии о дальнейшем пути японской культуры были острыми: надо было определить, кто такие японцы – отсталые, темные, некультурные варвары – или честные, красивые и правдивые носители высших этических и эстетических ценностей. Если в конце ХIХ в. преобладали самокритические настроения, то на волне успехов модернизации, победы в Русско-японской войне и вследствие острой обиды на непризнание равенства японцев в Лиге наций в эпоху Тайсё (1911–1925) произошел так называемый мировоззренческий «поворот» к «исконным ценностям».
Этот поворот завершился в 1930–1940-е гг. безусловной победой национал-шовинистических настроений. В те годы любая критика в адрес милитаристской политики властей, императорского дома или синтоистского культа, обожествлявшего императора-тэнно, так же как и сравнение культуры Японии с культурой Запада в пользу последней, могли закончиться тюрьмой. Поражение Японии в войне вызвало волну самокритики и саморазоблачений. В послевоенное время те качества японской культуры, которыми ранее было принято гордиться, неоднократно подвергались осуждению5.
После успехов новой модернизации в 1960– 1970 гг. наблюдается самый большой всплеск интереса японцев к специфике своей культуры. Страницы журналов и книг заполонил поток публикаций по теме НР/НБР, на радио и телевидении шли горячие дискуссии, посвященные этой проблематике. В них затрагивались вопросы экономики и политики, истории и социологии, литературы и языка, искусства и антропологии, психологии и даже физиологии. Однако качество этих публикаций было в своей массе весьма низким, что признавалось всеми заинтересованными
4Мещеряков А.Н. Император Мэйдзи и его Япония. М.: Наталис, 2006; Чугров С.В. Япония в поисках новой идентичности. М.: Восточная литература РАН, 2010.
5Аида Юдзи. Нихон фудо то бунка (Климат и культура Японии). Токио: Кадокава сётэн, 1972. С. 221–228; Сиратори Тосио. Новое пробуждение Японии / сост., пер., комм. В.Э. Молодякова. М.: АИРО, 2008; Minami Hiroshi. Psychology of Japanese People. Tokyo: Univ. of Tokyo Press, 1971. Р. 20–31.
сторонами. В итоге участники обсуждения пришли к выводу о необходимости подвести черту под дискуссией и наметить пути дальнейших исследований с позиций стабильности и интеграции социокультурного организма Японии на базе нравственных ценностей традиционной культуры. Это и было сделано на Киотской конференции в 1996 г.
Полемика, звучавшая в ходе этой конференции, была весьма острой. Главная линия конфронтации прошла между теми, кто расценивает тематику и методы основного массива литературы НР/НБР как антинаучный этнонарциссизм с креном в национализм (Бэфу Харуми, Миллер) и сторонниками герменевтического и системного подхода (Сугияма-Лебра Такиэ, Хамагути Эсюн). Остановимся на главных пунктах данной дискуссии подробнее.
Позицию сторонников жесткого неприятия концепций НР/НБР как националистических наиболее отчетливо выразил П. Дэйл, который усмотрел в них «совокупность этноцентрических самоопределений, полностью исчерпавших себя в более ранних формах националистического, а зачастую – фашистского крыла европейской интеллектуальной истории»6. Профессор Гавайского университета Сугияма-Лебра Такиэ подвергла критике дихотомический подход к японской культуре, противопоставляющий индивидуализм группизму, рационализм – интуитивизму и т. п. Такой подход хорошо иллюстрирует таблица, которую опубликовал отечественный японовед М.Н. Корнилов, подробно исследовавший содержание и методологию теорий японской специфики НР/НБР7:
__________________________________________
Западная культура |
Японская культура |
|
объективная . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
субъективная |
|
аналитическая . . . . . . . . . . . . . . . . |
синтетическая |
|
логическая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
нелогическая |
|
противоречивая . . . . . . . . . . . . . . . |
непротиворечивая |
|
точная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
неопределенная |
|
безличная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
личная |
|
дальновидная . . . . . . . . . . . . . . . . . |
недальновидная |
|
общественно . . . . . . . . . . . . . . . . . |
фракционно |
|
мыслящая |
мыслящая |
|
предпочитающая . . . . . . . . . . . . . . |
предпочитающая |
|
контракт |
нечеткое соглашение |
|
уважающая частный мир . . . . . . |
вторгающаяся |
|
|
в частный мир |
|
|
человека |
|
пастушеская . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
земледельческая |
|
(по происхождению) |
(по происхождению) |
|
культура плотоядных . . . . . . . . . |
культура народа, |
|
народов |
питающегося рисом |
|
монотеистическая . . . . . . . . . . . . . |
анимистическая |
|
абсолютная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
релятивная |
|
6Dale P. The Myth of Japanese Uniqueness. London – Sydney – Oxford: Choom, Helm and Nissan, 1986. Р. 215.
7Корнилов М.Н. Японская национальная психология.
М.: ИНИОН РАН, 1981. С. 25.
328

дуалистичная . . . . . . . . . . . . . . . . . |
менее категоричная |
интеллектуальная . . . . . . . . . . . . . |
эмоциональная |
бессердечная . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
добросердечная |
аргументационная . . . . . . . . . . . . |
гармоничная |
лишенная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
внимательная |
чувствительности |
к другим |
ригидная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
гибкая |
механическая . . . . . . . . . . . . . . . . . |
человечная |
мстительная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
снисходительная |
культура далеких . . . . . . . . . . . . . |
культура |
отношений |
тесных отношений |
безжалостная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
допускающая жалость |
эгоцентричная . . . . . . . . . . . . . . . . |
конформистская |
экспансионистски . . . . . . . . . . . . . |
миролюбивая |
мыслящая |
|
жесткая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
милосердная |
нетерпимая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
терпимая |
конкурентная . . . . . . . . . . . . . . . . . |
предпочитающая |
|
кооперацию |
эксклюзивная . . . . . . . . . . . . . . . . . |
инклюзивная |
__________________________________________
Сугияма-Лебра подчеркнула упрощенческий характер стереотипного представления о Японии как о гомогенном в культурном отношении обществе. «Япония – страна множественной идентичности, – утверждает исследовательница, – восточная и западная Япония имели ощутимые различия в культурном отношении»8. Идеальный образ человека, близкого к совершенству, считает исследовательница, совпадает в западных и дальневосточных культурах, и это указывает на ограниченность дихотомического способа рассмотрения культурной специфики. Следует помещать эти исследования в более широкий, в частности философский, контекст. Она также обвинила «независимых», а на деле европоцентристски ориентированных исследователей9 в постколониализме и ориентализме10. В их трактовке стремление к культурной самобытности связывается напрямую или косвенно с империализмом и национализмом. По мнению подобных европоцентристски настроенных исследователей, когда японские авторы подчеркивают, например, специфические особенности природной среды, в условиях которой формировалась национальная культура, или специфику японских этических идеалов долга и искренности, это является прямым доказательством их плохо скрываемого шовинизма.
8Сугияма-Рибура Такиэ. Нихон то табунка-ни миру нингэнсэй-но нинсики (Понимание сущности человека
вяпонской и иных культурах) // Нихон бунка ва исицу ка (Японская культура: она иная?). Токио: NHK books, 1996. Р. 216.
9Dale P. The Myth of Japanese Uniqueness; Miller M. Japan’s Modern Myth. N.Y.; Tokyo: Japan Times, 1981.
10Сугияма-Рибура Такиэ. Нихон бунка-но ронри то нингэнкан (Логика и понимание сущности человека в японской культуре) // Нихон бунка ва исицу ка (Японская культура: она иная?). Токио: NHK books, 1996. Р. 35–39, 216–246.
Известный культуролог Хамагути Эсюн поддержал позицию Сугиямы-Лебра по поводу односторонности и предвзятости участников дискуссии о японской культуре. Ключевыми словами, характеризующими ее, являются «культура стыда» (хадзино бунка), «вертикальное общество» (татэ сякай), «групповое эго» (сюданга) и «зависимость» (амаэ). Эти ключевые слова введены в культурологический дискурс соответственно Р. Бенедикт, Наканэ Тиэ, Минами Хироси и Дои Такэо в качестве инструментальных концептов для объяснения особенностей японской культуры11. В результате, пишет Хамагути, «японцы в этих концепциях характеризуются как совершенно гомогенный народ, лишенный в своих действиях автономии, не имеющий своего мнения и намеренный похоронить себя в группе или организации, к которой принадлежит»12. Автор вопрошает, как тогда объяснить высокие достижения Японии в экономике
икультуре. Позиция внешнего наблюдателя, упускающего из виду то, что может увидеть представитель изучаемой культуры, должна быть дополнена взглядом участника этой культуры в рамках герменевтического подхода.
Кроме того, при анализе реалий японской культуры (и других культур тоже), считает Хамагути, нельзя рассматривать «индивидуума» в качестве точки отсчета. Люди разных культур предстают по видимости «автономными», но способы их объединения в группы делают качественно иной всю систему отношений в обществе. Индивидуум – не просто «неделимый атом». «Ни в природе, ни в обществе такой независимый “индивидуум” невозможен»13. Его идентичность определяется социальным и природным контекстом,
ипоэтому для обозначения контекстуального человека Хамагути (чьи мысли созвучны теории отношений А.Н. Уайтхеда (1861–1947), англо-американского философа и математика, автора философии организма) предлагает понятие релатум (яп. канкэйтай). Индивидуум и релатум – две комплементарные точки зрения на человека, равно необходимые для герменевтического подхода к японской культуре14. Своим предшественником Хамагути считает Нисиду Китаро, рассматривавшего человека как «место» (басё) проти-
11Бенедикт Р. Хризантема и меч. Модели японской куль-
туры. СПб.: Наука, 2007; Minami Hiroshi. Psychology of Japanese People; Дои Такэо. Амаэ-но кодзо (Структура амаэ). Токио: Кобундо, 1973; Наканэ Тиэ. Татэ сякай-но нингэн канкэй (Отношения людей в «вертикальном обществе»). Токио: Коданся, 1967.
12Хамагути Эсюн. Нихон кэнкю-ни окэру «хохоронтэки канкэйсюги» («Методологический контекстуализм» в японских исследованиях) // Нихон бунка ва исицу ка (Японская культура: она иная?). Токио, NHK books, 1996. С. 41.
13Там же. С. 10, 287.
14Hamaguchi Eshun. A Metodological Basis for Japanese Studies (with Regard to “Relatium” as its Foundation // Nihon Review. № 9. 1997. Р. 294–295.
329

воречивого тождества «Я» и «другого», единичного и Целого15.
Другой ученый, Бэфу Харуми, принимавший участие и в Киотской, и в Денверской конференциях, прослеживает историю НР/НБР от почвенников школы кокугаку эпохи Токугава (1603–1867)16. Он констатирует, что самооценка японцев волнообразно менялась в зависимости от политической и экономической конъюнктуры: от «автоориентализма» первых десятилетий Мэйдзи или послевоенной самокритики до всплесков шовинизма предвоенных и военных лет и этнонарциссизма 1960–1970-х гг. на подъеме экономики, причем одни и те же качества (групповое сознание, императорская династия) оценивались с диаметрально противоположными знаками17. Бэфу Харуми – один из тех, кто бросает обвинение в национализме японским философам Нисиде Китаро и Вацудзи Тэцуро на том только основании, что первый обмолвился об императорском доме, ставшем одной из опор японской культуры и единства истории, а второй показал, что географические условия играют определяющую роль в формировании оснований материальной культуры (к которым относятся формы трудовой деятельности, структура жилища, особенности одежды и рациона). Одни лишь эти аргументы, как мне кажется, недостаточны для обвинений в национализме по отношению к этим японским интеллектуалам. Остановлюсь подробнее на анализе содержания их работ.
Нисида Китаро о специфике японской культуры
Известный во всем мире японский философ Нисида Китаро (1870–1945) посвятил феномену японской культуры специальную работу18. Данное исследование создавалось в несколько этапов. Сначала его основные положения были сформулированы в рамках работы «Основной вопрос философии» (Тэцугаку коммонтэки-но мондай, 1933). В 1936 г. Нисида про-
читал на эту тему лекцию в токийском парке Хибия, а в 1938 г. – в расширенном виде – изложил студентам Киотского университета. В 1940 г. «Проблемы японской культуры» были подвергнуты цензуре и отредактированы, а затем вышли в свет в издательстве
15Хамагути Эсюн. Нихон бунка ва хонто-ни исицу ка (Японская культура: она действительно иная?) // Нихон бунка ва исицу ка (Японская культура: она иная?).
Токио: NHK books, 1996. С. 290–291.
16Befu Harumi. Geopolitics, Geoeconomics and the Japanese Identity // Cultural Analyses / ed. P. Hosco. Denver: Teykyo Univ. Press, 1997. P. 11.
17Ibid. P. 14–16.
18Нисида Китаро. Нихон бунка-но мондай (Проблемы японской культуры) // Тэцугаку кодза сю. Рэкиситэки синтай то гэндзюцу-но сэкай (Собрание лекций по философии. Историческое тело и реальный мир). Киото:
Тоэйся, 1995. С. 286–320.
Иванами19. Попробую охарактеризовать культурологическую позицию автора. Согласно философской концепции Нисиды, который сам определял свой метод как «диалектический», – мировой континуум переходит от одной конфигурации к другой и движется благодаря «самотождественности абсолютных про-
тиворечий» (дзэттайтэки мудзюн-но дойцу). У мира есть две «оси»: пространственная и временная. Временная ось связана с разумом, причем под «разумом» Нисида понимает многоуровневую систему обратных связей организмов (начиная с клеточного уровня) со средой. Эта система похожа на кибернетическую философию Гр. Бейтсона.
Человек, полагал Нисида, как и любая культура, как и мир в целом, есть единство абсолютных противоречий (единого – множества; организма – среды обитания; тела – разума; себя – другого), ограничивающих/отрицающих и в то же время подразумевающих/дополняющих друг друга. В результате диалектического развития человек, в конце концов, выходит в сферу высшего для него «интеллигибельного мира», который соприкасается с непросчитываемым Абсолютом – «Ничто». «Ничто» выступает для человека в таких абстрактных категориях, как «истина», «добро» и «красота». На этой высшей стадии развития, возможной для человека, он, реализуя свое стремление к Абсолюту, создает формы культуры в соответствии с конкретными условиями своей жизни (религиозные культы, художественные произведения, философские трактаты), достигает ступени самоограничения, подчиняя свою жизнь (или смерть) требованиям Абсолюта. Об этом Нисида писал в своей первой большой философской работе – «Постижение добра (благого)» (Дзэн-но кэнкю, 1911).
Мир культуры, по мысли Нисиды, в идеале есть мир осознанного, праведного и прекрасного самоограничения. Все мировые культуры японский философ считает квазиживыми организмами, которые представляют собой конкретизированные формы (вещественные, текстовые, ментальные) единого культурного «прототипа», единой культурной «подложки» бытия. Эти формы культуры, будучи едиными по своим бесформенным абстрактным принципам, различны в своих воплощениях. Они представляют собой противоречивое единство разнообразных элементов, взаимообусловленных и формирующихся путем ограничения друг друга. Так, японская культура не существовала бы, если бы не зависела от других культур – китайской, корейской, индийской, которые способствовали ее формированию, одновременно ограничивая ее развитие.
Все вышесказанное следует учитывать при анализе работы Нисиды «Проблемы японской культуры». Автор акцентирует внимание на том обстоятельстве, что она является культурой островной страны, в те-
19В данной статье автор опирается на первоначальный вариант текста 1938 г., опубликованный в год 50-летия кончины философа в сборнике философских лекций под редакцией Уэды Сидзутэру (Нисида 1995).
330
